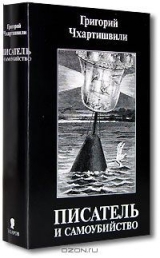
Текст книги "Писатель и самоубийство. Том второй."
Автор книги: Борис Акунин
Жанры:
Психология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 17 страниц)
Ромео:
О смерть с ненасытимою утробой,
Ты съела лучший из плодов земли!
Но вот тебе я челюсти раздвину
И брюхо новой пищею набью.
В. Шекспир. «Ромео и Джульетта»
Писатель нечасто бывает счастлив в личной жизни и еще менее умеет дарить счастье тем, кто его любит. Творческая деятельность неотделима от индивидуализма, а стало быть, и от эгоизма. То, что происходит между поэтом и его музой, часто кажется ему неизмеримо более важным, чем то, что происходит между ним и его женой. Чтобы всецело отдаваться творчеству, поэт должен быть царем и жить один.
Есть и другое обстоятельство, мешающее хорошему литератору быть хорошим семьянином, а хорошему семьянину быть хорошим литератором: довольство жизнью – не та почва, из которой произрастают мощные произведения. Куда лучше пишется, когда автор не удачлив/обожаем/благодушен/обласкан/сыт, а несчастлив/нелюбим/раздражен/гоним/голоден.
Одиночество, столь губительное для обычного человека, литератор переживает легче, оно для него естественное состояние. В сущности, тому, кто одержим творчеством, близкие люди не очень-то и нужны. Скорее, отношения с ними мешают, отвлекают от главного.
Однако все эти профессиональные личностные особенности не вооружают писателя иммунитетом против одного из самых страшных испытаний, уготованных человеку – потери того, кого любишь. Боль утраты – одна из основных причин, по которым люди решают уйти из жизни. Так было с незапамятных времен, так, очевидно, будет и впредь – при любом строе и при сколь угодно высоком уровне развития общества.
Да, типический литератор эгоистичен в личных связях, но от боли утраты это его не спасает. Сосредоточенность на собственных переживаниях, с одной стороны, делает его черствым по отношению к чувствам близких, но, с другой стороны, способна превратить в трагедию вселенского масштаба даже какое-нибудь малозначительное потрясение. Что уж говорить о настоящей трагедии? Писатель подобен ламартиновскому Рафаэлю, всерьез озабоченному лишь состоянием собственного сознания. Если он любит, то для того, чтобы иметь возможность размышлять о своей любви; если горюет, то для того, чтобы упиваться своей скорбью.
Неспособность справиться с горем и жить дальше на фрейдистском языке называется аффектной фиксацией на травматической ситуации. «Случается, что травматическое событие, потрясающее все основы прежней жизни, останавливает людей настолько, что они теряют всякий интерес к настоящему и будущему и в душе постоянно остаются в прошлом…», – утверждает Фрейд в «Общей теории неврозов». При этом потеря оценивается как невосполнимая, лишающая дальнейшее существование всякого смысла. Непреходящая боль утраты, по Фрейду, это патологическая форма печали, ведущая «к такому сильному увеличению раздражения, что освобождение от него или его нормальная переработка не удается, в результате чего могут наступить длительные нарушения в расходовании энергии». Добавим от себя: настолько длительные, что переживший утрату может вовсе не захотеть «расходовать энергию» в дальнейшем и предпочтет умереть.

Чаще всего, говоря о трагической утрате, имеют в виду смерть любовного партнера (прошу извинения за неживой термин, но другого в русском языке пока не придумано). Это самая болезненная из утрат, потому что, теряя любимого супруга или возлюбленную/возлюбленного, человек лишается половины себя.
Однако нередки и случаи, когда «патологическая форма печали» фиксируется на потере близких родственников.
Тяжелее всего пережить смерть собственных детей. Злоязыкий, саркастический Иоганн-Генрих Мерк (1741–1791), ставший одним из духовных вождей движения «Буря и натиск», был прототипом гётевского Мефистофеля, однако закончил свою жизнь совсем не по-сверхчеловечески: у него один за другим умерли дети, и убитый горем отец застрелился.
Гораздо реже встречаются (но все же встречаются) случаи саморазрушительно сильной любви детей к родителям – так сказать, комплекс Офелии.
Сирийский писатель Джамиль Хатмаль (1956–1994), живший и писавший в эмиграции, выбросился из окна парижской больницы, когда из Дамаска пришла весть о смерти его отца, известного художника Альфреда Хатмаля.
Иногда объектом патологической фиксации становится утрата не близкого человека, а некоего предмета или качества, обладавшего в глазах утратившего особой важностью. Объективная ценность потери тут несущественна. Низложенные монархи убивали себя, потому что не могли жить без короны, а вот известный парижский кулинар Ален Жак в 1966 году покончил с собой из-за того, что в ресторанном рейтинге «Мишлен» у его заведения отобрали одну звездочку.
Для писателя таким сверхценным объектом, естественно, являются его произведения. Хрестоматийный пример – легендарное самоубийство римского комедиографа Публия Теренция по прозванию Африканец (190–159 до н. э.). Вольноотпущенник Афер, любимый поэт аристократии, придал низменному жанру комедии благородство и элегантность. До нашего времени дошли шесть его пьес, однако их было гораздо больше. Согласно легенде, плывя на корабле в Грецию, драматург был застигнут бурей, во время которой утонул сундук со всеми его рукописями. От горя Теренций бросился в море, вслед за своими комедиями.
Но это все же случай экзотический, а может быть, и вовсе выдумка позднейших биографов. Обычно убивают себя все-таки не из-за ресторанной звездочки и не из-за рукописи, а из-за смерти любимого человека.
Английская поэтесса Адела Флоренс Николсон, писавшая под псевдонимом Лоренс Хоуп (1865–1904), была женой блестящего офицера, личного адъютанта королевы Виктории, принадлежала к высшему обществу и занималась поэзией для собственного удовольствия, однако ее стихи были не безделицей праздной светской дамы, а новым, дерзким словом в английской поэзии. Адела очень любила своего мужа, генерал-лейтенанта Малколма Николсона, и когда он умер, пережила его всего на два месяца. Поэтесса умерла, приняв яд.
Шарль Барбара (1817–1866), автор популярных социальных романов и еще более популярных детективов, от которых ведет свою генеалогию французский полицейский роман, перенес двойную утрату – лишился и жены, и сына. Помещенный в больницу, где его тщетно пытались излечить от депрессии, писатель выбросился из окна.
В сентябре 1910 года друзья и знакомые Буссенара получили приглашения с текстом, отпечатанным типографским способом: «Луи Буссенар имеет честь пригласить Вас на его гражданскую панихиду, которая состоится (далее следовал адрес). Не в силах пережить смерть своей жены, он уходит на шестьдесят третьем году жизни». Знаменитый беллетрист, путешественник и бонвиван, проживший яркую и шумную жизнь, овдовев, перестал принимать пищу и умер, но перед этим сам решил, кто будет присутствовать на его похоронах.
Агония жизни без любимого человека может затянуться на годы, но такое отсроченное самоубийство происходит лишь при исключительных обстоятельствах. Японский писатель и поэт Хара Тамики (1905–1951), лишившись жены, сказал, что проживет еще один год, чтобы посвятить ее памяти книгу «грустных и красивых стихов», а потом тоже умрет. Дело было в 1944 году, а жил Хара в городе Хиросима. Когда назначенная им отсрочка почти истекла, на город упала атомная бомба, и зрелище массового горя на время заслонило личную драму. Писатель счел своим долгом рассказать миру о случившемся, на что ушло еще шесть лет. Исполнив эту общественную обязанность, Хара вернул себе право распоряжаться собственной жизнью и поставил в ней точку. Годы не смягчили боль утраты.
Впрочем, утрата любимого – это не всегда смерть. Для того, кто страстно, до обсессии, влюблен, не менее горька ситуация, в которой любовь заканчивается разрывом. Самоубийства такого рода были особенно характерны для пылкого XIX столетия, обязанного своим сангвиническим темпераментом прежде всего литературе. Воспевая романтические прелести абсолютной любви, литераторы были готовы отвечать за свои слова, в том числе и собственной жизнью.
Испанский писатель Хосе Мариано де Ларра (1809–1837) всю жизнь упивался любовными несчастьями. Сначала страстно влюбился в женщину, оказавшуюся любовницей его отца. Затем был катастрофически неудачный брак. Долгая и мучительная связь с замужней дамой закончилась тем, что Ларра был отвергнут. После тщетных попыток вернуть взаимность писатель романтично застрелился: сидя перед зеркалом, пустил себе пулю в горло.
Немецкая романтическая поэтесса Каролина фон Гюндероде (1780–1806), благородная бесприданница, жила в дворянском пансионе и предавалась меланхолическим мечтам о титанической любви и прекрасной смерти. Объект возвышенной любви она выбрала крайне неудачно: гейдельбергский профессор Фридрих Крейцер был человеком, во-первых, семейным, а во-вторых, благоразумным. Напуганный чрезмерной экзальтированностью «новой Сафо», Крейцер решил с ней расстаться. Из осторожности, чтобы избежать неприятных очных объяснений, профессор известил влюбленную девицу о разрыве в эпистолярной форме, причем роковое письмо было адресовано даже не самой Каролине, а ее подруге.
Исход драмы был подсказан романтическим духом эпохи, литература которой очень любила такие истории и неоднократно описывала финал подобной коллизии.
Например, так:
Любовь«Мне нельзя жить, – думала Лиза, – нельзя!.. О, если б упало на меня небо! Если бы земля поглотила бедную… Нет! Небо не падает; земля не колеблется! Горе мне!»
Она вышла из города и вдруг увидела себя на берегу глубокого пруда…
(Н. Карамзин. «Бедная Лиза»)
…Окончить муку любви неутоленной,
Еще горшую муку любви утоленной.
Т.С. Элиот. «Пепельная среда»
Эта глава тесно связана с предыдущей, но в качестве главного мотива для добровольного ухода из жизни здесь рассматривается не утрата объекта любви, а сама любовь. Сильнейшее из доступных человеку переживаний, как известно, может быть источником и высшего счастья, и глубочайшего несчастья. Причем самоубийством чреваты крайности обоих этих состояний.
Любовь – самая тривиальная и в то же время самая поэтическая из причин, по которым люди убивают себя. Особенно восприимчивы к возвышенному трагизму любви литераторы обоего пола. По складу личности и характеру деятельности они более простых смертных склонны к суицидальному выходу из подлинно (или воображаемо) драматической любовной ситуации. О связи Эроса и Танатоса написано так много, что, вероятно, нет смысла углубляться в эту тему – достаточно отметить, что кроме всего прочего две эти могучие силы еще и являются главными двигателями творчества. Писателю легче, чем кому бы то ни было, запутаться в мудреных переплетениях Любви и Смерти. Эта глава неслучайно длиннее предыдущих. На пересечении Эроса и Танатоса писатель (как, впрочем, и вообще человек) раскрывается наиболее ярким и впечатляющим образом.
Как уже было сказано, суицидальным исходом грозят две разновидности любви: абсолютно несчастная, то есть неразделенная, и абсолютно счастливая, то есть разделенная до такой степени, что слиянность любящих распространяется не только на жизнь, но и на смерть.
Поэтому глава о любви содержит две контрастирующие части, у каждой из которых свое заглавие. Первую, разумеется, следует назвать
Луга, цветы к чему мне без нее?
Все царства мира и всё злато?
Да и сам мир к чему?
Жоржи Артур
Несчастная любовь – отличный стимул для литературного творчества, гораздо более эффективный, чем любовь счастливая. Страдания неутоленной страсти подарили человечеству куда больше шедевров, чем сытое мурлыканье любви благополучной. Однако безответная любовь для литератора не только возбуждающее средство, но и безжалостный убийца, на кровавом счету которого не один десяток писательских смертей.
В качестве эпиграфа к этой главке взяты строки из предсмертного стихотворения португальского романтического поэта Ж. Артура (1811–1849). Он утопился из-за несчастной любви, прижимая к груди ленту, вышитую той, которая не пожелала ответить ему взаимностью. Целиком стихотворение длиннее, однако поэт вполне мог бы ограничиться одним этим трехстишьем, краткостью и выразительностью удивительно похожим на японское хайку. Главное здесь сказано – и о себе, и о всех других влюбленных страдальцах, кому жизнь стала немила (на языке психоанализа это называется менее романтично: «фиксация на фетишизированной идее»).
Утопился и испанец Анхель Ганивет (1865–1898). Писатель и литературный критик, он был дипломатом и служил консулом в Риге. Неразделенная любовь ввергла Ганивета в черную меланхолию, и он бросился с парохода в воды Двины, был вытащен, но вскоре повторил попытку, и на сей раз спасти его не смогли.
Триада Эрос-Смерть-Вода заслуживает отдельного разговора, но поскольку это увело бы нас слишком далеко от темы, отметим лишь, что неудачливые влюбленные еще со времен Сафо, бросившейся в море из-за холодности прекрасного Фаона, отдавали явное предпочтение именно этому способу самоубийства.
Предыдущая глава закончилась историей утопленницы Каролины фон Гюндероде, которую называют немецкой Сафо. Была своя Сафо и в Швеции – писательница и поэтесса Хедвиг Норденфлихт (1718–1763). Безнадежно влюбившись в молодого литератора Фишерстрема, стареющая покровительница искусств бросилась в зимнее озеро и, хоть была извлечена из воды, но все равно умерла от простуды.
Еще мрачнее был финал другой шведской писательницы Виктории Бенедиктсон (1850–1888), подписывавшей романы именем Эрнст Альгрен. Предметом ее обожания стал блестящий датский критик Георг Брандес. Любовь была заведомо обреченной, поскольку Бенедиктсон, не слишком юная и не слишком красивая, кроме того еще и была инвалидом: во время своего раннего неудачного брака она пыталась совершить самоубийство, но не умерла, а лишь подорвала свое здоровье. На сей раз писательница выбрала верный, но неромантичный и совсем неженский способ, под стать своему мужскому псевдониму: перерезала себе горло бритвой в копенгагенской гостинице.
Конечно, в XVIII и XIX веках из-за несчастной любви убивали себя чаще, чем в нашем несентиментальном и сексуально раскрепощенном столетии, но окончательно эта почтенная, воспетая всеми видами искусства традиция не пресеклась. Были в XX веке жертвы любви и среди литераторов.
Недостаточная любовь Вероники Полонской, несомненно, стала одной из причин, побудивших Маяковского взяться за револьвер. Из-за любви застрелился Всеволод Князев и зарезался эгофутурист Иван Игнатьев, однако в двух последних случаях, видимо, еще и сыграла роль гомосексуальная предыстория обоих поэтов, а это особая тема, которой отведена следующая глава книги.
Но крупнейший итальянский поэт и писатель XX века Чезаре Павезе (1908–1950) умер именно из-за неразделенной любви, других явных причин для самоубийства у него не было. Произошло это в период творческого подъема – в последний год жизни он написал свои лучшие произведения. Литературная слава Павезе была в зените, он только что получил престижную премию «Стрега». Вообще-то в столь эйфорические этапы биографии писатели себя не убивают. «Никогда еще я не чувствовал себя таким живым и таким молодым», – писал Павезе всего за несколько дней до смерти. Но любовная травма оказалась сильнее жизненных и творческих соблазнов. Писателя заворожила «женщина, которую принес мартовский ветер» – американская киноактриса Констанс Даулинг. Привлеченная модой на неореалистическое кино, она приехала сниматься в Италию, и бедный Павезе совсем потерял голову. Он, прежде с утра до вечера просиживавший за письменным столом, послушно таскается за Констанс из города в город, заказывает себе элегантные костюмы, активно участвует в светской жизни.

Чтобы сблизиться с предметом страсти, знакомится с кинорежиссерами, пишет сценарии фильмов, в которых она могла бы участвовать. В конце концов Павезе делает актрисе предложение. «Я люблю тебя, – пишет он. – Дорогая Конни, я знаю вес этих слов, за которыми ужас и чудо, и говорю их почти совсем спокойно. Я так редко и так скверно произносил их на протяжении всей моей жизни, что они звучат для меня почти совсем как новые». Предложение руки и сердца не вызвало у Даулинг ни малейшего энтузиазма, и вскоре она уехала. Павезе отравился в туринской гостинице. Его последние стихи написаны по-английски. Название сборника «Смерть придет, и у нее будут твои глаза». Когда вокруг самоубийства Павезе поднялся газетный шум, актриса удивилась: «Я и не знала, что он был такой знаменитый».
Во второй части главы речь пойдет о другой крайности – любви чересчур разделенной. Брачного обета любить друг друга до тех пор, пока «смерть нас не разлучит», таким влюбленным оказывается недостаточно, они не желают расставаться и в смерти. Это тип самоубийства, в котором человек пытается одержать заведомо невозможную победу как над смертью, так и над предельностью своего «я», сломав перегородку между двумя раздельно существующими вселенными.
Двойные самоубийства любящих известны с незапамятных времен. Они неизменно волновали воображение современников, обрастали легендами и надолго сохранялись в памяти потомков. Такими историями, в частности, изобилует римская литература. В соответствии со стоическими воззрениями эпохи римские писатели делали упор не на любовь, а на чувство долга, но в случаях, когда суицидная инициатива исходила от женщин, даже сквозь сдержанные строки лаконичной латыни можно ощутить несомненное дыхание истинной любви – той самой, которая сильнее смерти. Вообще надо отметить, что в двойном самоубийстве почти всегда главной героиней, проявляющей чудеса храбрости и самоотверженности, оказывается женщина. Любовь – это ее территория, и женщина в любви почти всегда решительнее и безогляднее, чем мужчина.
Некоторые из подобных историй приведены в «Письмах» Плиния Младшего и затем пересказаны Монтенем с куда более эмоциональными, чем в оригинале, комментариями. Плиний, например, рассказывает о своем соседе, который страдал от тяжелой и неизлечимой болезни. Любящая жена сказала, что желает прекратить его страдания и уйдет из жизни вместе с ним. Супруги обвязались веревкой и бросились в море.
Хрестоматийна история консула Цецины Пета и его жены Аррии. Император Клавдий приговорил Пета к самоубийству, но тот страшился смерти и медлил. Тогда Аррия выхватила у мужа кинжал и нанесла себе смертельный удар в живот, произнеся знаменитую фразу: «Paete, non dolet» («Пет, не больно»). «Совершив этот высокий и смелый подвиг единственно ради блага своего мужа, – комментирует Монтень, – она до последнего своего вздоха была преисполнена заботы о нем и, умирая, жаждала избавить его от страха последовать за ней. Пет убил себя тем же кинжалом; мне кажется, он устыдился того, что ему понадобился такой дорогой, такой невознаградимый урок».
В постантичной западной литературе немного примеров двойного самоубийства влюбленных – сказывалась табуированность темы. История Ромео и Джульетты скорее является исключением, да и в строгом смысле относится к иной категории – самоубийства из-за утраты. Ведь Ромео отравился, уверенный, что Джульетта умерла. Если бы фра Джованни оказался порасторопней, юные влюбленные жили бы дальше, даже не помышляя о трагическом конце.
Но есть культура (и, соответственно, литература), в которой самоубийству разделенной любви отведено важное и почтенное место. Речь, конечно же, идет о Японии.
Как поступил бы в двадцатом, да и любом другом веке женатый европейский профессор философии, закрутивший роман с собственной студенткой, то есть попавший в банальнейшую из ситуаций? Развелся бы с женой или, на худой конец, стал бы вести двойную жизнь. Однако известный японский эссеист Номура Вайхан (1884–1921) решил сложную проблему иначе: профессор и студентка сбежали из города на лоно природы, две недели предавались любви, а потом утопились. И никого из современников такой не адекватный ситуации исход не удивил.
Здесь я возвращаюсь к теме синдзю, которой коротко коснулся в японской главе географического раздела. Синдзю – явление настолько яркое, что о нем стоит рассказать поподробнее. Напомню, что само слово, состоящее из двух иероглифов («сердце» и «середина»), буквально означает «внутри сердца» или «единство сердец». Уже из самой краткости японского слова в противоположность неуклюжим европейским конструкциям вроде «двойного самоубийства влюбленных» или «самоубийства по сговору» ясно, что японцы с этим трагическим явлением знакомы лучше и чувствуют себя с ним гораздо уютней. Именно этим термином я и буду пользоваться в дальнейшем, даже когда речь пойдет о совершенно «неяпонских» самоубийствах западных писателей.
Слово «синдзю» не всегда означало непременно смерть. В 1678 году был опубликовал трактат «Большое зеркало Иродо», излагавший поведенческий кодекс служительниц Иродо, «Любовного пути». В Японии к морали относились серьезно, без нее не могло существовать ни одно сословие: у самураев – Бусидо, у куртизанок – Иродо. В трактате обозначены пять степеней синдзю, под каковым в XVII веке понимались «доказательства любви». К этому средству жрица любви должна была прибегнуть, чтобы продемонстрировать, до какой степени ее сердцу дорог возлюбленный. Первая ступень – татуировка (ну, это, впрочем, знакомо и нам, хотя в большей степени распространено у подростков, матросов и уголовников). Далее по возрастающей следуют обрезание волос, написание любовной клятвы, обрезание ногтей и наивысшее из неистовств – отрезание мизинца. О самоубийстве в трактате ни слова. У средневекового писателя Ихары Сайкаку в первой истории знаменитого цикла «Пять женщин, предавшихся любви», описан сердцеед Сэдзюро, у которого в девятнадцать лет уже была собрана коллекция из нескольких тысяч клятв и целая шкатулка с обрезанными ногтями влюбленных девушек.
Новым грозным смыслом слово «синдзю» наполнилось на рубеже XVII и XVIII веков, когда в моду вошли спектакли Кабуки и театра марионеток о самоубийствах влюбленных, которые из-за жесткой социальной структурированности японского общества не могли соединиться и предпочитали расставанию смерть. В наследии Тикамацу Мондзаэмона, которого называют «японским Шекспиром», по меньшей мере полтора десятка пьес, построенных на самоубийстве влюбленных. Подобно «Вертеру» в Европе, пьесы порождали новые самоубийства, и вскоре синдзю стало неотъемлемой частью японской традиции.
Синдзю подразделяется на истинное и ложное, то есть совершенное против воли одного из участников. Обычно инициатором такого убийства/самоубийства бывают мужчины, действующие по принципу «не доставайся же ты никому». Только в Японии Карандышев, убив Ларису, не кричал бы: «Что я, что я… Ах, безумный!», а тут же наложил бы на себя руки, и тогда какой-нибудь японский Островский написал бы пьесу для театра кукол, в которой Карандышеву досталась бы куда более завидная роль, чем в «Бесприданнице».
«Ложное синдзю» для Запада не новость. Случалось ступать на эту скользкую (от крови) дорогу и писателям. Правда, женщину, которая не желает соединяться с влюбленным в смерти, убить оказывается не так-то просто. Во всяком случае, такому нескладному существу как литератор. Французский писатель Эрнст Кордеруа (1825–1862) решил уйти из жизни вместе с женой, гонялся за ней по саду с пистолетом, но догнать не сумел и был вынужден умереть в одиночестве. Упомянутый чуть выше Иван Игнатьев тоже не хотел погибать один – после первой брачной ночи набросился на жену с бритвой, однако она вывернулась, и тогда он перерезал себе горло. И уж совсем некрасивое синдзю получилось у Такэути Масаси (1898–1922), японского публициста и критика, который неудачно посватался за девушку из консервативной семьи, ответившей несолидному человеку отказом. Такэути хотел зарезать себя и свою любимую, но та проявила ловкость и убежала, после чего несостоявшийся жених в бешенстве убил ее родителей, а потом себя.

Настоящее синдзю – такое, когда гоняться друг за другом с бритвой или пистолетом не приходится. Настоящее синдзю встречается не так уж редко и в жизни, и в литературе, и в жизни литераторов. Подобные драмы вызывают у нас, живущих, волнение особого рода: тут одновременно и мороз по коже, и странное чувство гордости за человечество. Есть трогательная патетичность в попытке доказать, что любовь важнее смерти. И действительно, синдзю заслоняет смерть, словно бы отодвигает ее на второй план. Происходит победа Эроса над Танатосом, причем на его собственной территории и на доступном ему языке.
В историях о двойных самоубийствах писателей, где бы те ни жили и где бы ни умерли, ощутим истинно японский привкус серьезной любви, любви не на жизнь, а на смерть. Поэтому последнюю часть главы, посвященную примерам истинного синдзю, я назову на японский лад, в духе новелл Ихары Сайкаку:








![Книга Обмен мнениями [=Симпозиум] автора Милан Кундера](http://itexts.net/files/books/110/no-cover.jpg)