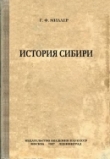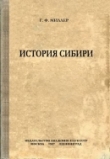Текст книги "Лазурный след. Путь ученого Яна Черского к разгадке тайн Сибири"
Автор книги: Болеслав Мрувчинский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 6 страниц)
Мрувчинский Б.
Лазурный след. Путь ученого Яна Черского к разгадке тайн Сибири. Повесть о солдате, который забрался за Полярный круг. Художественная литература
Вместо вступления: Поэзия перевода
Вспоминая предысторию перевода книги «Błękitny trop» Bolesława Mrówczyńskiego, я не могу не написать о добром прекрасном начинании в кружке по изучению польского языка, предваряющем создание клуба «Висла» при Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеке им. И. И. Молчанова-Сибирского (24.10.1969). Это начинание, а именно идея коллективного перевода книги «Błękitny trop» (в первом русском звучании «Голубой след») было предложено нашим первым языковым учителем, Марией Яновной Бушман(ис) и старейшим членом клуба, журналистом и писателем Александрой Никифоровной Граниной.
К сожалению, ввиду моего отсутствия в то время в Иркутске (командировка в Монголию), мне не удалось оказаться в числе этой инициативной группы первых «вислян», но одно счастливое обстоятельство позволило мне, уже после окончания собственного перевода этой книги, снова вернуться к этому факту в апреле 2020 г.
Перелистывая страницы книги «Паруса “Вислы”», написанной первым председателем клуба «Висла» Валентином Петровичем Брянским и изданной в Иркутске в 2009 году, я обнаружил его статью «Поэзия перевода» и счёл, что отрывок из этой статьи станет самым подходящим вступлением к моему переводу книги и одновременно благодарным воспоминанием всем тем «вислянам», принявшим активное участие в переводе этой прекрасной книги. Ведь и этот первый, может быть, не совсем умелый перевод подвигнул меня закончить всё-таки начатое ими дело.
Ещё в кружке М. Бушман, едва научившись читать и работать со словарём, мы увлеклись переводами: всем не терпелось побыстрее сказать своё слово в изучаемом языке. Каждый выписывал по почте какой-нибудь журнал, немало их было и в библиотеке: всем нравился «Юмор в коротких штанишках» из «Шпилек».
Как-то Александра Никифоровна Гранина принесла на занятие кружка толстую книгу в светлом матовом переплёте. Мы не сразу поняли, что означает «Błękitny trop» Bolesława Mrówczyńskiego, но, когда выяснилось, что это художественное произведение польского писателя-варшавянина о Яне Черском, всем немедленно захотелось прочесть его, однако пугал объём книги. И тогда Мария Яновна предложила коллективно перевести её на русский язык (а такого перевода ещё не было), а уже потом прочесть книгу. Был составлен перечень глав и фамилий «переводчиков», получил свои главы, и я с женой. Когда подошла наша очередь переводить, я не удержался и одним залпом «проглотил» книгу.
Оказывается, А. Н. Гранина была лично знакома с писателем, помогала ему собирать материалы о сибирском периоде жизни и деятельности замечательного учёного, была у него в гостях, вела обширную переписку.
Знакомясь с романом, мы загорелись желанием поближе познакомиться и с автором, вся жизнь которого была наполнена политической и общественно-просветительской деятельностью.
Выходец из бедной крестьянской семьи, Болеслав Мрувчинский рано познал тяжёлый труд, но, одарённый от природы, уже в школьные годы он проявил свой организаторский талант в создании школьного краеведческого музея. Он первый организовал в Польше передвижные библиотеки, был инициатором создания промышленного университета. Забывая о собственных интересах, Мрувчинский всегда был там, где труднее, открывая людям путь к знаниям. Интернационалист и патриот своей родины, в годы фашистской оккупации писатель много раз подвергался смертельной опасности в своей деятельности подпольного характера, был узником концентрационного лагеря, из которого в конце концов бежал. В день освобождения лагеря от немецко-фашистских захватчиков он въехал в родной город на советском танке.
После освобождения страны Мрувчинский активно включается в общественно-просветительскую работу, принимает участие в работе Конгресса науки, который назначил комиссию по организации Польской академии наук.
Он поздно начинает свою литературную деятельность, только в 50 лет, а его первый роман был издан в 1954 году, но в последующем число его произведений достигло двух десятков, а тиражи превысили миллион экземпляров. Особенностью романов Мрувчинского является то, что их действие развёртывается во многих странах, охватывая различные исторические эпохи, главными же героями выступают поляки, проявляющие стойкость характера и мужество в борьбе за свободу. Среди них – ботаник Мариан Рациборский на Яве, инженер Малиновский – строитель железной дороги в Перу, исследователь Сибири Ян Черский и многие другие.
С писателем завязалась оживлённая переписка, результатом которой явилось его согласие на перевод и издание книги «Błękitny trop» о Яне Черском на русском языке. А уже вскоре Мария Яновна сложила наши обработанные переводы толстой стопкой и сдала их в переплёт. В таком виде они ждут где-то до сих пор своего часа…

Александра Никифоровна постоянно писала статьи о Черском. К 95-летию со дня его первого маршрута в Тункинские и Китойские гольцы она посвящает свою статью «Жизнь – подвиг», к 125-летию – статью «Жизнь, отданная науке» и другие. Но наиболее полно своё отношение к большому учёному она проявила в научно-библиографической работе, изданной в виде отдельной книги.
Ю. И. Перцовский,переводчик с польского языка, потомок повстанца 1863 года, участник клуба «Висла», патриот Иркутска
I. Боевое крещение
1
От Иртыша тянул холодный осенний ветер. Шимон Токажевский, ещё не старый человек, но сохраняющий в себе что-то патриархальное благодаря длинной и старательно ухоженной бороде, обвёл окрестности взглядом: повсюду расстилалась совершенно плоская степь. Ближе стлались по ней пожелтевшие, слегка увядшие травы, дальше в однообразном монотонном покрове серо-коричневого цвета уже не улавливалось желтизны. Только на горизонте несколько менялся пейзаж: призрачно, словно сотканные из паутины, там вырисовывались киргизские юрты.
– Как всё это мне знакомо! – вздохнул он. – Семь лет человек здесь хлопотал, и снова его нелёгкая принесла…
Он задумался, глаза начали бесцельно бродить по спинам людей, шагающих перед ним. Он шёл посредине одной из этих многочисленных групп изгнанников, которые появлялись из Польши после Январского восстания и, как поднимающаяся беспрерывная река, катились теперь по Сибирскому тракту к местам каторги и поселения. В ней находились мужчины в расцвете лет, не было недостатка и в молодёжи, которая прямо со школьной лавки шла в бой, были и старики, едва волочившие ноги. Были также женщины: те, которых схватили в пути, когда они везли прокламации для повстанцев, и те, которых схватили дома за оказание помощи воюющим братьям и отцам, и также, наконец, те, которые шли за мужьями, чтобы вместе разделить их судьбы, порой ещё с детьми на руках. Самые слабые ехали на двигающихся позади немногочисленных подводах, другие шли пешком, неся на плечах своё небольшое имущество.
Токажевский посмотрел на это всё, меланхолично покачал головой, и его взгляд снова устремился вдаль. Он энергично расправил плечи. Заметил перед собой что-то, что в одно мгновение улучшило его настроение.
– Вот и Омск! – воскликнул он. – Наконец человек отдохнёт. Наверное, отыщет меня кто-то из моих друзей!
Он словно помолодел. Указывал оживлённо на появляющиеся из впадины церковные купола, выглядывающие постепенно казармы, городские здания, на широко раскинувшиеся предместья. Город не был большим, на первый взгляд создавалось впечатление сильно укрепленного военного лагеря, но в этой пустынной степи он удивлял и размерами, и необычностью. При этом в самой середине имелось то, что в этой окрестности должно было возбуждать восторг: небольшая группа деревьев, выглядящая с этого расстояния как публичный парк и место прогулок.
– В самом деле, это сад, – подтвердил Токажевский, когда кто-то обратил внимание на эту зелень. – А по правде говоря, только скромная, берёзовая роща, потому что ничего другого здесь не вырастет. В воскресенье играет в нём военный оркестр, а видите эту единственную стройную башенку? Это евангелическая церковь…
Окружали его те молодые, охотно ловящие каждое его слово, потому что почитали как возраст, так и жизненный опыт этого человека, который уже второй раз шёл на каторгу. Некогда принадлежал он к тем, которые под руководством Конарского ширили в деревенских хатах национальное самосознание и стремление к образованию. После возвращения из изгнания не прекратил он этой деятельности и не изменил своих взглядов. Шляхтич по происхождению, научился он сапожному мастерству и латал обувь, находя в Варшаве многочисленных клиентов и ещё более многочисленных слушателей. Поэтому новый арест воспринял он достаточно безразлично. Он отнёсся к царскому приговору, как к «Почётной грамоте» за свою работу, и когда только покинул он тюрьму, вернулось к нему хорошее настроение. Он хорошо знал изгнаннический тракт и чувствовал себя на нём свободно. В деревнях, в городах и на этапах он находил каких-то знакомых, с жандармами находил общий язык, среди чиновников чувствовал себя «как рыба в воде». Следовательно, ничего удивительного, что эти молодые не чаяли в нём души и не отступали ни на шаг. Теперь, однако, слушая эти рассказы об Омске, в которых неоднократно звучал восторг, начали они поглядывать на него с некоторым удивлением. Знали они, что пережил он в этом городе тяжёлые, порой трагические мгновения. Кто-то при этом неуверенно покашливал, кто-то ворчал. Токажевский пытливо взглянул на их лица и внезапно утратил нить разговора.
– Смеётесь в душе над стариком, – произнёс он, прикрывал смущение добродушностью. – Радуюсь при виде тюрьмы, как если бы увидел родной дом. Ну что же мои дорогие… Семь лет здесь пробыл, и это объясняет многое. За такое время человек смог бы привыкнуть даже к аду. А этот Омск ещё не ад, потому что встретил я здесь много порядочных людей. Даже друзей, мои дорогие, сердечных людей. Таких, что смогут протянуть руку, когда у тебя уже нет сил, когда чувствуешь, что, если упадёшь, не поднимешься больше.
Его голос задрожал от волнения. Идущий рядом с ним Ян Черский, стройный блондин с голубыми, как васильки глазами, повернул к нему голову, как будто хотел разглядеть его.
– На самом деле здесь есть такие? – спросил он. – В Тобольске их не заметил.
– Так ты смотрел только на жандармов и чиновников. Но когда…
Он замолчал внезапно, что-то другое заняло внимание всех. Тракт закончился, перед ними показались первые дома. Как раз с улицы выехал какой-то офицер. Красиво остановил коня перед командиром конвоя, побеседовал с ним в течение минуты, а затем отодвинулся в сторону, пропуская перед собой марширующую колонну.
– Здравствуйте земляки! – вежливо отдал он честь. – Как здоровье? Не было ли в дороге происшествий?
Это был молодой поручик, весёлый, бравый, подчёркивающий каждым словом и жестом свою доброжелательность. Староста этой группы изгнанников охватил его внимательным взглядом и ответил также любезно. Завязалась короткая беседа о дорожных приключениях и о местах ссылки. Офицер ехал медленно, чтобы приноровиться к их шагу.
– А к нам нет желающих? – спросил он, обращаясь теперь ко всем.
Из группы марширующих рядом с Токажевским поднялось несколько рук. Были это повстанцы, сосланные в «солдаты». Поручик дружелюбно кивнул головой.
– Статные парни, – отметил он одобрительно. – Будет вам у нас хорошо. А значит, до встречи в казармах! Всем другим желаю хорошей дороги.
Он снова отдал честь и направился по своим делам. Черский повернул голову. В течение какого-то времени он внимательно наблюдал за исчезающим в тумане пыли силуэтом.
– Славный человек… – произнёс он в задумчивости. – Так я привык в дороге к хамству, скрывающемуся под мундиром, что этот показался из другого мира. Подтверждаются ваши слова: в этом Омске…
– Не делай преждевременных выводов! – заметил Токажевский резко. – С виду славный, а выпьет четвертинку водки, и превратится в сволочь. Знал я таких!
– Этот, однако, не выглядит негодяем, – заметил другой ссыльный. – Молодой, может, поэтому… Что-то несколько изменилось, однако, похоже, и в России. Слышал в дороге от других партий ссыльных, что в Москве студенты устраивали в вашу честь громкие манифестации…
– А нас забросали камнями. У Янека до сих пор ещё шишка на голове. Вероятно, нужно признать честно, что совершили это не студенты, а уличный сброд.
– Разумеется: сброд. Получил водку на царские рубли, следовательно, заводил песню нам на погибель. Это не значит, что других не было…
Так, болтая, медленно приближались они к центру города. Жандармы начали бегать вдоль шеренг, орать, щёлкать нагайками, наводить порядок. В основном никто на это не обращал внимания; все знали, что делают они это ради показухи, для придания своей особе важности. Естественно, Черский поник. Встреча с поручиком улучшила несколько его настроение, на мгновение забыл он о мрачной действительности; в настоящее же время дала она снова о себе знать. Перед лицом толпы зевак, чернеющей по обеим сторонам улицы, и при этих беспрерывных окриках жандармов ещё раз отдал он себе отчёт, что он невольник, нищий, без семьи и родины, ничтожный червь, которого каждый жалкий солдат может оскорбить, заковать в кандалы, затоптать. Такие случаи происходили во время этого тягостного путешествия.
Был он здесь никем, человеком без прав. И не раз разрывал его гнев, но быстро уступал он место печали. Он отлично понимал всё своё бессилие. И помимо воли начинали тесниться утраченные картины: Вильно, школа, коллеги, мать, сестра, родной дом… Каждый шаг вперёд отдалял от этого и каждый приближал к Благовещенску. Там, собственно, в тысяче километров от Омска, на Амуре, должен он был неограниченное количество лет оставаться в штрафном батальоне, как солдат царя. Того царя, с жестокой силой которого он недавно боролся за свободу.
В колонну вторглось несколько женщин. Старым сибирским обычаем они раздавали подарки. Исчезли воспоминания, чем-то другим были заняты мысли. Полюбил он этот порыв сердца местного населения, который он наблюдал уже многократно во время путешествия по Сибирскому тракту. В придорожных деревнях, где непрерывно проходили колонны, тракт приобрёл несколько другие формы: там главным образом продавали кушанья, но по таким низким ценам, что даже самый убогий мог себе их позволить. В городах же этот обычай сохранился в прежней форме. Давал и богатый, и бедный: то буханку хлеба, то кусок мяса, то пирог, то опять же деньги. В партиях ссыльных подаяние брали не все. Для тех, однако, которых взяли прямо с поля боя и которые часто не имели копейки за душой, эти подаяния становились порой спасением.
Черский не принимал подаяний: ещё водились деньги в его карманах. Однако всегда впадал он в смущение, когда кто-то подходил к нему, а он должен был отказать. Он отдавал себе отчёт, что жертвователи испытывают при этом огорчение. Раньше он краснел в таких случаях, долго оправдывался. Постепенно он приобрёл сноровку: объяснял коротко, что ему ничего не нужно, благодарил и просил о передаче подарков другим.
И теперь он поступил подобным образом. Прошёл мимо одной женщины, второй, третьей. Неожиданно остановилась перед ним великолепно наряженная ещё молодая женщина с корзиной, доверху наполненной свёртками.
– Берите, парни! – пригласила она певуче мягким сибирским произношением. – Даю от всей души и сердца. Будьте здоровы!
Взял тот и этот, Черский же вежливо поблагодарил. Охватила она его немного обиженным и немного удивленным взглядом, но не произнесла ничего. Он отступил в сторону и сделал шаг вперёд. Но приостановился неожиданно. Из-за его спины выдвинулась красивая черноокая дивчина. Она была совсем молоденькой, наверное, не более пятнадцати лет. Однако у неё не было недостатка в смелости. Загородила ему дорогу.
– А может, от меня примет? – спросила она кокетливо. – Матушка, – обратилась она к женщине, раздающей гостинцы, – дай корзину!
Черский зарумянился. Испугали его эти прекрасные глаза, немного вызывающие, но одновременно удивительно добрые и ласковые; заворожил голос, звонкий и мелодичный. Поблагодарил он как обычно, но смутился окончательно.
Взгляд его заметался неуверенно и неожиданно остановился на прекрасной, пунцовой розе, украшающей девичью грудь. Охватило его громадное удивление. Откуда взялся здесь этот цветок?.. Не видел он в дороге ни одного садика, ничего нигде не росло. Только дома и пыль…
Колонна медленно двигалась. Он хотел отойти, но охватило его какое-то бессилие. Ноги словно вросли в землю и отказали слушаться ему.
– Вот и корзинка пустая! – раздался рядом обрадованный голос матери. – Славные ребята, взяли всё. Идём, Машенька!
Черский наконец собрался с силами.
– Благодарю за благие намерения и доброжелательность. – До свидания!
По лицу девушки скользнула обида, но она сразу уступила место игривости и упрямству.
– А я с пустыми руками не пущу! – произнесла она весело. – Не захотел пищи, дам другой гостинец. Такой, наверное, примет.
Она отцепила розу, и, прежде чем он успел что-то сказать, сунула её ему в руку. Они сразу отскочили друг от друга, потому что как раз появилась рядом первая телега, а шагающий рядом с ней жандарм что-то крикнул резко. Черский зашевелился быстрей и немного приподнял розу. В слабом свете осеннего неба она заиграла теплом; пунцовый цвет её мило приоткрытых лепестков замаячил в форме женских губ, обожгла мысль воспоминанием о домашнем очаге. Он опустил руку: перед ним появились согнутые узлами спины ссыльных. Он осмотрелся вокруг: по обеим сторонам улицы стояла густая толпа, наблюдая это шествие, как зрелище, рассеивающее ежедневную скуку. Нигде не было ни одного деревца, ни кусочка зелени… Он взглянул на дома, и сразу что-то потрясло его до глубины души.
За стёклами окон распускались словно целые сады: огромное богатство цветов всяческих красок и оттенков. Здесь, снаружи, скосил бы их мороз или чрезмерная жара; там, внутри домов, они чувствовали себя безопасно. Кто-то следил за ними, ухаживал заботливо, всю свою душу вкладывал в это разведение цветов в горшках. Подчиняли они своей красотой и яркостью, притягивали к себе, манили внутрь. И обещали, что там, за стёклами, всегда найдётся уютный уголок для каждого, кто после ежедневного труда захочет спокойствия и тишины…
Колонна остановилась, ослабевший уже до этого порядок развалился окончательно. Черский оторвал взгляд от окон. Вместо цветов он увидел перед собой земляные валы, мрачные здания казарм, тяжёлые крепостные ворота и солдат в шапках без козырьков, стоящих перед ними на карауле. Таких самых, с какими он бился во время восстания. Какая-то неприятная горечь начала подкатываться к горлу, он медленно проглотил слюну. На голубые, добрые, почти детские ещё глаза навернулись слёзы.
2
Обычно всё происходило так, что при раздаче гостинцев сопровождающий колонну эскорт не только, не вмешивался ни во что, но даже на многие вещи смотрел сквозь пальцы. Очевидно, в этих условиях люди перемешивались между собой, приостанавливались, время от времени и разговаривали, случалось даже, что утрачивался на мгновение всякий порядок. Тем более что в Омске жандармы старались держать себя сдержанно. Всё-таки здесь размещалась резиденция генерал-губернатора Западной Сибири и большой гарнизон. Несомненно, в этой толпе встречающих находились также жёны и семьи местных сановников, следовательно, каждая неосторожность могла наделать хлопот. Поэтому быстро умолкло щёлканье нагаек, утихли чрезмерные крики, и наконец совершенно не было слышно приказаний. Жандармы как будто провалились сквозь землю. Здесь, перед входом в крепость, где собралась самая большая толпа, впрочем, их всё перестало интересовать. Они сделали, что им было приказано, и сейчас закончили службу. Следовательно, и тот, и этот, заметив знакомого, вступал в беседы и даже радовался, что колонна остановилась, сопровождающие не боялись, что кто-то убежит. За количественный состав отвечал прежде всего староста, выбранный ссыльными, а кроме того, Сибирь была ведь одной большой тюрьмой. Беглеца всегда схватят, и только это выйдет ему во вред.
Ворота были постоянно заперты. Черский без спешки пробрался до середины колонны и занял прежнее место рядом с Токажевским. Едва он только приостановился, как собравшаяся вокруг толпа заколыхалась, потому что кто-то там пробивался сквозь неё с большой энергией. И неожиданно вывалился из неё полнотелый, но ещё крепкий и полный воодушевления, старик. Он остановился на мгновение, осмотрелся лихорадочно и сразу всплеснул руками.
– Шимон Себастианович! – выкрикнул он, бросаясь Токажевскому на шею. – Ты ли это? Действительно ты, бедняга?
Люди начали снова тесниться, потому что это был Попов, известный всем местный купец. Каждый хотел увидеть, кого же он отыскал среди этих «самых больших политических преступников» и что его с ним связывает. Токажевский давно упоминал, что встретит в этом городе преданных друзей, и оказалось, что не только не преувеличил, но сказал даже очень мало: ведь приветствовал его здесь не поляк, но коренной сибиряк и до того публично, на глазах всех, перед лицом жандармов и офицеров. Он обнимал Токажевского, целовал, печалился о его доле, как если бы встретил среди ссыльных кого-то из своих самых близких.
И Токажевский расчувствовался. Попов принадлежал именно к тем людям, которые в самые тяжёлые минуты его жизни протянули ему руку помощи.
– Как удивлялись мои ребята, что я так обрадовался при виде Омска, – произнёс он, вытирая мало-помалу глаза. – Теперь, наверное, понимают меня. Таких приятелей редко встретишь…
– У тебя здесь их много! – крикнул старик. – Сразу побегу сообщить им. Ну что же ты, – отстранился он несколько и взглянул на него испытующе, – решил ещё раз совершить такое странствие! Ну, ну…
– Так должно быть. Не было у меня другого выхода.
В голосе Токажевского прозвучала глубокая серьёзность. Попов мягко покачал головой, словно отлично его понимал.
– По-видимому, так должно быть, – подтвердил он. – Человек в твои годы и с твоим опытом глупостей не совершит. Останешься в Омске?
Он снова всплеснул руками, когда узнал, что поляка направили на этот раз на тысячу километров дальше, в окрестности Иркутска.
– Не выпустим тебя отсюда! – возразил он энергично. – Как-нибудь это уладится. Нигде тебе не будет лучше, чем здесь!
Токажевский отнёсся к этому неожиданно без энтузиазма.
– Не хлопочи об этом, – произнёс он. – Знаю, что было бы мне здесь хорошо, но должен туда ехать, куда меня направили. Так нужно.
Попов взглянул на него быстро.
– Гм, нужно… – пробормотал он. – Ну, если нужно…
Ворота открыли, ссыльные начали без спешки передвигаться к крепости. Старик крепко пожал руку Токажевского.
– Сегодня ещё зайду к тебе, – добавил он сердечно. – Поговорим обстоятельней…
Проводил его несколько шагов, а потом смешался с толпой. Колонна миновала ворота и приобрела обычный вид. Черский снова шёл рядом с Токажевским. Он был задумчив, как-то удивительно вял и медлителен, казалось, что каждый шаг даётся ему с большим трудом. Только когда миновали они следующие ворота, он несколько оживился. Жизнь скитальца имела свои железные правила: нужно было приготовить себе угол для сна, распаковать вещи, очистить пол и стены от слоняющихся всюду насекомых. Понукал его, впрочем, Токажевский и так же, как другим, давал неустанно наставления: бей клопов без милосердия, потому что иначе они лишат тебя жизни! Не думай слишком, потому что засохнешь от жалости. Не жалей рук, пусть учатся быстрее, потому что собственная голова подведёт тебя здесь…
Бормоча так полушутливо, он сам крутился энергично, приводя в порядок грязные покои с предусмотрительностью старого «стреляного воробья». Однако работа была тяжёлой, клопы, это ужасное бедствие Сибири, облепили всё, появлялись тысячами из каждой щели. Не принимал он это близко к сердцу, потому что не было здесь хуже, чем на других этапах, и безучастно давал приказания. Велел разжечь огонь в печи, бросать в нее, что удалось сгрести, заливать кипятком, заклеивать щели хлебом. Все охотно исполняли его указания. Убеждались порой во время путешествия, что, если их не исполнишь, ночью не сомкнёшь глаз.
– А что, как в салоне? – подбоченился он и огляделся удовлетворённо, потому что спустя два часа напряжённой работы паразиты, по крайней мере на первый взгляд, исчезли полностью. – Те, которые были перед нами, пожалели хлеба или же об этом не знали, поэтому, без всякого сомнения, потеряли немало крови. Мы же, однако, не поддадимся! Хорошо подметите, парни, и можем принимать гостей!
И гости действительно начали вскоре прибывать. Сперва появился какой-то поляк, который в течение долгого времени пребывал здесь на поселении. Он побеседовал со всеми, расспросил о дороге, особенно интересовался теми, которые должны были остаться в Омске, и ушёл. После него прибыли два сибиряка, которые каким-то образом обнаружили в этой партии своих знакомых. Затем, согласно обещанию, снова появился Попов. На следующий день произошло что-то такое, что привело всех в удивление.
Ранним утром за окнами неожиданно гулко раздались твёрдые солдатские шаги и, немного погодя, кто-то сильно толкнул двери прихожей. Вошла элегантно одетая дама в фиолетовом, обрамлённом соболями пальто и красивой шляпке, которые удовлетворили бы требованиям наиболее привередливых щеголих Парижа и Петербурга. Лица нельзя было увидеть, его полностью закрывала вуаль.
Дама остановилась у порога, а в покои ссыльных влетел молодой взволнованный офицер.
– Шимон Себастианович Токажевский! – произнёс он чётко. – К вам гость. Позвольте!
Солдаты внесли большую корзинку и исчезли, сразу удалился и офицер. Токажевский с дамой остались наедине в прихожей. Их не было видно. Только доносились до основного помещения отдельные фразы и смех: бурный, серебристый смех, несомненно, очень молодой женщины.
Долго продолжалась эта беседа. Когда дама наконец удалилась, Токажевский снял с корзины покрывало.
– Ешьте и пейте, сколько душе угодно, – произнёс он, скрывая серьёзностью, распирающую его радость и веселье. – Подарок не из милости, а от сердца. Положил я на это когда-то много сил.
Его окружили кольцом. Отовсюду начали раздаваться полные любопытства настойчивые вопросы.
– Эх, что там говорить! – прервал он вопросы взмахом руки. Это Вера Максимилиановна, – добавил он как бы с неохотой. – Родственница Грава, прежнего коменданта крепости.
Он вытащил бутылку вина. Без спешки открыл пробку, а потом налил в кружки и себе, и другим.
– В настоящее время жена одного из здешних генералов, – объяснил он. – Скажу вам: славная дивчина! – вспыхнул он внезапно. – Когда познакомился с ней, была она едва подростком, однако уже тогда была сильна разумом. Знаете, как она меня выручала? Вот уговорила тётку, то есть жену коменданта, чтобы вызвать меня из тюрьмы для ремонта замков. Что-то подобное случилось у них с дверями.
– Вы также знаете слесарную работу? – удивился кто-то.
– Ба, если бы знал! Не проявляла бы она тогда смекалки, а только доброе сердечко… Привели меня в их жильё торжественно в сопровождении двух солдат со штыками на карабинах, считался я как-никак преступником. Они на этом только выиграли: им дали водки, закуску, и отдохнули себе порядочно. А я с ней и дочками Грава весело проводил время в дальних покоях, потому что замки, очевидно, не требовали никакого ремонта.
Он сделал невинную мину. Вокруг раздался смех. Довольный эффектом, он отрезал тоненький ломтик хлеба, намазал толстым слоем масла, положил на это большой кусок ветчины и уселся на нарах.
– Хороший город этот Омск, – произнёс он снова. – Таким образом, слесарил я так в течение нескольких месяцев…
Разговорился он теперь обстоятельно. Люди слушали охотно, потому что были это, несомненно, интересные истории, и между тем не было никакой работы; в дальнейшую дорогу должны были тронуться только на следующий день. Единственно рекруты, которых прикомандировали к здешнему гарнизону, беспокойно поглядывали время от времени на двери. По-хорошему им должны были объявить об этом ещё вчера, в казармах, но раз никто им этого не напоминал, излишне не спешили.
Здесь в тюрьме, хотя было тесно и душно, они находились среди своих, слышали постоянно польскую речь. Далее с ней не будет легко. Поэтому жадно хватали они каждое слово, тем более что затрагивали они городские дела, упоминали здешние фамилии. А Токажевский, зная, что это всё может сгодиться в будущем, распространялся пространно о подробностях и всё чаще давал практические указания.
– Итак, мои дорогие, – сказал он, поляк тем отличается от других, что в любой ситуации не теряет головы, и при этом каждую работу старается выполнить лучше и быстрее. Благодаря этим преимуществам он сразу обращает на себя внимание. Думаете, эта милая Вера заинтересовалась бы мной, если бы я не понимал этой истины? Ведь, собственно, в первый раз увидела меня на улице…
– На улице? – прервал его живо Черский.
До этой поры он сидел скромно в стороне, сохраняя полное молчание. Не преодолел он до сих пор подавленности, которая обступила его вчера перед крепостными воротами. Зато наблюдал он старательно и слушал очень внимательно. Токажевский взглянул на него исподлобья. Должно быть, заметил что-то неестественное в этом неожиданном вопросе.
– Ну, да, на улице, – ответил он медленно. – Тебя это удивляет? Происходят и такие случаи.
Черский испугался. Оживлённые мгновение назад глаза потускнели и спрятались куда-то вглубь.
– Нет, не удивляюсь, – пробормотал он. – Спросил просто так…
Люди начали рассыпаться по углам и вести разговоры в более маленьких группах. Токажевский встал, нагнулся над корзиной, вытянул из неё не тронутую до сих пор бутылку водки, отрезал порядочный кусок хлеба и ветчины и вышел из избы. Вскоре он возвратился.
– Дают тебе, не жалей другим, – сказал он тоном изречения. – И особенно жандармам и караульным.
Он вытер руки и уселся рядом с Черским.
– Чем так терзаешься, парень? – спросил он тихо. – Тоскуешь о доме.
Грудь Черского рванул сдерживаемый через силу вздох.
– Тоскую, – признался он откровенно. – Хотя и … – заколебался он. – Не только это меня мучит, сколько этот Благовещенск. Это, наверное, страшная дыра?
– Наверное, дыра. Расположен где-то на Амуре, и те территории присоединены к России только несколько лет назад, следовательно, кроме казарм ничего там, наверное, не найдёшь. Но что делать? Назначили тебя туда, должен ехать.