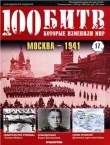Текст книги "Восточный вал"
Автор книги: Богдан Сушинский
Жанр:
Альтернативная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
– Я знаю, что он… «всегда рядом», – небрежно ответил Гитлер, и личный секретарь не мог не уловить, насколько двусмысленно позвучала эта фраза. – Но это ничего не меняет.
«Фюрер не чувствует себя вожаком! – вот что открылось Борману в эти минуты. – Но самое страшное заключается в другом: все мы, кто окружает Гитлера, перестаем видеть в нем этого вожака! А ведь все наше движение создавалось под рыцарским девизом: «Вперед за вожаком!».
22
Три дня трудились мастера над виселицей, конструкцию которой предложил Божий Человек, и трижды, ближе к вечеру, к ним на местечковую площадь приезжал оберштурмфюрер Штубер. Несколько минут он молча осматривал все, что сумели сделать к тому времени мастера, придирчиво ощупывал и испытывал на прочность каждую балку и каждую доску. А затем усаживал Отшельника на помост, сам садился рядом, на невысокий чурбанчик, и подолгу говорил с ним – только с ним, остальных двоих он, вроде бы, и не замечал, – о его отце и деде… О том, каким ремеслом они занимались и что строили-мастерили.
А еще он говорил о сибирских концлагерях, в которых перед войной Гордашу пришлось провести почти три года; о жизни в плену, о страхе перед смертью и предательстве. Умно так говорил. Спокойно и страшно, однако же умно. Сразу было видно, что человек он знающий и начитанный; вряд ли он искренне верил в Бога, но в истории религии и в философии веры, несомненно, смыслил. В советских концлагерях Отшельник тоже немало встречал таких и всегда относился к ним с уважением. Но то все же были свои, а это – фашист.
Прощаясь с Отшельником, эсэсовец вновь внимательно осматривал незавершенное строительство, заботясь о том, чтобы помост и сама виселица были достаточно высокими, и чтобы поперечина, на которой обязательно должно быть три петли, – он сам настоял на этом, – покоилась на двух крепких дубовых столбах. Да и подставка висельничная у каждого приговоренного была своя, и палач, стоя с тыльной стороны виселицы, на лесенке, мог выдергивать ее из-под ног с помощью пропущенных через кольца веревок.
На четвертый день, когда виселица была готова, привезли первых четверых приговоренных. Это были заключенные не из лагеря, а из городской тюрьмы. Божьего Человека и Федана в тот день тоже не трогали, к виселице доставили только Отшельника. «Висельничных дел мастер» был потрясен коварством Штубера, когда тот приказал возвести его на эшафот вместе с первой двойкой приговоренных. С какой ненавистью он смотрел тогда на вежливо улыбающегося Штубера, стоявшего во главе небольшой группы военных и полицаев с фотоаппаратом в руках.
Однако повесили только тех двоих, что оказались справа и слева от Гордаша, а его оставили. Затем казнили еще двоих, а он по-прежнему стоял у своей петли.
– У архитекторов и инженеров-мостостроителей есть такой ритуал: когда по мосту проходит первый поезд или первая машина, они становятся под мост, чтобы в случае обвала стать первыми жертвами своей бездарности, – объяснил Штубер, когда Орест наконец сошел с эшафота на подкашивающихся от страха и усталости ногах. – Такая же честь выпала и вам, висельничных дел мастер.
– Это не честь, это садизм.
– Вся война – сплошной садизм, однако же это обстоятельство никого не останавливает. А вам не приходилось задумываться над тем, сколько садизма людского воспроизводится в библейских сказаниях? Советую полюбопытствовать.
– Но казнь – случай все же особый.
– А кто спорит? Казнь – это, можно сказать, апофеоз насилия, садизма и… – выдержал он длительную паузу, – человеческого мужества. Да-да, фельдфебель Зебольд, – как всегда в подобных случаях, обратился он к своему «подсадному из первого театрального ряда», – и мужества тоже. Напрасно вы так скептически восприняли мои слова.
– Не скептически, а внемля! – с пафосом дебютанта провинциальных подмостков ответил Вечный Фельдфебель, и, услышав его реплику, Штубер запнулся на полуслове.
Это «… а внемля!» в устах фельдфебеля Зебольда показалось ему сорванным овациями монологом Гамлета. Стоит ли удивляться, что и взглянул Штубер на Вечного Фельдфебеля, как на новоявленного театрального гения?
– Кстати, не хотите ли казнить самого себя? – обратился Штубер к Отшельнику.
– Как истинный христианин я отвергаю самоубийство как непростительный грех. Не зря же в старину самоубийц хоронили за кладбищенской оградой.
– Странно, – передернул плечами барон. – Конечно, я понимаю: традиции, каноны христианства, в конце концов, местные обычаи… Тем не менее виселицу вы смастерили отменную. Мне казалось, что сочтете за благо первым воспользоваться ее преимуществами перед кровавым расстрелом, газовой камерой или закапыванием живьем.
На следующий день Отшельника вновь привезли к виселице, на сей раз – с первой партией заключенных.
– Не хотите ли взглянуть? – показал ему Штубер фотографию виселицы, под которой, под петлей, между телами повешенных, стоял он, «висельничных дел мастер». – Завтра же прикажу сделать чертеж этой виселицы и вместе с фотографией ее разослать по всем оккупированным территориям. В виде канонического образца эшафота, как образцово-показательную рейхсвиселицу.
Когда возвели на помост первых двоих, Штубер вновь вежливо поинтересовался:
– Сами одну из петель испытать не хотите, висельничных дел мастер? Вон та, крайняя от столба, петля… Она, как видите, не тронута. Из уважения к вам.
И ждал, наблюдая, как Отшельник мучается от сознания того, что сам сотворил это проклятие человеческое. Как боится, что нервы подведут его и он сам взойдет на помост. И в то же время с ужасом ждет, что офицер вот-вот подаст сигнал солдатам-палачам и те, ни минуты не медля, вздернут его.
Отшельника действительно подвели под третью петлю, и Штубер лично поинтересовался, согласен ли он умереть сейчас или же предпочитает отстрочить казнь. А когда тот сказал, что хотел бы отстрочить, казнил вместо него одного из доставленных обреченных. Но при этом объяснил, что если бы Отшельник принял смерть сейчас, того, третьего, помиловали бы.
…Теперь, сидя рядом со Штубером в мотодрезине, которая увозила его в глубь «Регенвурмлагеря», Орест с содроганием вспоминал об этой пытке висельничной петлей. Во время каждой казни его подводили к ритуальной третьей петле и предлагали казнить, а когда он отказывался, вешали вместо него кого-то из доставленных арестантов, чтобы затем возвести на помост вместе со следующей группой. И, грешен, он всякий раз мысленно благодарил Штубера за это варварское милосердие, за еще несколько подаренных ему дней жизни, пусть даже дней, проведенных в концлагере.
Орест проклинал себя за свой страх, за рабскйе желание воспользоваться этим садистским милосердием палача, за само желание жить, пусть даже вот так, не по-человечески, но жить, – и, тем не менее, благодарил.
Даже после того, как его увозили в лагерь, он мысленно все еще продолжал стоять под своей «ритуальной петлей». И не было силы, которая избавила бы его от навязчивой потребности переживать все это заново – каждую казнь, каждый разговор со Штубером, каждую его пощаду, каждое жестокое милосердие, каждый взгляд и крик человека, взошедшего на помост «образцовой рейхсвиселицы».
А знал ли Штубер, как ненавидели его, Отшельника, висельных дел мастера, заключенные? Как все они ненавидели его! Конечно же, знал! Ради этого он, собственно, и затевал весь свой садистский эксперимент.
О двух других мастерах-висельниках, Божьем Человеке и Федане, на эти дни попросту забыли. Из «барака смертников» их перевели в другой, обычный, и на время оставили в покое. Отшельника же продолжали содержать вместе со смертниками. Причем лагерное начальство, очевидно по подсказке Штубера, специально распустило слух, что Гордаш будто бы сам тайно отбирает жертвы, определяя, кого казнить со следующей партией приговоренных и кого из этой партии – в первую очередь.
Шли дни, в барак подселяли все новых и новых штрафников, партизан и подпольщиков, евреев и коммунистов. Во всей округе на какое-то время специально отменили расстрелы, заменив их повешением, чтобы «образцово-показательная рейхсвиселица» зря не пустовала. Но, кого бы из них ни казнили, вместе с группой обреченных на место казни привозили и бывшего семинариста, чтобы поставить под третью, ритуальную петлю. И само это возведение на эшафот Отшельника постепенно становилось неотъемлемым ритуалом казни на рейхсвиселице.
И лишь на тринадцатый день после сооружения виселицы Отшельника привезли к ней одного. Но когда он вышел из машины, то увидел, что на эшафоте уже стоят Божий Человек и Федан. Однако сама виселица была кем-то повреждена: отбито несколько досок на помосте, поперечина держалась на одном гвозде, изрублено несколько ступенек лестницы, ведущей к петлям.
– Кто осмелился так по-варварски относиться к шедевру висельничного искусства, мы, естественно, выясним, – сказал Штубер, со скорбью на лице осматривая эшафот. – Наши полицаи так поработают с этими негодяями, что о дне казни на этой же виселице они будут мечтать, как о манне небесной. А пока что даю вам два часа, чтобы привести свое собственное творение в божеский вид.
– Лучше бы его сожгли, – проворчал Федан, однако на слова его никто не отреагировал.
– Зебольд, – обратился барон к своему Вечному Фельдфебелю, – реставрация этой местечковой экзотики – под вашу ответственность. Ровно через два часа мы с вами должны любоваться умиляющим взоры зрелищем – покачивающимися на ветру висельничными петлями.
* * *
Штубер уехал, а висельничных дел мастера взялись за топоры и осмотрели оцепление из немцев и полицаев с такой ненавистью, что некоторые из них тут же вскинули автоматы и винтовки, а некоторые подались назад.
«Не пробиться!», – поняли все трое и, вдоволь наматерясь, принялись за работу. Трудились молча, сосредоточенно и угрюмо, ограничивая общение между собой только словами «подай», «отрежь», «отмерь», «подгони». Это и в самом деле были настоящие мастера, которые знали цену своего труда и цену людской похвалы, на которую в этот раз рассчитывать не имели права.
Вернувшись на площадь, Штубер с грустью осмотрел виселицу и сокрушенно покачал головой, объясняя самому себе, что былого совершенства и прежней изящности этому творению рук человеческих уже не вернуть.
– Вот вам, Отшельник, – скорбно произнес он, – еще один пример того, что шедевры воспроизведению не подлежат, возможна лишь жалкая ничтожная копия.
– Если только кому-то позволено называть шедевром виселицу.
– Только потому, что с ее помощью умерщвляют людей? – вскинул брови Штубер. – Почему же тогда как всемирные оружейные шедевры почитают некоторые образцы мечей и дамасской сабли, кольты, вальтеры и винчестеры; бомбардировщики, танки или не поддающиеся обнаружению и обезвреживанию противопехотные мины? Их для чего создают? Не для убийства? Странная какая-то у вас логика, господин недоученный семинарист!
«Да с логикой у тебя, нелюдь, все в порядке, – мысленно возразил ему Отшельник, – вот только с совестью что-то произошло, причем давно и бесповоротно!»
– Ну да что уж тут! – вздохнул Штубер, завершая наконец прием работы мастеров, выстроенных у входа на эшафот. – Что сами себе смастерили, на том и висеть придется, так что не взыщите.
Мастера мрачно переглянулись.
– Не по-людски это как-то, – попробовал усовестить эсэсовца Федан. – Как-никак мы старались. Отложили бы хоть на недельку.
– Правильно, старались, – охотно согласился с ним барон. Орест давно заметил, что он вообще очень охотно вступал в полемику с обреченными. Не знал только, что затем, возвратясь в свой кабинет или на квартиру, старательно воспроизводил эти диалоги в блокнотах, рассматривая их, как заготовки для будущей книги «по психологии человека на войне». – Благодаря вам, мы вон скольких врагов рейха перевешали. Но пора и честь знать. Что ж, вам так до конца войны и наблюдать, как других вместо вас вешают? Извините, господа, но ни по людской, ни по божеской справедливости это уже несправедливо.
– Тогда, может, завтра, поутру? Мы бы еще с товарищами по бараку попрощались, – продолжал увещевать его Федан.
– Вы с ними уже давно попрощались, – язвительно заметил барон. – Как только построили эту рейхсвиселицу, за которую все они, и все еще живые, и уже давно мертвые, прокляли вас.
Федан порывался выдвинуть еще какой-то аргумент, однако Божий Человек рыкнул на него:
– У кого вымаливаешь?! У палача?! Лучше помолись! Хотя бы, сходя в могилу, помолись.
23
Каждого, кто попадал в этот подземный город СС, поражало огромное количество ходов, уводивших вправо и влево, вверх и вниз от автомобильного тоннеля. Да и сам тоннель вскоре вплетался в огромную паутину лабиринта.
Даже личный шофер коменданта, начинавший свою службу здесь еще два года назад водителем грузовика, и тот в некоторых участках «СС-Франконии» чувствовал себя неуверенно. Особенно в те минуты, когда приходилось оставлять машину и в качестве охранника углубляться вместе с комендантом в пешеходные лабиринты – с их искусственными тупиками, стены которых раздвигались только перед посвященными; а также со всевозможными ямами-ловушками и почти неосвещенными «ползунковыми» переходами.
– Уже чувствуя, что дни его комендантства сочтены, – нарушил молчание комендант «СС-Франконии», – штандартенфюрер Овербек упрямо ждал появления в лагере одного из коллег Скорцени, гауптштурмфюрера Штубера…
– Командира диверсионного отряда «Рыцари рейха», – подтвердил Удо Вольраб. – Но ждал он, собственно, не барона фон Штубера, а какого-то украинского скульптора по кличке «Отшельник», большого мастера по распятиям, которого барон умудрился очень расхвалить ему в телефонном разговоре.
– Да, ему срочно понадобился палач столь своеобразной… специализации?!
– Следует уточнить, что Отшельник – специалист по скульптурным распятиям, – мягко уточнил адъютант.
– …Которого Овербек решил переквалифицировать на палача, специализирующегося на реальных распятиях?! – еще больше удивился фон Риттер.
– Возможно, возможно, – не решился в очередной раз ставить под сомнение прозорливость коменданта его адъютант. – Однако утверждают, что Отшельник, которого барон фон Штубер привез в Германию откуда-то из глубин Украины, действительно талантлив и сотворяет потрясающие шедевры из камня и дерева.
– Значит, опять статуи-«распятия»?! Не зря же мне говорили, что Овербек свихнулся именно на «распятиях». Неужели так оно и произошло на самом деле?
Заместителем коменданта «СС-Франконии» барон фон Риттер прослужил всего несколько месяцев, но бывать в самом подземелье ему приходилось редко, поскольку большую часть времени вынужден был проводить то в Берлине, то в Ганновере или в Гамбурге, в конторах фирм, которые занимались поставками в «Лагерь дождевого червя» всевозможных строительных материалов и оборудования. Поэтому сведения о лагере и его коменданте у него были отрывочными, и во многих случаях в них не просматривалось никакой логики и никакой правдоподобности.
– Не знаю, свихнулся ли он, – деликатно прокашлялся в кулак адъютант, – не мне это решать. Но позволю себе заметить, что распятие всегда оставалось для него каким-то особым символом.
– Уж не возомнил ли, что в него вселился дух распятого Христа? – воинственно повел плечами фон Риттер и, заметив в ярко освещенной нише одно из «Распятий», созданных по приказу Овербека, приказал водителю остановить машину.
– Дух Иисуса? В Овербеке?! – гортанно рассмеялся Удо Вольраб. – В кого тогда должен был вселиться дух Сатаны?
– Только не убеждайте меня, что в него воплотился кто-то из палачей Христа? – проговорил комендант СС-ада, вместе с адъютантом выходя из «опеля».
– Если вас это по-настоящему интересует, господин бригаденфюрер, то я могу прояснить тайну Овербека. Точнее, одну из его тайн.
– Меня мало интересуют чужие тайны, но если эта – действительно связана с «распятиями»…
Несмотря на неплохое освещение, скульптура открывалась фон Риттеру лишь в общих очертаниях. Щелкнув зажигалкой, барон поднес пламя к лицу распятого Христа. Ни печати мученичества, ни христианской смиренности в выражении его комендант не нашел, и этого было достаточно, чтобы оценить работу мастера Карла Метресса, как сугубо ремесленническую. И комендант был удивлен, когда дышавший ему в затылок Удо Вольраб произнес:
– Вот и Гиммлер тоже был неприятно поражен этим сходством, которое сразу же заметил и на которое первым обратил внимание.
– Каким еще сходством?
– Так вы не обратили на это внимания?! – притворно удивился адъютант. – Странно. Имеется в виду: сходства лика распятого мастером Метрессом Христа – с лицом Овербека.
Фон Риттер вновь поднес к лицу пламя зажигалки, но в это время водитель опеля достал из нагрудного кармана небольшой фонарик и осветил статую. Сомневаться не приходилось: своим невыразительным и бесчувственным ликом первохристианин действительно чем-то неуловимым напоминал лицо опального коменданта. Странно, что сам комендант этого не замечал. Или, может, замечал, однако не желал признавать?
– Кстати, известно ли вам, что в роду Овербека были так называемые «русские немцы»?
– Что вызвало вполне естественные вопросы у радетелей чистоты арийской расы во время его посвящения в члены СС, – добавил барон, убеждая адъютанта, что эта строка биографии предшественника его не интригует.
– А приходилось слышать о таком украинском бунтовщике-анархисте Несторе Махно?
– …О том самом, что в годы Гражданской войны в России возглавлял крестьянскую анархистскую армию?
– А в двадцать первом, если мне не изменяет память, оказался в эмиграции, в Западной Европе, в частности, во Франции.
– В офицерской школе нам рассказывали о нем как о своеобразном стратеге партизанской войны, в том числе о его «стратегии и тактике войны на пулеметных тачанках». Он ставил на тачанки станковые пулеметы и превращал эти «боевые колесницы» в подвижные истребительные эскадроны. Признаюсь, что воспринимали мы эту его стратегию скептически, хотя было немало свидетельств успешных сражений, перелом в которых возник только благодаря «тактике тачанок».
– Возможно, потому и не доверяли этой тактике степного боя, что ни вам, ни вашим коллегам-курсантам никогда не приходилось видеть, что такое «конная казачья лава» в открытой степи. Какое это зрелище и какие пространства для маневра целых кавалерийских корпусов. А еще потому, что вы не являлись сторонниками анархизма, хотя в двадцатые годы в Германии их было немало, причем одним из лидеров этого оказался и наш досточтимый Герман Овербек.
– Овербек был лидером германских анархистов?! Вы опять что-то путаете, Вольраб!
– В свое время этот факт был установлен специальной комиссией, которая затем решала, как в рейхе должны относиться и к анархизму, и к самому Овербеку.
– Хотите сказать, что его отстранение от должности коменданта – результат выводов данной комиссии?
– Не факт. Но что, отстраняя его от комендантства, учитывали и ее выводы, – несомненно. – И потом, знаете ли, напряжение, которое каждый из нас испытывает от длительного пребывания в подземельях «Регенвурмлагеря»…
– Лучше скажите, что германец, подавшийся в анархисты, – это уже серьезный аргумент для любого уважающего себя психиатра, – согласился фон Риттер.
24
Шаубу повезло, что в тот самый момент, когда он вырвался из кабинета, начальник личной охраны фюрера Раттенхубер как раз появился там.
– Где вы так долго отсутствовали?! – угрожающе тараща глаза, поинтересовался личный адъютант Гитлера.
– Я не знал, что могу понадобиться фюреру.
– Обязаны были знать, – не стал щадить его Штауб, хотя и не имел права давать ему какие-либо наставления.
– И потом, я отсутствовал недолго.
– Но вы же понимаете, что с того момента, когда вас потребовал к себе фюрер, даже минутное отсутствие превращается в целую вечность откровенного безделия.
– Это вы так считаете?!
– Так считает фюрер!
«А ведь Гитлера одолевает страх! – постигал тем временем тайны фюрерской души и психики фюрера его личный секретарь Мартин Борман. – Он ведет себя, как подстрекатель вдоволь побушевавшей уличной толпы, который понял, что страсти утихли, громилы разбегаются, и получается, что отвечать за все содеянное придется только ему. Впрочем, страшит его, собственно, не то, что отвечать все же придется, а что остальные могут избежать наказания… Признайся, что и ты тоже время от времени ощущаешь нечто подобное! – тут же остепенил себя рейхслейтер. – Поэтому и стараешься держаться поближе к фюреру, Гиммлеру, Герингу… В надежде, что, в конечном итоге, найдется с кем разделить свои прегрешения».
Раттенхубер вошел несмело и остановился почти у самой двери. Однако фюрер взглянул на него с таким безразличием, словно начальник личной охраны топчется там целую вечность, поэтому во взгляде вождя прочитывался вполне естественный вопрос: «Как, вы все еще здесь?! Какого черта?!»
– Как там у нас в бункере, все готово? – вдруг ворвался в поток самоистязаний Бормана неожиданно будничный, а потому особенно коварный голос Гитлера.
– Простите, что вы сказали? – дуэтно переспросили Борман и начальник личной охраны, к которому, собственно, и относился этот вопрос.
– Я сказал, что хочу осмотреть бункер! – Гитлер поднялся и, решительно отсекая друг от друга, теперь уже плечо в плечо стоявших, личного секретаря и адъютанта, направился к двери. – И спрашиваю, готов ли он к тому, чтобы я мог осмотреть его.
– Насколько мне известно, – неуверенно молвил Борман, – он готов.
– Вот в этом мы сейчас и попытаемся убедиться.
Борман и Раттенхубер мельком, воровато переглянулись,
однако выразить недоумение ни тот, ни другой не решился.
– Что с ним? – вполголоса спросил Борман у Шауба, который до этого маялся в приемной, у приоткрытой двери и слышал весь их разговор с самого начала.
– Понятия не имею.
Вслед за фюрером и Шаубом они пересекли территорию, отделяющую рейхсканцелярию от входа в подземный бункер, который в связи с усилением налетов англоамериканской авиации стали усиленно готовить к приему в свои подземные клетушки высшего руководства рейха, и вновь переглянулись.
– Порой даже фюрера настигают иллюзии неверия и сомнений. Даже фюрера! Мы, его окружение, должны понимать это, – каждое слово Раттенхубер произносил раздельно и как бы само по себе, не связывая и не обуславливая его логикой мысли.
– Это предчувствие, рейхслейтер, – ни секунды не колеблясь, объяснил адъютант.
– Предчувствие чего? – они остановились в нескольких шагах от бункера, этой железобетонной «Валгаллы», и ждали, пока двое эсэсовцев из личной охраны откроют перед фюрером массивную бронированную дверь.
– Не знаю, чего, но знаю, что это не просто предчувствие, а предчувствие фюрера, – поднял вверх указательный палец Шауб. – Нам, земным, этого не дано…
– «Нам, земным»?..
– Да, рейхслейтер.
– Вы становитесь опасным, Раттенхубер.
– Никогда, рейхслейтер, я опасным быть не могу. Опасными могут быть только те, кто ненавидит фюрера и в дни его поражений, и особенно в дни его побед.
– За этими вашими намеками стоят конкретные имена? – насторожился Борман: уж не пытается ли фюрер раскрыть какой-то новый заговор.
– Имена заговорщиков всегда конкретны.
– Чьи же это имена? Что вы тяните, Раттенхубер?
– Вспомните, как повел себя фельдмаршал фон Браухич осенью 1939-го, когда Германия разгромила Польшу и пребывала в расцвете своей военной силы [25]25
Имеется в виду заговор германских генералов под руководством главнокомандующего сухопутными силами рейха Вальтера фон Браухича. Тогда фон Браухич собрал в Цоссене, неподалеку от Берлина, верных ему генералов и предложил отстранить Гитлера от власти, чтобы заключить мирный договор с Великобританией и Францией и таким образом исключить возможность войны с этими странами, а направить общие усилия на борьбу с Советским Союзом. Однако сорвал этот заговор сам фон Браухич, из-за своей трусости.
[Закрыть].
Борман криво ухмыльнулся.
– Об этой жалкой попытке переворота уже никто не вспоминает, даже фюрер, – разочарованно произнес он, вытирая платочком некстати вспотевшую переносицу – всем известный признак того, что рейхслейтер взволнован.
– К сожалению, не вспоминает. Потому что добрый. Наш фюрер слишком добр – вот что я вам скажу. И многие, очень многие этим пользуются. А что касается Браухича, то жалко, что фюрер не приказал повесить его за ноги на строевом плацу, предварительно построив на нем всех своих фельдмаршалов и генералов. Во имя устрашения!
– Вы всегда были известны своей твердостью, – поспешил заверить его Борман, подумав о том, какую казнь может придумать этот служака, если фюрера все же окончательно сумеют убедить, что он, Мартин, действительно предал его. А мысленно сказал себе: «Вот в ком умирает истинный фюрер-диктатор. И не приведи господь, чтобы когда-нибудь он действительно дорвался до власти!».
– Во всяком случае, я, как никто иной, предан фюреру.
– Именно поэтому – особенно опасны, – вдруг философски обронил Борман, вскидывая подбородок. А решительно опережая бригаденфюрера Раттенхубера в нескольких шагах от входа, давал тем самым понять, что с данной минуты общество начальника личной охраны не представляет для него никакого интереса.
– И все же мы с вами – те немногие, кому фюрер все еще по-прежнему верит, – бросил вдогонку ему начальник личной охраны.
Но даже столь смелое, жертвенное единение с ним Раттенхубера личного секретаря фюрера уже не впечатляло.
«А ведь он и в самом деле становится опасным», – с затаенной местью подумал рейхслейтер, вспоминая о том, как все больше людей вклинивается в жизненное пространство, оставленное историей и судьбой в виде промежутка между ним и фюрером Великогерманского рейха.
– Этот бункер слишком хорошо известен, – сказал он фюреру, когда тот остановился в одном из переходов, у мощной стальной двери, за которой начинался блок верховного командования. – Возможно, нам следует подготовить секретный бункер в «Регенвурмлагере», но в той части, которая прилегает к самому Одеру?
– Одновременно создав мощные оборонные редуты на поверхности лагеря, – дополнил его Гитлер, покачивая головой. И Борман понял, что фюрер давно обдумывает этот план, однако окончательного решения так и не принял. – А почему вы считаете, Борман, что я должен быть там, а не в Альпийской крепости?
– Потому что Альпийской крепости все еще не существует.
– Вы правы, Борман, не существует. Эту оплошность следует немедленно исправлять.
– Но мы уже вряд ли успеем создать ее в том виде, в котором она могла бы соответствовать своему назначению. Там тоже должен быть мощный укрепрайон, но, получив полное преимущество в воздухе, англо-американцы и русские превратят его в сущий ад на Земле. А в «Регенвурмлагере» вы и верховное командование рейха будете оставаться недостигаемыми.
Гитлер задумчиво смотрел на бронированную дверь и при этом дрожащей рукой массажировал свой кадык. В последнее время он делал это все чаще, и Борман так и не смог понять, чем это вызвано: развившейся привычкой или какой-то обострившейся болезнью, на которую фюрер пока что никому не жаловался.
– Видите ли, Борман, – наконец решился вождь открыть дверь и войти в «ситуационный зал», в котором стоял длинный, охваченный двумя рядами стульев, дубовый стол и лежала развернутая карта Европы. А рядом, на переносном деревянном стенде, висела еще и карта мира. Здесь фюрер планировал проводить совещания в те дни, когда Берлин уже будет взят врагом в плотное кольцо блокады. – Вы первый, кто предлагает мне устроить свой бункер в «Регенвурмлагере».
– Предварительно укрепив его и создав гарнизон из нескольких дивизий СС, – поспешил уточнить рейхслейтер, испугавшись своего подозрительного первенства в этом вопросе: вдруг фюрер заподозрит в желании поскорее выманить его из столицы?
– Все остальные предлагают то ли укрыться в хорошо укрепленной «Альпийской крепости», то ли отбыть на одну из секретных баз в Юго-Западной Африке или в Латинской Америке.
* * *
Фюрер приблизился к карте мира и с минуту задумчиво блуждал взглядом по африканскому и американскому континентам, словно прямо сейчас собирался определить место своего будущего изгнания. Вот только сделать это было нелегко. Не существовало страны, в которой Гитлеру были бы теперь рады; еще меньше оставалось стран, правители которых решились бы скрывать его, даже под угрозой агрессии со стороны союзников-победителей. А сколько тысяч людей появилось сейчас во всем мире, готовых даже ценой собственной жизни отомстить ему за погубленных гитлеровцами родственников и соотечественников.
А еще Мартин представил себе, как тягостно сейчас искать такое укромное место на карте мира человеку, который еще вчера чувствовал себя властелином этого самого мира.
«А почему ты с таким сочувствием думаешь только о фюрере? – вдруг осадил себя рейхслейтер и личный секретарь фюрера. – Думаешь, искать станут только его? Тебя, думаешь, пощадят?! А подумал ли ты о том, куда следует бежать и где скрываться тебе самому? Так не пора ли позаботиться об этом?».
– Недавно мне даже подкинули вообще странную, на первый взгляд, идею – затаиться в Антарктиде, на нашей «Базе-211» [26]26
Подробнее об этой базе читайте в других романах серии «Секретный фарватер» – «Антарктида: Четвертый рейх» и «Субмарины уходят в вечность».
[Закрыть], чтобы уже оттуда заниматься строительством Четвертого рейха.
От Бормана не скрылось, что фюрер произнес «странную, на первый взгляд», а значит, окончательно он ее пока что не отверг.
– Но вы, конечно же, не восприняли эту идею? – как можно мягче спросил он.
– Скажем так: я не хотел бы дожить до того дня, когда мне придется заживо похоронить себя в подземельях Антарктиды.
– Мы не позволим случиться этому, мой фюрер, – уперся в карту Европы широко расставленными руками Борман, будто собирался сгрести ее в охапку и унести, причем не карту, а саму Европу.
– Вы уже позволили случиться тому, что я вынужден искать на карте мира такое глухое место, в котором был бы недосягаем для врагов рейха. Я уже делаю это, а значит, вы позволили довести рейх до такого состояния, когда его фюрер вскоре может превратиться в изгоя собственной нации, изгоя Европы.
– Понимаю, мой фюрер. Но так сложились обстоятельства. В этом, конечно, и моя вина, вина партии, но, прежде всего, здесь просматривается вина нашего армейского командования…
– Будет тебе, Борман! – поморщился фюрер, переходя на «ты». – Кто больше виновен, кто меньше, это уже никого не интересует. Очевидным и существенным остается только то, что Германия проиграла еще одну войну. Причем ту, которую проиграть не должна была, не имела права.
– Это поражение мы, германцы, уже никогда не сможем ни простить себе, ни просто забыть.
Гитлер оторвал взгляд от карты и уничижительно взглянул на своего заместителя по партии.
– Брось ты свою патетику, Борман. Чем скорее мы все забудем об этом поражении, тем скорее сумеем возродить рейх. Мы с тобой политики, а значит, профессиональные игроки, для которых уметь достойно проигрывать куда важнее, чем уметь достойно побеждать. Потому что переживать поражение намного сложнее, а ни один полководец мира поражений не избегал.
– Вы правы, мой фюрер, – сконфуженно подтвердил Борман, беспомощно оглядываясь на застывших по обе стороны от двери Шауба и Раттенхубера.
Но оба эти «рейхсканцелярских евнуха» знали, как опасно быть втянутыми в подобные разговоры, поэтому лица их оставались холодными и безучастными. Все, о чем говорят сейчас Гитлер и Борман, не имело к ним никакого отношения.