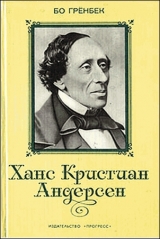
Текст книги "Ханс Кристиан Андерсен"
Автор книги: Бо Гренбек
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 19 страниц)
Трудно сказать, завоевал бы ее Андерсен, если бы немного больше постарался? Во всяком случае, она вышла замуж за человека, которым увлекалась еще в детстве, а писатель остался с горько-сладким чувством того, что встретил любовь и она принесла ему горе.
Последнее, несмотря ни на что, оказало на него положительное воздействие. Разочарование обострило эмоциональное восприятие, что всегда необходимо художнику-творцу. Следует добавить, что как раз в эти десятилетия несчастная любовь была в моде среди молодых поэтов. Теперь Андерсен испытал ее и приобрел опыт, которого у него до тех пор не было; он получил. – правда, дорогой ценой – удовлетворение от сознания, что и в этом отношении он «настоящий поэт». Но знаменательный эпизод глубоко захватил его. Известные любовные стихотворения (например, «Темно-карих очей взгляд мне в душу запал»[27]27
Г.Х. Андерсен. Собр. соч. в 4-х томах, т. 3, с. 485.
[Закрыть] и «Ты мыслями моими овладела») написаны в это время, и он никогда не забыл Риборг Войт.
* * *
В то же время у него были и другие, более прозаические разочарования. Критики постепенно стали менее любезны, чем поначалу, когда стремились поощрить его как юного начинающего поэта. Они неизбежно находили то один, то другой недостаток в его все более обширном творчестве. К числу самых строгих критиков относился необыкновенно плодовитый, вечно что-то пишущий Кр. Мольбек, известный своей педантичностью и придирками к орфографии; говорили, что в его жилах течет больше чернил, чем крови. К его невероятно разнообразной литературной деятельности относилось рецензирование в «Ежемесячнике литературы»; а в 1830 году, после смерти Рабека, он стал цензором в Королевском театре. Но самым большим критическим даром обладал автор водевилей Й.Л. Хейберг. В 1828 году он был принят в театр переводчиком и драматургом, но еще за год до этого начал издавать упоминавшийся ранее литературный журнал «Копенгагенская летучая почта». Его требования к современным писателям были таковы; последовательность в плане произведения и основательная проработка всех деталей. В борьбе за истинное поэтическое искусство против дилетантства он скоро приобрел оруженосца в лице Хенрика Херца{44}, который в 1830 году произвел фурор своим стихотворным памфлетом «Письма с того света», где высмеивал поэтов, небрежно относящихся к форме. Не прошел он и мимо Андерсена. Тот узнал, что является слишком легкой добычей для своей неуемной фантазии, что он писатель незрелый и небрежный и делает грубые ошибки в языке. Последний упрек ему неоднократно доводилось слышать от Мольбека и других. Андерсен не выносил критики. В то время он был болезненно обидчив, и его смешанная со страхом ненависть к критикам вообще и к Мольбеку в частности скоро привела его к убеждению, что критика только убивает поэзию, – мнению, которого он не изменил почти по конца жизни.
С театром тоже было сплошное огорчение. К несчастью, он непременно хотел писать для сцены, собственно говоря, не имея к этому настоящих способностей. Его рвение можно понять, зная, что Копенгаген того времени рассматривал Королевский театр как оплот поэтического искусства: признанным поэтом был тот, у кого успешно шла пьеса. Но Андерсен слишком усердно пытался произвести на свет хоть что-нибудь, пригодное для подмостков, и нельзя упрекать дирекцию, постепенно уставшую от его разнообразных, но, по мнению и Мольбека и Хейберга, небрежных, наспех написанных драматических произведений. Некоторые из них были приняты, но столько же возвращались для доработки или просто потому, что никуда не годились.
Какой толк, что критика все же говорила много приятных слов о его поэтических сборниках этих лет – 1830–1833 – и что ему был оказан великолепный прием, когда летом 1832 года он посетил Сорё, Оденсе и поместье Нёрагер. Письма к преданным друзьям полны жалоб: никто его по-настоящему не любит, едва ли он когда-нибудь снова будет писать стихи, наверное, он скоро умрет, и это будет только к лучшему. Вдобавок он пережил еще одну несчастную любовь, а именно к Луизе Коллин, младшей дочери статского советника, которой было в то время семнадцать лет. В письмах к ней он пишет, как он несчастен. Одно из них (27 октября 1832 года) кончается словами: «Я чувствую себя больным, больным душой; у меня нет сил жить, меня ничто не радует, ничто не волнует; мечты моей юности были и остаются мечтами, я чувствую, как увядаю в болезни и одиночестве… Я испытываю к вам огромное уважение, глубочайшее доверие, ведь я один на свете и мне не за что уцепиться. Будьте счастливы; уже далеко за полночь, я не смею больше писать. Когда сердце полно скорби, ему легче говорить о своей боли, и это ничуть не забавно. Ваш брат душою Андерсен». Типично андерсеновская самоирония в конце заставляет подозревать, что эта страсть не затронула его так глубоко, как чувства, которые он испытывал к Риборг Войт. Возможно также, дело было не только в том, что потребность в любви заставила его с глубокой почтительностью мечтать о дочери своего благодетеля, которую он знавал ребенком, но также и в том, что в своем угнетенном душевном состоянии он искал – и потому нашел – кого-нибудь, о ком можно было скорбеть и страдать. Во всяком случае, любил он безнадежно, девушка была уже фактически помолвлена с другим, он скоро утешился в своей печали, и любовь перешла в сердечную дружбу с Луизой и ее избранником.
Но какими бы незначительными или нелепыми ни казались нам сегодня горести и беды Андерсена, его дурное настроение было вполне реально. И вызывалось оно не внешними, а внутренними причинами. По-видимому, он достиг критической точки в духовном развитии. Живой ум и быстрое перо сразу же, с самого начала его поэтической карьеры в 1828 году, снискали ему славу одного из самых многообещающих молодых поэтов на копенгагенском Парнасе, а в последующие годы он гнался за успехом, стараясь писать как можно больше. Но нельзя всю жизнь оставаться молодым и многообещающим, и некоторые критики постепенно дали ему понять, что пора уже создать что-то новое и серьезное. Он и сам это чувствовал. Он замечал, что истощил свои духовные ресурсы. Но в его привычном окружении черпать вдохновение было неоткуда. Он чувствовал, что, если не хочет духовно погибнуть, необходимы новые впечатления, более широкие горизонты. Пора было вылетать из гнезда.
Его склонности к путешествиям, вероятно, способствовало еще и то, что он чувствовал, и не всегда безосновательно, что над ним насмехаются и ему завидуют – не друзья, а общественность. Копенгагенская нетерпимость ко всему необычному и потребность издеваться над этим обернулась и против него. Людей забавляла его внешность и поглощенность собой; он был такой большой и странный, ему нужно задать хорошенькую трепку. И он замечал – или думал, что замечает, – что ему лично завидуют: почему он, долговязый, уродливый поэт, имеет такой успех?
Одно время он мирился с издевательствами, теперь они стали действовать ему на нервы.
Он давно уже лелеял планы отправиться в большой мир. Путешествие в Германию было как бы пробной экспедицией, оно разбудило его доселе скрытую тоску по дальним странам, потребность в переменах. И то, что раньше было жаждой путешествий, теперь стало духовной необходимостью. К сожалению, у нею самого не было достаточных средств, но фонд ad usus publicos[28]28
Для нужд народа (лат.).
[Закрыть] ежегодно выделял по ходатайству стипендии молодым художникам и ученым, которые таким образом получали возможность учиться за границей за счет общества и на благо родины. Они ехали, во-первых, чтобы приобрести новые знания и новый опыт, материал для будущей работы, а во-вторых, чтобы оторваться от привычных условий и тем самым обрести себя и новые взгляды на мир и людей. Самые разнообразные молодые таланты широко использовали эту неограниченную щедрость. В 1833 году стипендии получили три богослова, один юрист, четыре врача, два писателя, один учитель словесности, два музыканта, два живописца и один гравер по меди. А деньги были немалые. Стипендии хватало на год пребывания за границей, иногда и больше, при этом не нужно было экономить. Стипендиаты возвращались домой, полные новых идей и впечатлений, и тем самым способствовали укреплению контактов с Европой и снижению провинциализма, временами угрожавшего духовной жизни Дании.
Мог ли Андерсен рассчитывать на стипендию? Этот серьезный вопрос занимал его зимой 1832/33 года, когда он зашел в тупик в своем литературном развитии. Особенно его беспокоило, что среди претендентов был Хенрик Херц – тот имел на счету и государственный экзамен, и золотую медаль университета, а кроме того, он был автором «Писем с того света», которые все читали и о которых много говорили. Не предпочтут ли его Андерсену? Смеет ли он надеяться, что стипендию дадут одновременно двум писателям? Нет, страстно желанное путешествие, конечно, останется красивой мечтой, писал он Эдварду Коллину.
Тревоги были понятны, но необоснованны. На самом деле у Андерсена были сильные козыри. Он написал больше произведений, чем его конкурент, они нравились широкой публике и с определенными оговорками признавались профессионалами. Те рекомендации, которые он, по своему обыкновению, приложил к ходатайству, исходили от крупнейших литературных авторитетов и специально предназначались, чтобы произвести впечатление на тех, от кого зависело решение (то есть в конечной инстанции на короля). Эленшлегер говорил, что Андерсен обладает фантазией, чувством и умом; Ингеман указывал на его необыкновенную способность описывать картины природы и сцены из человеческой жизни; Хейберг писал, что, по его мнению, незаурядный талант Андерсена сам по себе не нуждается ни в каких рекомендациях; Эрстед упоминал его замечательное владение языком и подчеркивал, что это удивительно, как его гений, несмотря на трудные внешние обстоятельства, смог так проявить себя. Все сходились во мнении, что ему было бы полезно поехать за границу, что такое путешествие «принесло бы хорошие плоды для отечественной литературы», как писал Эленшлегер. Наконец, неоспоримым преимуществом Андерсена было то, что его покровителем на высшей ступени, где принималось окончательное решение, был Йонас Коллин.
Но ничто не могло утешить несчастного поэта. Его пессимизм усиливался. Он сомневался в своих способностях, чувствовал себя больным, в том числе и физически. В довершение всех несчастий, именно зимой 1832/33 года, когда тянулась история с ходатайством, появилось несколько не особенно приятных рецензий на его оперные либретто, например одна рецензия Кр. Вильстера из Сорё (переводчика Гомера){45}, который, надо сказать, довольно безжалостно называл Андерсена «молодым поэтом, некогда подававшим надежды».
Можно понять, что эти слова стали «каплями яда в моем сердце», как он писал в письме спустя полгода, что при таких обстоятельствах он вообще воспринимал любую критику как покушение на свою поэтическую деятельность и тем самым на желанное путешествие.
Однако в действительности эти уколы означали лишь то, что от Андерсена как от поэта многого ожидали, и, когда 13 апреля 1833 года было объявлено решение, Херд действительно получил стипендию, но и Андерсен тоже. Тучи рассеялись, и солнце снова засияло на его пути – пути к новым и великим впечатлениям.
Он не замедлил собрать чемодан. 22 апреля он поднялся на борт парохода «Фредерик VI» и отплыл в Травемюнде, для начала направляясь в Париж.
Он был спасен.
В большой мир
Город городов
Нескольким его близким друзьям пришла в голову интересная и забавная мысль вручить капитану «Фредерика VI» прощальные письма, которые тот в течение плавания время от времени передавал Андерсену. Эти последние приветствия из дома глубоко его тронули. «Я едва не плачу, думая, что я оставил!» – писал он Эдварду Коллину, прибыв в Любек.
Но в то же время он был полон напряжения и ожидания перед начавшимся большим, похожим на сказку путешествием, которое давало ему неведомое ранее ощущение свободы и счастья. Поначалу ему непривычно было жить без забот. Еще из Гамбурга он писал Эдварду Коллину, что у него нет больше юношеской жизнерадостности – каких-нибудь два года назад он был бы в восторге от того, что путешествует, «теперь это действует по-другому, но все же так сильно, что я боюсь сходить на берег». Вскоре ему пришлось думать совсем, совсем о другом. Путешествия в те времена были делом длинным и хлопотливым. Путешествовать с комфортом могли позволить себе только зажиточные люди, имевшие собственные экипажи, остальные же должны были забираться в тесный дилижанс и трястись, медленно продвигаясь по проселочным дорогам; насколько это утомительно, Андерсен с юмором описал в «Калошах счастья». Но неторопливая езда оказывала полезное действие, отодвигая все заботы, пока будет достигнута цель путешествия, а трудности заставляли путешественника забыть все, что ранее наполняло его сознание, и подготовить ум для восприятия нового.
И Андерсен впитывал впечатления, весело переносил трудности и забывал, что утратил «юношескую жизнерадостность». Он ехал в дилижансе днем и ночью и был вознагражден за свою выносливость в тех городах, где останавливался.
Первым был Гамбург, где он, конечно, побывал в театре; посетил также жившего там датского поэта Ларса Крусё{46}, который на прощанье написал ему в альбом маленькое стихотворение, как бы программу на будущее:
Во Франкфурте он посетил оперного композитора Алоиза Шмитта, который предложил ему написать либретто для оперы. Это было очень лестно; а увидев, что Андерсен не слишком хорошо владеет немецким языком, композитор все же попросил, что еще более лестно, оставить ему черновик; он хотел получить «сюжет от молодого, пламенного гения». Андерсен также совершил поездку по Рейну. Широкая река и нависшие над ней руины замков на высоких берегах были словно яркий сон о прошлых временах и навевали на него грусть. Впрочем, дальнейший путь в Париж быстро вернул его к действительности; он ехал без остановки четверо с половиной суток; «было так много хлопот с нашими паспортами, так много досмотров и обысков, что я почти пожалел о предпринятом путешествии. Наши баулы открывали шесть раз, и в каждом городе нас окружала полиция», – писал он домой. Наконец 10 мая он прибыл в Париж, «просоленный пылью и вареный от зноя». Новые сложности: пришлось побывать в двух-трех гостиницах, прежде чем он наконец нашел маленький (и дорогой) номер.
На следующий день он отправился на прогулку по городу и был потрясен увиденным. «Вот это город, Париж! Берлин, Гамбург и Копенгаген, вместе взятые, уступают ему», – писал он одному другу в Копенгаген, а другому сообщал, что Париж по сравнению с Копенгагеном – это все равно что перламутровый зал по сравнению с каретным сараем. Он провел там более трех месяцев, восхищался парками и дворцами, меняющейся и разнообразной народной жизнью и свободой в разговорах и поступках, хотя поначалу его раздражало легкомыслие, чтобы не сказать фривольность, с которым он всюду сталкивался, – в театрах шли водевили, которые в Копенгагене невозможно было бы поставить! Большое впечатление на него произвела опера, особенно из-за роскошных декораций.
Собор Парижской богоматери потряс его, Версаль тоже, но больше всего Трианон, где он с благоговением посмотрел опочивальню Наполеона – ведь это был великий император, ради которого его отец двадцать лет тому назад отправился на войну. Затем ему повезло: как раз на июль пришлись пышные, продолжавшиеся три дня торжества по случаю установления на Вандомской колонне статуи Наполеона, и он на них присутствовал, хотя это и стоило ему массы денег, а потом был полумертв от усталости.
Из знаменитостей он встречался с очень немногими, в частности с Гейне, который особенно сердечно приветствовал датского коллегу. Андерсен посетил Виктора Гюго и композитора Керубини, которого знали и любили в Копенгагене, чтобы поговорить соответственно о датской литературе и датской музыке, но к сожалению, Гюго знал лишь Эленшлегера, а Керубини никогда не слыхал о Вейсе. Наконец, уже перед самым отъездом из Парижа, он нанес визит старому слепому П. А. Хейбергу{47}, отцу Й. Л. Хейберга, общественному деятелю, который жил за границей со времени ссылки в 1799 году, а теперь написал в альбоме Андерсена печальные слова: «Примите дружеский прощальный привет слепого!»
Но, как бы ни было интересно вокруг, мысли его часто возвращались в Данию, и он проводил много времени за письмами домой, во-первых, естественно, потому, что чувствовал потребность рассказать обо всем увиденном, а во-вторых, чтобы постоянно напоминать Коллинам о продвижении водевиля, отданного в театр перед отъездом, и о напечатании своих ’«Стихотворений».
В безудержной потребности творчества и в стремлении доказать друзьям на родине, что способен создать что-то новое, он сразу же по приезде принялся за грандиозно задуманное драматическое произведение в двух частях, повествующее об Агнете и Водяном и описывающее «удивительную тягу человека к тому, чего у него нет», эт+у вечную неудовлетворенность, которую Андерсен так хорошо знал по себе и впоследствии так гениально описал в сказке «Ель». Он усердно взялся за дело и еще в Париже закончил первую часть.
Конечно, он часто думал о том, как поживают все его милые друзья, и ждал от них писем. Но как ни странно, он не получал ничего: ни вестей, ни ответов на свои письма. Прошло две недели, месяц, почти два месяца. Даже принимая во внимание медлительность почты, это было странно. Он справлялся в миссии и на почте – писем не было. Он все больше и больше нервничал: почему они не пишут? Неужели меня забыли? Может быть, они хотят бросить меня на произвол судьбы? Особенно горько он переживал молчание своего ближайшего друга Эдварда Коллина, который прежде был сама преданность. Теперь он сильнее, чем когда-либо, ощущал свое одиночество в мире. У других были родители, братья, сестры, невесты или жены – у него были только друзья, которые теперь, казалось, изменили ему.
Правда, через две-три недели одно письмо пришло. Но Андерсен воспринял его как удар в лицо, потому что в письме было не что иное, как вырезка из «Копенгагенской почты» от 13 мая, посланная анонимно, с эпиграммой на него. Такое никому не бывает приятно, а для легко ранимого поэта означало катастрофу. Первое письмо, полученное с родины, – подтверждение его мнения о соотечественниках! Его парализовало это проявление человеческой злобы, низости и зависти датчан.
С этой неблаговидной историей дело обстояло вот как. Вскоре после отъезда Андерсена один наивный человек анонимно напечатал в «Копенгагенской почте» восторженное стихотворение «До свидания, Андерсен!» – десять строф благожелательной, но неудачной поэзии. Дней через десять в той же газете появилась в ответ злобная, также анонимная эпиграмма. Ее-то и прислали Андерсену. Эпиграмма была строгой по форме, но столь несправедливой и развязной по тону, что вызвала в Копенгагене неловкое замешательство, и даже Кр. Вильстер, строгий критик Андерсена, счел себя обязанным публично опровергнуть слух о своем авторстве. Друзей очень огорчили эти гнусные нападки, и Эдвард Коллин опубликовал в «Копенгагенской почте» резкий протест. Но обо всем этом несчастный поэт узнал нескоро. В тот момент ему пришлось утешиться тем, что подобные вещи заслуживают лишь презрения и что гнилых ягод птицы не клюют. Другое, столь же трезвое утешение он получил через некоторое время от старого Коллина: «Париж, дорогой Андерсен, не место для переживаний из-за литературных завистников!» Но заноза все же осталась, и он вспомнил этот эпизод двадцать лет спустя, когда писал мемуары. Там приводится и эпиграмма.
Наконец в июне он получил письмо от Эдварда Коллина, который разъяснял обстоятельства пресловутой эпиграммы и извинялся за свое долгое молчание, которое Андерсен, несмотря ни на что, понять не мог. Ему казалось, что писать письма легко. Он не представлял себе (и никогда этому не научился), что у других людей есть постоянные обязанности, которые часто отнимают целые дни, и что не всем так легко выражать свои мысли, как ему. Но с той поры он регулярно получал в Париже письма с родины. Правда, они казались ему слишком лаконичными, но все же означали, что его не забыли.
В середине августа он собрался ехать дальше. В Городе городов он увидел и узнал многое и, по его мнению, развился как личность. «Что касается меня, я очень побледнел, но выгляжу более решительным, держусь лучше, чем раньше, и меньше размахиваю руками. Я также приобрел пару летних брюк из простого серого полотна (которые здесь вошли в моду), и портной их так отлично скроил, что у меня разом появились и бедра, и икры! Вот где вечная магия формы. Я получаю истинное удовольствие, глядя на себя; вот бы дома посмотрели на мои ноги, но все-таки они не такие длинные, чтобы дотянуться до Дании!» Кроме того, была закончена первая часть «Агнеты». Незадолго до отъезда он послал ее Эдварду Коллину и пребывал в необычном напряжении, ожидая услышать, как его пьеса понравилась друзьям в Копенгагене. Сам он был убежден, что лучше этого он еще ничего не писал и наверняка заткнет глотки своим критикам.
Не удалось ему только научиться французскому языку. Он слишком много времени проводил со своими соотечественниками которые, кстати, дома, в Копенгагене, рассказывали о его плохом французском; позже он отвечал, что они правы: его французский столь же плох, как их. Ради французского он решил по дороге в Италию задержаться на три недели в Швейцарии. По счастливому стечению обстоятельств у него был знакомый в Ле-Локле, небольшом городке в горах Юра, пригласивший Андерсена пожить некоторое время. Там Андерсену невольно пришлось бы говорить по-французски, так как семья не знала другого языка. Кроме того, подобное гостеприимство сократило бы его денежные расходы, «хотя я всегда могу отблагодарить подарком!» – добавляет бережливый поэт в письме, рассказывая о приглашении.
15 августа он покинул Париж и через несколько дней переехал через горы Юра, откуда впервые увидел Высокие Альпы. «Внизу раскинулись плодородные кукурузные поля и виноградники, я ехал по краю пропасти, далеко подо мной проплывали облака, а впереди лежали Альпы, словно гигантские стеклянные волны с пеной снега, они будто плыли по океану прозрачного тумана», – писал он. После двух дней на Женевском озере он наконец достиг Ле-Локля, который лежал высоко в горах, окруженный дремучим еловым лесом, где царила гробовая тишина. Как раз тишина и была необходима ему после беспокойного времени в Париже. Семья, в которой он жил, была к нему очень добра, он начал привыкать к трудному языку и даже немного говорил на нем, совершал прогулки в густом лесу и мог спокойно закончить вторую часть «Агнеты».
Эта вещь занимала его постоянно, и, послав рукопись домой, он настоятельно просил Эдварда Коллина позаботиться о том, чтобы найти издателя и выпустить книгу к рождеству, и умолял поскорее дать ему знать, что о ней говорят. «Я доволен своей работой, вы тоже должны радоваться, ибо она принесет нам почет, так предчувствует мое сердце». Получив в Риме письмо с родины, он понял, что сердце оказалось плохим пророком.
Не менее живо интересовался он своим материальным положением. Ведь ему скоро предстояло ехать дальше, на обетованную землю Италии, но надолго ли хватит денег? Может быть, все-таки хватит на два года, как он страстно желал? Он прикидывал так и этак. Реально ли надеяться, что он дополнит государственное пособие деньгами из других источников и тем самым продлит пребывание в Италии? Получит ли он от издателей аванс за «Агнету»? И много ли? Может ли он рассчитывать, что Эдвард Коллин не забудет вовремя прислать ему в Рим необходимый чек, как было договорено заранее? Его приводила в ужас перспектива оказаться без денег в чужой стране. Он по крайней мере три раза напоминал Коллину о чеке в письмах из Парижа и шесть раз в письмах из Швейцарии. Беспокоиться не стоило, Эдвард Коллин был обязательным человеком. Правда, в данный момент Андерсену не хватало денег поездить по Швейцарии, где все так дорого; жаль, дома не понимают, как ему нужны деньги, чтобы иметь возможность «перелетать с места на место» – ведь только тогда путешествие пойдет ему на пользу.
* * *
И вот 14 сентября он распрощался с милыми людьми из Лe-Локля и отправился прямо в Италию. Он проехал через Симплон – по пути, проложенному его героем Наполеоном, – и 18 сентября очутился в Италии. Он достиг земли обетованной! «Германия и Франция по сути не чужбина: только за Альпами лежит новый мир!» – писал он. Он дышал полной грудью: небо казалось вдвое выше, чем на родине, дул нежный ветер, вдоль дорог росли каштаны и смоковницы, висел крупный и тяжелый виноград, а «рыбы в Лаго-Маджоре пели сладкими голосами». Это был рай! Здесь он чувствовал себя дома. Он обнаружил, что по натуре он житель юга.
Его поразила природа и архитектура городов. Миланский собор! Он казался выточенным из одной глыбы мрамора; собор Парижской богоматери не шел ни в какое сравнение. С башни он видел Альпы, укутанные облаками, на юге поднимались Апеннины. Генуя, его следующая остановка, произвела на него огромное впечатление своими ослепительными дворцами; город был почти такой же интересный, как Париж. Поездка оттуда в Пизу стала настоящим откровением южной роскоши: «Если Франция страна разума, а Дания и Германия – сердца, то Италия – царство фантазии. В ней все живопись! Какой пример привести? Ну хотя бы одно местечко под Генуей, по пути туда! Представьте себе: налево горы, поросшие миртами и оливами, крестьянские домики с лимонными деревьями, а справа – темно-синее Средиземное море; крутой утес, черный как смоль и устремленный в небо, возвышается над водой, под ним плывет в солнечном свете корабль с надутыми парусами, а по дороге перед нашим экипажем идут восемь-десять монахов-капуцинов с их характерными лицами».

Рисунки Андерсена (из первого путешествия по Италии)
Потом была Пиза, каррарские мраморные карьеры и, наконец, Флоренция! Он не знал, чем закончить и с чего начать, когда рассказывал в письмах обо всех чудесах тосканской столицы. Искусство античности и Возрождения просто выбило у него почву из-под ног. Только теперь он начал понимать скульптуру и живопись, понимать, что Херц был прав, утверждая в «Письмах с того света» важность хорошо продуманной художественной формы. Он чувствовал, что ничего не умеет, ничего на знает; «жизнь коротка; смогу ли я так чудовищно многому научиться!»
Он провел пять совершенно ошеломляющих дней во Флоренции и 13 октября выехал в Рим, но теперь он заметил, что далеко не вся Италия – рай. Еще в Милане он слышал, что накануне его приезда неподалеку от города ограбили экипаж путешественников, а однажды вечером, возвращаясь из оперы, увидел на ступеньках церкви спящих мужчин – бандитов? Ему пришлось взять себя в руки, чтобы побороть «эту проклятую трусость, которая сидит у меня в крови». По пути в Геную ему и двум знакомым датчанам, ехавшим с ним, пришлось испытать «все мучения и трудности, которые Италия предлагает путешественнику. Все так и норовят вас обмануть, – писал он своей приятельнице в Копенгаген, – вы себе не представляете, какая здесь грязь; нам пришлось грозить полицией, по ночам охранять свою одежду, видеть, как солдаты уводят грабителей, и так далее». А по пути из Флоренции в Рим стало еще хуже: «Эти шестидневные муки привели нас в отчаяние. Красота Италии едва ли может перевесить ее свинство. Это настоящий хлев. Постоялые дворы столь убоги, столь грязны, столь полны клопов, что мы спали одну ночь из шести; пришлось ходить по комнате, искать убежища в стойлах, и все же нас едва не съели блохи и ядовитые мухи. В первую ночь у меня на одной руке было сто тридцать семь укусов. Лица у нас распухли, еду подавали отвратительную: прокисшее вино, петушиные гребешки, жаренные в растительном масле, и тухлые яйца». Когда наконец 18 октября их взглядам открылся Рим с парящим над городом куполом собора св. Петра, они уже измучились так, что в мыслях у них было одно: теперь мы сможем поесть!








