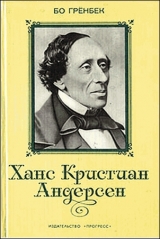
Текст книги "Ханс Кристиан Андерсен"
Автор книги: Бо Гренбек
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 19 страниц)
Не лучшая картина предстает перед читателем и в сказке «Тень». Это в высшей степени реалистическая история, лишь с некоторыми сказочными чертами: тень освобождается от своего господина и начинает собственное существование; никого не удивляет, что можно страдать от досадной болезни – чересчур зоркого взгляда; а что богатый и эксцентричный господин наряжает свою тень человеком, не более удивительно, чем то, что он проходит курс лечения водами, чтобы у него росла борода. Но эти частности только намечают ход событий в потрясающей драме о смелом и доброжелательном ученом, вынужденном терпеть, когда его делает беспомощным собственная тень, бывший слуга и спутник, который, не гнушаясь никакими средствами, даже самыми подлыми, стремится возвыситься в обществе и достигает цели. Эти два героя неприятно правдоподобны; то же можно сказать и о третьем персонаже, принцессе, которая умна, но не настолько умна, чтобы распознать обманщика, хотя он всего-навсего тень, которую она может пронизывать взглядами, как иронично говорится о ней, когда она смотрит на тень влюбленными глазами. Горькая философия сказки такова, что умные люди стремятся к добру, но их ум и доброта не помогают им, а к собственной выгоде стремятся люди беззастенчивые, и именно они побеждают. В этой сказке нет утешительных моментов. «Таков свет, таким он и останется», – говорит Тень.
Тому, кто боится безжалостности существования и человеческой подлости, не найти утешения в этой жуткой истории.
Но даже если жизнь, как в сказках, так и в действительности, жестока и несправедлива и горя обычно больше, чем радости, у читателя не остается сомнения в том, что жить все же стоит. Жизнь лишь надо принимать такой, как она есть. Горе тяжело, но, если видеть в нем одно из проявлений жизни, оно тоже приносит нам благословение (как говорится в сказке «Последняя жемчужина»). Все зависит от нас самих. Если наши глаза открыты, а ум восприимчив, мы обнаружим, что жизнь ярка и прекрасна, богата большими и малыми событиями; что мир полон людей и других существ, совершенно разных, по-своему оригинальных, и потому нам не придется скучать, было бы желание смотреть и слушать. Для возницы катафалка в «Веселом нраве» жизнь представляет собой огромный и радостный театр, а когда писарь в «Калошах счастья» и начинающий поэт в «Что можно придумать» открывают глаза и уши, вокруг них начинают жужжать истории. Маленькой Герде с открытой душой все цветы рассказывали свои сказки, когда она просто смотрела на них.
Можно найти интересное и радостное даже в мельчайших вещах, в том, что люди обычно считают недостойным внимания. Старый сломанный уличный фонарь доставляет радость семейству сторожа в его маленькой комнатке в подвале, цветок гороха вызывает жажду жизни и силу у больной девочки на чердаке, а солнечный луч может стать проповедью жизненного кредо. Ситуации, в которых не происходит вовсе ничего особенного, могут быть исполнены красоты и поэзии для тех, кто умеет смотреть и слушать. А это умеют не все. Маленькая ель в одноименной сказке так поглощена тем, чтобы вырасти и стать большой, что не замечает солнечного света и чистого воздуха, друзей – сосны и другие ели, и крестьянских ребятишек, которые так весело болтают друг с другом, собирая ягоды.
Но ель не понимала и того, что значит жить.
* * *
Сказки выражают кредо искренней души и непосредственного чувства, в них говорится о делах маленьких и незаметных созданий, и они разъясняют нам, что жизнь богаче и шире наших ограниченных представлений о добре и зле, она неисчерпаема.
Естественно, эта философия привлекла многие сердца и многим людям принесла утешение. Она обращена и к современному читателю. Но этим сказки не исчерпываются. Если читать их более внимательно и попытаться делать выводы, они скорее вызывают беспокойство, чем приносят утешение. Уже одни портреты мещан-обывателей могут напугать читателя: неужели мы такие? Были ли люди такими только во времена оны или и сейчас много им подобных? Не ограничен ли и ты сам? Не рядишься ли ты в чужие перья, как многие филистеры в сказках? Не смакуем ли мы красивые фразы? Не стали ли мы рабами лозунгов и других дешевых упрощений действительности? Можем ли мы считать себя свободными?
У читателя мороз проходит по коже при виде пропасти, которая разделяет героев сказок, в том числе и людей. Неужели мы и впрямь такие разные? Нельзя ли нам стать немного более однородными? Не устарели ли наши демократические идеалы? Не виной ли тому отказ одноглазого идеалиста видеть действительность такой, как она есть? Сказки – это протест против всяческого стремления унифицировать жизнь и сглаживать различия между людьми. Был ли автор большим реалистом, чем мы?
И далее: является ли огромная физическая вселенная, в которую мы привыкли верить, конечной истиной? Можно ли представить себе, что вещи не мертвы, а явления природы олицетворены? Наши физические знания говорят одно, писатель другое. Кому верить – физике или писателю? Сказки утверждают, что, если ты живешь в тесном общении со своим ближайшим окружением, оно обретает жизнь в твоем восприятии, и тогда великая механика теряет всякий интерес. Может ли современный читатель принять такую мысль?
И наконец, идея сказок о богатстве жизни: умеем ли мы принимать ее большие и малые дары? Открыты ли мы так же, как автор и многие из его героев? Или мы идем по жизни глухими и слепыми, не обращая внимания на те мелкие радости, которые она нам предлагает? Может быть, мы слишком поверхностно и поспешно судим об окружающем мире?
Сказки представляют собой далеко не безобидное и невинное чтение. В того, кто умеет читать между строк, они вселяют беспокойство. Человеческая проницательность и жизненная мудрость писателя выходят далеко за рамки обычного.
* * *
Андерсен был посредственным драматургом, средним поэтом, хорошим романистом и выдающимся автором путевых заметок. Но в сказках он достиг совершенства, и его гений проявился именно в них благодаря необычайному сочетанию внешних и внутренних обстоятельств: особых социальных условий, особого темперамента и особого художественного таланта.
Социальными условиями было его бедное детство в Оденсе. Насколько он помнил, его всегда окружали сказки и легенды, и – что еще важнее – он был знаком с тем миром, в котором разыгрывались эти народные рассказы. До четырнадцати лет он жил среди людей, не слышавших о той натурфилософии, на которой воспитывались образованные классы. Для простого народа природа была не огромным механизмом неодушевленных вещей, а вселенной живых сил, дружелюбных или враждебных, но, во всяком случае, бесчисленных. Хотя тролли, домовые, эльфы и привидения не играли большой роли в повседневной жизни, они тем не менее были существенной частью мира представлений человека из народа, и сказки сами по себе не содержали ничего невероятного или нелогичного. Не было в них ничего противоречащего разуму и для Андерсена. Ощущение тайны жизни сидело у него в крови. Другие датские писатели тоже сочиняли или пересказывали сказки, но они были знакомы с миром сказок только через литературу. Андерсен знал их по собственному опыту и мог рассказывать более авторитетно, с гораздо большей достоверностью, чем его коллеги. Его прельщала возможность передавать старые истории по-своему, но столь же хорошо он сочинял новые; у него было достаточно фантазии, и он до мозга костей чувствовал и требования жанра, и условия обстановки. Низкое происхождение, которое в начале карьеры было социальной трудностью, с течением времени оказалось счастьем для него как писателя.
Психический склад Андерсена был другой предпосылкой для создания сказок. Уже одна его необузданная фантазия делала сказочную форму более естественной для него, чем роман или драму. В этих двух жанрах необходимо учитывать реальное правдоподобие событий. Но в сказках может происходить очень многое, неправдоподобное становиться правдоподобным; здесь есть своя логика событий, но больше простора для фантазии.
К этому добавляется то, что писатель от рождения был наделен впечатлительностью, которая заставляла его воспринимать окружение гораздо интенсивнее, чем других. Он был как бы пленником того, что видел, и среди явлений окружающего мира забывал про себя. Животные, большие и маленькие, становились для него думающими, рассуждающими личностями, и даже так называемые неживые предметы получали индивидуальную жизнь. В 1843 году он писал Ингеману: «У меня масса материала [для сказок], больше, чем для любого другого вида творчества; иногда мне кажется, будто каждый забор, каждый маленький цветок говорит: „Взгляни на меня, и тебе откроется история всей моей жизни!“ И стоит мне так сделать, как у меня готов рассказ о любом из них!» Совершенно естественно, что животные, цветы или игрушки в сказках представляют собой живые индивидуальности, ведь такими он воспринимал их в действительности. Когда он сочинял, наблюдения природы сочетались с человеческим опытом, и в результате получались животные, насекомые, растения и предметы – с человеческими чертами. Навозный жук только снаружи навозный жук, внутри он человек.
Однако не меньшее значение имело душевное богатство Андерсена. Он сохранил детскую непосредственность в реакциях и детскую близость с окружающим миром (многим детям вещи кажутся живыми существами) – в то же время он обладал здравомыслием взрослого. Именно эта двойственность разума помогла ему писать сразу и для детей и для взрослых. Он был на «ты» с оловянным солдатиком так же легко, как любой ребенок, а его жизненный опыт обогатил бы любого взрослого.
И наконец, третья предпосылка: своеобразие, или, если угодно, ограниченность его писательского дарования. Как уже говорилось, Андерсену трудно давались крупные композиции или более подробное и многостороннее описание характеров. Его сила была в коротком эскизе человека, изысканных репликах, быстром наброске ситуации. Сказка словно создана для его таланта к малым формам. Жанр не допускал многословия и в то же время предоставлял свободу, и писатель мог как угодно использовать свои бесчисленные разбросанные наблюдения природы и людей или в виде небольшой типажной зарисовки, или брошенного мимоходом замечания от собственного имени. Он мог непринужденно перескакивать из мира животных в мир людей, от рассказа для детей в рассуждения для взрослых, от серьезности к шутке, и наоборот.
Таким образом, сказка стала самым непосредственным выражением его экспансивного и капризного темперамента. Здесь он чувствовал себя на месте в поэтическом смысле, и, возможно, этим объясняется тот странный факт, что в сказках он так усиленно заботился о форме. В них нельзя найти случайности или небрежности, которые часто отмечают его лирику и пьесы. И в то время, как он, по замечаниям театральных цензоров, неоднократно переделывал свои пьесы, никто не мог бы подсказать ему, как нужно писать сказки. Это он знал сам. Он шлифовал язык и обуздывал фантазию. В самых сверхъестественных событиях всегда есть строгая мера и четкая последовательность. Насколько безжалостен он был к себе, видно по сохранившемуся первому черновику «Пастушки и трубочиста». Фантазия в нем переходит все границы; но Андерсен уверенным инстинктом несколько приглушил рассказ. И он стал совершенным. Не осталось ни одной невзвешенной фразы. Ни одной сказки Андерсен не посылал в печать, не убедившись, что ее невозможно сделать лучше.
Глубина восприятия и точность выражения – отличительные признаки его сказок.
Личность
«Сказка моей жизни»
Всю жизнь Андерсен был невероятно поглощен собой. Это случается со многими людьми, в том числе и с творческими личностями, которые считают себя необыкновенными и хотели бы, чтобы окружающие принимали их с восторгом. Но жизнь Андерсена сложилась так, что должна была довести самоуглубленность до крайности. Его особый дар и необычный характер, которые еще в детстве изолировали его от товарищей, а также неизбежные трудности в приспособлении к классу буржуазии, куда он первоначально не относился, вынуждали его к беспрестанным размышлениям о себе и своих отношениях с окружающим миром. Прямодушная общительность не давала ему покоя, пока он не посвящал других людей в свои наблюдения по этому поводу, и он использовал любую возможность, чтобы устно или письменно рассказать о своем удивительном жизненном пути, который, по его мнению, объяснял, почему он такой, как он есть.
Это началось еще в школьные времена в Слагельсе. Не решаясь обратиться к внушающему страх Мейслингу устно, он вместо этого отправил ему письмо с описанием своей жизни, которое должно было помочь прямолинейному педагогу понять его. Позднее – где-то в 1832 году – он написал для сведения друзей в Копенгагене очерк своей жизни, который частным образом распространялся среди его близких, а еще через некоторое время ему представился случай открыть душу более широкому кругу читателей.
Это произошло с помощью ряда небольших статей, опубликованных в последующие годы в Дании и за ее пределами; их он либо написал сам, либо по крайней мере дал материал к ним – но прежде всего с помощью двух больших мемуарных произведений, которые вышли в 1847 и 1855 годах, одно на немецком языке в виде предисловия к его собранию сочинений, второе на датском, также в связи с собранием сочинений, выпущенным к его пятидесятилетию.
Когда писатель получил предложение от немецкого издателя написать подробную автобиографию, он, конечно, был в восторге. Его творчество получило известность, теперь он и сам станет известным. И он не был разочарован. Немецкую «Сказку моей жизни» много читали, ею восхищались – немецкий рецензент даже очень лестно сравнил ее с «Dichtung und Wahrheit» Гёте и «Исповедью» Руссо. Ее быстро перевели на английский язык, что способствовало более близкому знакомству англоязычных читателей с личностью писателя.
Немецкая «Сказка моей жизни» – которая, кстати, наконец-то существует и на датском языке, она вышла в 1942 году в издании Х.Топсё-Йенсена по оригинальной рукописи – была написана во время большого путешествия Андерсена в Италию и Южную Францию летом 1846 года и носит отпечаток того, что ему во многом пришлось полагаться на свою память, и потому материал подан неровно. Андерсен рассказывает о своем бедном детстве, трудной юности, борьбе за писательское признание и о европейском успехе, который увенчал его стремления. Книга кончается мастерским описанием его недавнего путешествия по душной летней жаре юга Европы в 1846 году. Можно отметить, что при описании своей литературной карьеры – то есть примерно с 1830 года – он уделяет много места сообщениям обо всех высокопоставленных и знаменитых людях, с которыми встречался, великих художниках и коронованных особах и об их благосклонности к нему и его произведениям, а в противовес – о несправедливой, по его мнению, даже злобной критике, которой он подвергался на родине. С другой стороны, он почти ничего не пишет о том, как создавались его стихи, как у него возникали идеи и как он над ними работал. Читатель узнает исключительно о том, как принимала его произведения общественность.
Книга имела такой большой международный успех, конечно, благодаря тому, что читателям всегда интересно познакомиться с великими людьми с чисто человеческой стороны и услышать об их удивительной жизненной судьбе – в случае Андерсена прежде всего о его детстве, и правда, пленительно описанном, и о стремлении сквозь нищету и страдания к достижению той великой цели, которую он перед собой поставил. Эта борьба сама по себе достаточно драматична, а рассказ еще приукрашен разнообразными живописными и трогательными подробностями. Напротив, мировой общественности едва ли было так уж интересно слушать о великих людях, с которыми он встречался, и едва ли кого-либо могли позабавить пространные и бесконечно повторяющиеся жалобы на критиков в маленькой Дании.

Письменный стол и дорожные вещи писателя
Датская автобиография 1855 года, «Сказка моей жизни», представляет собой значительно расширенный и улучшенный вариант предыдущей. Рассказ, естественно, дополнен триумфальными поездками в Англию и Швецию, участием в великих национальных событиях 1848 года и другими его переживаниями за период 1846–1855 годов. Но описания из немецкого варианта при переработке были углублены и расширены, эпизоды рассказываются более изысканно, язык тщательно отточен. Несмотря на улучшения, книга не вызвала особого интереса за пределами Дании. При жизни писателя вышел всего один перевод, в США, для которого он по просьбе издателя написал о годах с 1855 по 1867 (это продолжение было опубликовано на датском языке только после его смерти). В большом мире читали немецкий вариант и его перевод на английский еще и потому, что он короче и с вполне естественным драматизмом повествует о борьбе писателя за достижение славы и завершается решительным утверждением, что цель достигнута. Этого достоинства у датского варианта нет. Биография человека, достигшего известности, не может быть особенно интересной для чтения, тем более когда эта известность постоянно подкрепляется многословными перечислениями великих людей, которых знал писатель.
Что же можно сказать сейчас, сто лет спустя после смерти Андерсена, об этих мемуарных книгах? Их читаешь со смешанными чувствами – восхищением и некоторым недоумением. Прежде всего вызывает восхищение описание детства, которое дает несравненную картину народной жизни со всей ее нищетой и непритязательностью. Увлекательно читать о его жизни в Копенгагене в 1819–1822 годах и о годах учения у Мейслинга; здесь также даны превосходные описания, особенно путешествий. Некоторые из них входят в датский вариант «Сказки моей жизни», например поездка 1833 года из Парижа в Швейцарию и оттуда в Рим или описание Лондона, каким ему представился этот город в 1847 году. Здесь много комических и трогательных эпизодов, рассказанных с метким юмором и проникновенной поэтичностью, а кроме этого, прекрасные портреты таких великих датчан, как Торвальдсен, Эленшлегер, Х.К. Эрстед и Вейсе, которые все были его друзьями.
Но в обеих биографиях, конечно, немало такого, что огорчит современного читателя. Первая часть – то есть время до 1828 года – самая лучшая, но, к сожалению, на нее можно полагаться не больше, чем на бабьи сплетни. Ибо, если вам действительно любопытно узнать, как год за годом протекало его детство, вы будете разочарованы. Описание неясно и недостоверно. В нем почти нет хронологических вех, поэтому неизвестно, когда происходили отдельные события, и часто от читателя скрываются важные подробности, например объяснение, как мальчику из народа удалось получить доступ в благородные буржуазные дома в Оденсе или быть принятым городской аристократией. Разнообразные пояснения, помещенные рядом в одной главе, нередко противоречат друг другу. Например, в одном месте писатель рассказывает, как уже после смерти отца мать заявила, что не может позволить такому большому парню болтаться без дела, – и тут же, без перехода, продолжает рассказывать, как ходил в школу для бедных. Эти два сообщения трудно объединить, потому что, вероятно, в школу для бедных он начал ходить гораздо раньше, и из другого места мы узнаем, что дети обычно были заняты там целый день. Он вообще не упоминает, когда начал ходить в школу и когда кончил. Описания его семейных обстоятельств, как уже говорилось, неполны, чтобы не сказать ложны, а история с гадалкой ради эффекта приурочена ко времени непосредственно перед отъездом в Копенгаген в 1819 году, хотя писатель прекрасно знал, что эти два события не имеют друг к другу никакого отношения.
Совершенно сумбурны и не складываются в общую картину описания трех лет в Копенгагене с 1819 по 1822 год, и андерсеноведению пришлось заниматься детективной работой, чтобы выяснить последовательность и связь событий. Здесь писатель также, по крайней мере один раз, пожертвовал правдой ради эффекта. Но наименее точна глава, где изображено время с 1830 по 1833 год. У читателя остается впечатление постоянных преследований и ругани со стороны друзей и критики, равнодушия публики, а в 1833 году еще и отчаянной, почти безнадежной борьбы за стипендию: согласно этому рассказу, чтобы получить ее, ему пришлось использовать многочисленные рычаги и кнопки. В качестве одной из помех упоминается, что Херц незадолго до этого издал свои знаменитые «Письма с того света» и, таким образом, одним ударом выдвинулся на передний план как конкурент на вожделенную стипендию. Все это совершенно неверно. Критика не была к нему так уж несправедлива, он не был жалким недооцененным писателем, над которым все издеваются, напротив, влиятельные друзья поощряли его и даже поддерживали его ходатайство лестными рекомендациями. Искаженная картина внешних обстоятельств его жизни возникла из-за того, что Андерсен в то время по чисто личным причинам был очень подавлен, и эти воспоминания постоянно жили в его сознании и мешали трезвому воспроизведению фактических событий. «Письма с того света» Херца приведены здесь просто как эффектный фон трудностей с ходатайством в 1833 году. На самом деле «Письма» вышли тремя годами раньше.
Как уже говорилось, остальная часть мемуаров повествует, как он наконец достиг признания своей гениальности сначала за границей, затем, несколько позднее, в Дании и как он с лихвой пожинал плоды славы. Эта часть тоже представлена не слишком ясно. Создается впечатление, будто он рассказывает то, что пришло ему на ум впоследствии, и часто случайная ассоциация определяет, в каком порядке названы отдельные люди и события. Упоминания значительных особ вставляются туда, где это удобно. Например, семейство Коллинов описывается в нескольких местах. О том, как он начал писать сказки, мы узнаем не в 1835 году, что было бы уместно, а позже, в какой-то случайной связи.
Но особенно бросается в глаза маниакальное пристрастие к рассказам о критике, которой он подвергался как со стороны отдельных лиц, так и общественности, и о сопротивлении, которое он встречал в театре. С юмором висельника он пишет, что у него было желание «избить этих мокрых собак» – то есть критиков, – «которые входят в нашу гостиную и укладываются на лучшие места». Но сердился он на них совершенно всерьез. Накопившаяся за много лет озлобленность постоянно прорывается на поверхность, часто вовсе несправедливо; она скрыто присутствует в каждом рассказе и всплывает в самых неожиданных местах. В связи с писательским жалованием, назначенным ему в 1838 году, он дает понять, что теперь для него наконец наступили новые, лучшие времена. Но, на удивление читателя, он тут же углубляется в мрачные реминисценции оскорблений и обид, нанесенных ему в театре за много лет до того. Даже когда он пишет о своем пребывании в Афинах, его посещает горькое воспоминание, и он не может удержаться от рассказа о выговоре, который ему сделала некая случайная дама в случайном обществе. В последних частях книги гнев на отсутствие признания в Дании несколько отступает на задний план, но все же и тут есть отдельные пространно описанные досадные происшествия, например одна глупая выходка его английской переводчицы Мэри Хауит.
Бросаются в глаза и утомляют также бесконечные перечисления европейских знаменитостей, с которыми он встречался. Повествование кишмя кишит известными художниками, благородными дворянами и королевскими высочествами, но на деле мы ничего о них не узнаем. Их характеристики поразительно банальны. Почти все монархи благородны, сердечны, милостивы и участливы; художники, как правило, изображены очень поверхностно, как люди духовные, добродетельные и глубокие. Даже портреты тех, с кем он близко подружился, например великого герцога Веймарского, не отличаются глубиной. Более подробного представления об их личности практически не дается.
Едва ли он этим интересовался. Его занимали не столько они сами, сколько их отношение к нему. Он был счастлив, когда они, подобно Мендельсону, встречали его с непосредственной теплотой и сердечностью, но ему было достаточно и того, чтобы с ним были приветливы, чтобы его произведения нравились и его просили почитать их. В большинстве случаев общение было столь кратким и формальным, что его впечатление неизбежно было поверхностным. Многословный перечень этих людей представляется, по крайней мере современному читателю, просто излишним.
Наконец, в книге неприятно поражает та откровенность, с которой он выставляет себя и других на обозрение мировой публики. «Открыто и доверчиво, словно сидя среди друзей, рассказал я сказку моей жизни» – такими словами завершает он датскую автобиографию. Андерсен не чувствовал разницы между личными друзьями и безличной публикой. Перед анонимным читателем предстает все: болезни автора и сугубо домашние заботы, досада на поздний приезд Х.П. Хольста в Рим в 1841 году, где Андерсен его ждал, тайная злоба на Хейберга, рассуждения о «Душе после смерти», зубная боль – для мемуаров нет ни слишком мелкого, ни слишком великого. Он посвящает читателя в частные разговоры со всевозможными людьми, пересказывает случайные опрометчивые замечания и необдуманные слова друзей и знакомых, а попутно и собственные страдания по этому поводу. Описание рождества в Берлине в 1845 году, когда он сидел и ждал приглашения от Йенни Линд, и новогоднего вечера, когда она зажгла для него елку, очень трогательно, но все же, по-видимому, не касается читателя. Можно представить себе, что подумала прославленная певица, увидев, как выставляется напоказ ее личная жизнь. К тому же история рождества не совсем достоверна. На самом деле ждал он всего до восьми часов, а потом пошел в гости, но его роль обиженного лучше подчеркивалась впечатлением, которое создавалось у читателя, будто весь вечер прошел в напрасном ожидании.
Французский литератор Ксавье Мармье{67}, который в молодые годы Андерсена сделал многое, чтобы познакомить с его именем Францию, в 1867 году несколько резко, но верно писал о немецкой «Сказке моей жизни», что описание детства и юности пленительно, но остального хотелось бы избежать. «Для нас, тех, кто его любит, мучительно видеть, как он на двухстах страницах перечисляет достигнутые успехи, города, где он встречал людей, высоко оценивших его произведения, стихи, написанные ему и о нем, разнообразные комплименты в свой адрес. Достаточно того, что он на досуге рассказывает скромному и преданному другу об этих мелких триумфах на литературной арене. Но избирать в качестве задушевного друга всю публику и использовать печатное слово как средство для интимных признаний – это слишком откровенно или тщеславно». Верный друг Андерсена Ингеман придерживался того же мнения.
* * *
Вероятно, можно задать вопрос, как человек андерсеновского масштаба мог издавать мемуары подобного содержания? Но по тому, каков он был и как сложилась его жизнь, трудно было ожидать чего-либо другого. Он слишком много жил собой и своими произведениями и был слишком чувствительным по натуре, чтобы выносить, когда другие поправляли его или давали ему добрые советы. Он всегда занимал своего рода оборонительную позицию. Как уже говорилось, положение осложнялось тем, что он пришел со стороны, вернее, снизу и должен был утвердить себя в сложившейся буржуазной среде и в кругу признанных писателей. Для него это означало доказать, что он принадлежит к этому благородному обществу. Он в любую минуту ожидал критики, которая могла бы намекнуть, что он недостаточно благороден, недостаточно хорош, недостаточно талантлив. Можно добавить, что Копенгаген действительно был неподходящим местом для нервных людей, вроде него. Он так и не научился понимать копенгагенцев. Они отличаются – и отличались в те времена – веселой, не особенно искренней любезностью, а с другой стороны – неутомимым скептицизмом, желанием критиковать и насмехаться, потребностью за добродетелями искать пороки. Это негативное отношение часто всего лишь манера, дурная привычка, которую не следует принимать всерьез, и сами копенгагенцы никогда этого не делают. Но Андерсен ко всему относился всерьез. Шпильки он принимал за личные выпады и никогда не мог с ними примириться.
Далеко не все сознавали его особое положение. Многих друзей раздражала его вечная болтовня о литературных триумфах за пределами Дании и высокопоставленных заграничных знакомых, они преуменьшали его заботы и неприятности. Они пытались вернуть его на землю и заставить оценить свое положение более трезво. Но напрасно. Он не мог спуститься на землю, не мог подходить к своим делам с чужими мерками. Он чувствовал, что друзья его не понимают, а как же тогда могли понять его читатели? Многие годы его, так сказать, снедала горечь по поводу нравоучений и критики и потребность объяснить себя и свою жизнь.
Предложение написать сказку своей жизни он должен был воспринять как освобождение: теперь у него был простор для основательного и подробного рассказа о себе. Теперь он мог свести счеты с воспитателями ранней поры и критиками юношеских и зрелых лет и дать им и читателям понять, как несправедливо и без сочувствия к нему относились. Ему также хотелось, чтобы читатели знали, как он счастлив, что им восхищаются и его почитают европейские знаменитости, – и тем самым также представить своего рода доказательство того, насколько ошибались датчане. Множество имен подтверждали доказательство. Наконец, он хотел внушить своим читателям, что он не тщеславен или высокомерен, а смиренен и благодарен богу, который дал ему столько радости.
При всех этих условиях мемуары никак не могли стать спокойным взглядом назад, в прошлую жизнь. Их, скорее, можно назвать взрывом темперамента, признаниями оскорбленной души, объяснением и защитительной речью – но столь же сильным проявлением благодарности за то счастье, которое ему выпало. Он никогда не уставал удивляться тому, что он, бедный невзрачный мальчик, сумел подняться так высоко. Поэтому мемуары также представляют его философию по поводу собственной судьбы, миф его жизни, великое объяснение жизненного пути таким, как он хотел его видеть и как он желал, чтобы его воспринимала современность – и будущее. Основная мысль заключается в том, что Провидение чудесным путем привело все к наилучшему для него результату. Горе и неудачи встречались лишь для того, чтобы из них выросло что-то хорошее. Несчастье порождало счастье. И его жизнь явно развивалась по законам драмы: бедное, но по-своему счастливое детство; столь же бедная юность в Копенгагене, хотя трудности несколько смягчались помощью добрых людей; печальные, но необходимые годы учебы; долгие годы сочинительства, омраченные непризнанием и глупой критикой; постепенно растущее, огромное признание за границей; и наконец, вынужденное признание на родине. По этой схеме располагались факты, правдивые и менее правдивые, действительные и воображаемые.








