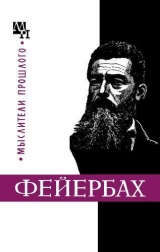
Текст книги "Людвиг Фейербах"
Автор книги: Бернард Быховский
Жанры:
Философия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 11 страниц)
Сохранились письма Фейербаха к жене, в которых он чистосердечно рассказывает о том, как напряженно он готовился к своим лекциям и как их читал. Целую неделю он работал, готовясь к своим трем лекционным часам. Фейербах предварительно составлял письменный текст предстоящей лекции, но читал их потом свободно, не глядя в текст. С волнением подымался он каждый раз на кафедру, «подобно бедному грешнику, идущему на эшафот». Но, взойдя на кафедру, он обретал уверенность: «Ты должен! – придавало мне силы» (22, стр. 232). Когда он впервые поднялся на кафедру гейдельбергской ратуши, весь зал встал, приветствуя великого, непризнанного, отвергнутого официальной академической наукой ученого. А «Франкфуртская газета» тем временем с нескрываемой злобой сообщала об этих противозаконных, богохульных лекциях.
«Я по натуре, – говорил Фейербах,– ...гораздо менее предназначен быть учителем, чем мыслителем, исследователем» (19, II, стр. 494). Тем не менее (а может, именно благодаря этому) лекции Фейербаха производили глубокое впечатление, захватывали слушателей, жадно вбиравших в себя исходившую от него, в глубоких раздумьях выношенную мудрость. И как прочувствованно, с какой искренней признательностью и сердечностью, с каким проникновенным уважением прощалась со своим просветителем депутация Рабочего просветительного союза в благодарственном адресе, преподнесенном Фейербаху после окончания его лекций!
В своих лекциях Фейербах подчеркивал политическоезначение атеизма: «Предмет этих лекций, религия, теснейшим образом связан с политикой» (19, II, стр. 493). Он начал свой курс с заявления о своей партийности:«Мы живем в такое время, когда каждый – и тот, который воображает себя наиболее беспартийным, даже против собственного сознания и воли, является... человеком партии: мы живем в такое время, когда политический интерес поглощает собой все остальные, ...в такое время, когда ...на нас... возлагается обязанность забыть все ради политики» (19, II, стр. 493). Но тут же обнаруживается и самоограничение Фейербаха – в приведенной нами цитате перед словами: «человеком партии» опущены слова Фейербаха: «хотя бы только в теории»(курсив мой.– Б. Б.). Политическое значение атеистической пропаганды заключается, по мысли Фейербаха, главным образом в следующем: чтобы в центр интересов поставить создание реальной, политической республики, необходимо отречься от иллюзий небесной республики. В своей заключительной лекции Фейербах, подводя итоги всей своей критики религиозного мировоззрения, говорил о том, что «отрицание того света имеет своим следствием утверждение этого» (19, II, стр. 808), направляет все стремления к тому, чтобы сделать лучше жизнь на земле, «превращает лучшее будущее из предмета праздной, бездейственной веры в предмет обязанности, в предмет человеческой самодеятельности» (там же). Свою политическую миссию Фейербах усматривал, таким образом, в том, чтобы преодолением религиозного суеверия устранить преграду, стоящую на пути к обретению революционного сознания.
Уже за несколько лет до революции Фейербах, призывая к атеизму, к отказу от бога, писал: «... мы снова должны стать религиозными– политикадолжна стать нашей религией» (19, I, стр. 111). Дальше этой непоследовательной, противоречивой позиции он, по сути дела, не пошел и в период революции. Он звал повернуться лицом к политике, притом к революционной политике, но понимания законов и движущих сил политической борьбы, понимания политики не как религии, а как наукион не достиг. Отсюда растет политическая беспомощность Фейербаха в дни революционной бури, в период буржуазно-демократической революции, крушение которой он мучительно воспринял как тяжелый удар.
После поражения революции Фейербах возвратился в брукбергскую глушь, еще крепче замкнувшись в своем одиночестве. Наступила пора черной реакции и вместе с тем время быстрого укрепления позиций немецкого капитализма. «Только благодаря непрестанной умственной деятельности я в состоянии терпеть этот сумасшедший дом и скопище мошенников европейской действительности» (22, стр. 244),– писал он Каппу в марте 1850 г.
Несмотря на политическую пассивность Фейербаха в революционный период, одно его имя приводило в ярость «духовную и светскую полицию». Официальная наука и печать заживо похоронили его. Даже упоминание о нем считалось неприличным.
«Разница между свободным и заключенным – чисто количественная, – писал Фейербах в 1851 г., – она заключается лишь в том, что первый из них находится в несколько более просторной тюрьме. Я, во всяком случае, всегда чувствую себя заключенным...» (22, стр. 256). В явном противоречии со своей теорией универсальный любви, Фейербах глубоко ненавидел и проклинал установленный после поражения революции реакционный режим, душивший и растаптывавший всякое прогрессивное начинание. «Черт бы побрал это безобразие!» (22, стр. 254) – восклицал он. По отношению к силам реакции Фейербах не допускал никакого примирения, никакого попустительства: «В политике, как и в религии, мало помогают половинчатость и двусмысленность; тот, кто их применяет и рекомендует, работает, не зная этого, на реакцию...» (22, стр. 209).
На самом деле, вопреки теории Фейербаха, в полном антагонизмов мире любовь и ненависть идут рука об руку. Оборотной стороной антипатии к пруссаческой полицейщине была симпатия к каждому проблеску прогресса и демократии как в самой Германии, так и за ее пределами. Фейербах видел, какая пропасть отделяет стремления и интересы народов от политики их правительств. Он видел, что в каждой стране народ «томится жаждой свободы, образования, улучшения» существующего положения вещей (см. 22, стр. 345). Радостно приветствовал Фейербах успехи национально-освободительного движения «краснорубашечников» в Италии, с любовью и восторгом отзываясь о героической деятельности Гарибальди. Осуществившееся под руководством пришедшего к власти Бисмарка национальное объединение германского государства было оценено Фейербахом с должной сдержанностью. Он понимал, конечно, положительное значение преодоления партикуляризма, но вместе с тем справедливо заявлял: «Я гроша ломаного не дам за единство, если оно не покоится на свободе, если оно осуществляется не ради этой цели» (22, стр. 337).
Фейербах родился в годы французского нашествия на Германию, а умер вскоре после окончания немецкого нашествия на Францию. На всю жизнь сохранил он ненависть к военной агрессии – не только тогда, когда нападали на его родину, но и тогда, когда собственная страна нарушала чужую независимость. Не только Наполеон оставался для Фейербаха «персонифицированным и концентрированным позором европейских народов и правительств» (см. 22, стр. 279), милитаризм Бисмарка возмущал его не меньше. «Нас неожиданно оттолкнули на целое столетие назад, – писал он своему австрийскомудругу Дейблеру в дни прусско-австрийской войны, – нас вернули ко времени Семилетней войны, ко времени варварства гражданской, или братской, войны» (22, стр. 335—336). Ему претил насаждавшийся в Германии милитаристский дух солдатчины, дух войны, с ее безудержной тратой денег на гонку вооружений, губительную как для экономики, так и для сознания граждан. Буквально на другой день после провозглашения в Версале создания Германской империи дочь Фейербаха Элеонора писала редактору итальянского журнала «Свободная мысль» Луиджи Стефанони об отношении Фейербаха к франко-прусской войне. Отец ее не в состоянии был сам ответить на запрос Стефанони – он лежал тяжело больной после постигшего его сердечного удара. Отрывок из письма Элеоноры Фейербах, написанного, по-видимому, под диктовку отца, заслуживает того, чтобы напомнить о нем и в наши дни. «Вот почему,– писала она, – мы сожалеем о войне, как о великом несчастье и преступлении против цивилизации, как об акте грубейшего разрушения, физического и морального одичания. С тех пор как война не носила характера национальной обороны, мы, как немцы, потеряли чувство патриотизма, чувство, которое мой отец всегда подчинял принципу гуманности...
И победы, одержанные немцами над войсками Республики, это победы цезаризма; наша демократия не может радоваться им так, как она по праву радовалась, когда пал французский цезарь. В какой бы форме ни скрывался цезаризм, он есть и всегда будет величайшим врагом политического и социального прогресса. О, да придет мир и да погибнет наконец этот Молох, этот бог разрушения, требующий от нас стольких жертв! Пусть солидарность народов охраняет их благосостояние и благополучие и пусть сгинут фурии войны!» (47, II, стр. 208).
Этот политический завет немецкого философа-гуманиста и поныне сохраняет всю свою силу и жизненность.
Глава VI. Сила и слабость антропологизма
В центре интересов Фейербаха и, естественно, в центре всей его философии – человек. Учение его глубоко антропоцентрично. Слова одного из героев произведения Горького: «Человек – это огромно. Это звучит гордо. Все в человеке, все для человека» могли бы служить эпиграфом к собранию сочинений Фейербаха.
«Новая философия – гласит одно из основных положений его „философии будущего“ – превращает человека, включая и природукак базис человека, в единственный, универсальный и высший предметфилософии, превращая, следовательно, антропологию, в том числе и физиологию, в универсальную науку»(19, I, стр. 202).
Человек для Фейербаха не только основной предмет и конечная цель философии, но и прообраз и мерило всего сущего. Можно сказать, что он как бы моделирует бытие по человеческому образу и подобию, в отличие от механистических материалистов, для которых не организм («физиология»), притом человеческий, а механизм служил прообразом бытия. Что антропологическая «модель», определяющая колорит, специфическую атмосферу философии Фейербаха, ни в коей мере не уводит его от материализма, видно уже из приведенного определения. Он не мыслит человека в отрыве от природы, не допускает антропологии в отрыве от физиологии. И совершенно неправ французский исследователь философского наследия Фейербаха Арвон, когда он уверяет, будто «дорогая для Фейербаха антропология... расположена на равном расстоянии от идеализма и от материализма...» (33, стр. 38). Фейербаховский антропологизм есть не что иное, как антропологический материализм– особая разновидность метафизического материализма, противостоящая, как всякий материализм, философскому идеализму. Основоположная категория этой философии – человек – понимается Фейербахом строго материалистически, он постоянно подчеркивает телесную природу человека, его естественность.
Как мы уже видели, признание психофизической нераздельности обусловливает характерные черты материализма Фейербаха. У него нет никаких сомнений (и он не устает это повторять) в зависимости психического склада от физической организации, но это нисколько не умаляет того факта, что человек не чисто физическое, а психофизическое существо и тем самым, что для Фейербаха особенно важно, чувствующеесущество. И то обстоятельство, что картезианской формуле: cogito ergo sum («я мыслю, следовательно, существую») он противопоставляет свою формулу: sentio ergo sum («я чувствую, следовательно, существую»), еще теснее сближает у него психологию с физиологией, душу с телом, ибо чувствующее существо – это непременно телесное существо.
Фейербаховский антропологизм неразрывно связан с естествознанием. «Ведь антропология, – пишет Фейербах Гервегу,– это венец (Krone) естествознания» (22, стр. 209). В акцентировании этой связи сказывается и материализм фейербаховской антропологии и ограниченность его материализма, для которого лишь одна природа – основание человека и законы человеческого бытия исчерпываются законами природы.Попытки Фейербаха определить специфику человека как одной из частей природы оказались неудачными. Когда Фейербах высказывает Каппу свое мнение о том, что антропологический уровень бытия, в отличие от зоологического уровня, состоит в том, что человеческое бытие – не только пространственное, но вместе с тем и временное,– он, не покидая почвы материализма, повторяет вместе с тем гегелевское отступление от диалектики в «Философии природы», где до-духовное бытие, хотя и является «инобытием духа», лишено тем не менее развития во времени.
Таким образом, антропологизм твердо остается на почве материализма. Он удаляется не от материализма вообще и даже не от метафизического материализма, а от механицизма,не достигая при этом уровня диалектическогои историческогоматериализма. Фейербах называет его «имманентным материализмом». В антропологическом материализме Фейербаха прежде всего отсутствует диалектический переход от естественных явлений природы к социальным и вместе с тем пропадает качественная граница между закономерностями природы и общества. Антропологический материализм неизбежно перерастает в исторический идеализм, поскольку он не доходит до понимания материального базиса общественной жизни, выводя формы общественного сознания не из общественногобытия, а из психофизиологической «природы человека». Когда Фейербах утверждает: « Искусство, религия, философия или наукасоставляют проявление или раскрытие подлинной человеческой сущности»(19, I, стр. 202), он под последней не разумеет общественнуюсущность. Исторический идеализм и метафизический материализм не исключают, а обусловливают друг друга. Абстрактное, а не конкретно-историческое понятие «человека» заслоняет действительные материальные основы исторической эволюции. Вот наглядный тому пример. По Фейербаху, «человек есть „единое и все“ (εν και παν) государства. Государство есть реализованная, развитая, раскрытая полнота человеческого существа» (19, I, стр. 132). В этом определении государства – ни грана материализма и ни грана диалектики, как бы «материалистически» ни понималось при этом «человеческое существо».
Дела не меняет то обстоятельство, что понятие «человек» у Фейербаха диаметрально противоположно штирнеровскому «единственному», является не индивидуалистическим, а родовым. Яу Фейербаха не противостоит He-Я, Ты, апредполагает его. Понятие «человек» обозначает у него человеческий «род». При этом имеющее для антропологизма кардинальное значение понятие рода трактуется не всегда однозначно: то в собирательном смысле, как совокупность индивидов, то в абстрактном смысле, как присущее каждому индивиду общее «человеческое», как сущность,«природа» человека. «При этом,– пишет Фейербах,– под „родом“ я понимаю также природучеловека... Мысль о роде в этом смысле для отдельной личности (а каждый является отдельным) необходима, неизбежна...» (20, I, стр. 351). Фейербах заявляет, что его понятие «рода» не оставалось неизменным на всем протяжении его философской деятельности, а подвергалось совершенствованию. В письме к Дюбоку (6 апреля 1861 г.) он упрекает одного из своих оппонентов: «[Он] извлекает мое понятие рода, составляющее объект его критики, только из „Сущности христианства“, как будто бы это произведение является воплощением понятия „рода“ во всей моей литературной деятельности, как будто бы я в последующих работах не критиковал, преобразовывал и уточнял самым тщательным образом именно это понятие, каким оно было там сформулировано...» (47, II, стр. 127). Тем не менее при всех вариациях и модификациях этого понятия «род», а вместе с ним и «человек» у Фейербаха сохраняют свой абстрактно-антропологический характер, преграждая ему путь к диалектикоматериалистическому пониманию исторических фактов.
Вполне оправдано, что вся философия Фейербаха центростремительна по отношению к человеку, что проблема человека является ее альфой и омегой. Но постановка проблемыеще очень далека от нахождения правильного пути к ее разрешению.Трудности лишь начинаются, когда встает вопрос о самом понимании человека как предмета научного познания во всем его качественном отличии от всех других объектов познания – о понимании человека не как одного из многих естественных предметов, а как единственного известного нам общественного существа sui generis (особого рода). Необходимо довести понимание «человека» до понимания «общества», через посредство которого только и становится доступным научное исследование человеческого бытия и сознания в их исторической динамике. Антропология не в состоянии перешагнуть порог научного познания до тех пор, пока она не переросла в социологию– в учение о законах социального бытия как особой, общественной формы движения и развития с иными, только ей присущими, стимулами и регуляторами. В отдельных, исключительных случаях Фейербах высказывает соображения, выходящие за пределы антропологизма,– соображения, носящие характер «географического материализма». Так, например, в одном из его посмертно опубликованных афоризмов говорится: «Люди... определяются местом, где они существуют. Сущность Индии – это сущность индийца. Он есть то, что он есть, чем он стал, только как продукт индийского солнца, индийского воздуха, индийской воды, индийских растений и животных» (47, II, стр. 330). Это, конечно, значительный шаг вперед по сравнению с фохтовским «человек есть то, что он ест», даже по сравнению с абстрактным антропологизмом. Но отсюда все еще далеко до материалистического понимания истории. К тому же это высказывание не является типичным и определяющим для учения Фейербаха.
Еще ближе Фейербах к историческому материализму в характерном для него учении о человеке как субъекте потребностей, как потребителе par excellence [11]11
Преимущественно, прежде всего (франц.).
[Закрыть]. Отсюда открывается возможность перехода к пониманию общественного целого как системы удовлетворения потребностей, которое подводит к учению о способе производства. Однако Фейербах не реализовал это потенциальное движение мысли и не вышел из рамок антропологизма.
Устоем фейербаховского антропологизма не является ни общество как целостность, ни изолированное Я.Первичная ячейка, или первоэлемент, его человековедения – это Яи Ты,индивидуальная связь между ними. При всех оттенках в его понятии рода сохраняется эта его «туистическая» первооснова: совокупность связей Я– Ты.«Человеческая сущность» может быть выведена не из Ясамого по себе, а только из единства Яи Ты;она предопределена этим узлом коммуникации. При этом само понятие Ямыслится зависимым от общения и вместе с тем от различения с Ты.То и другое – функции коммуникации и не существуют вне ее. «Человеческая сущностьналицо только в общении, в единстве человека с человеком, вединстве, опирающемся на реальность различиямежду Я и Ты» (19, I, стр. 203). Так, неожиданно, диалектический закон единства противоположностей образует логический стержень фейербаховского туизма: « Истиннаядиалектика не есть монолог одинокого мыслителя с самим собой, это диалог между Яи Ты»(19, I, стр. 203). Свое антропологическое построение Фейербах заключает словами: «Величайшими последним принципом философии является поэтому единство человека с человеком.Все существенные отношения, принципы различных наук – это только различные виды и формы этого единства»(19, I, стр. 204). Элементарная «диалектическая» клеточка туизма возводится здесь в ранг универсального первоначала.
При всем внешнем созвучии фейербаховское «общение» коренным образом отличается от марксовских «форм общения» в «Немецкой идеологии». «Формы общения», в дальнейшем переросшие в «общественные отношения», выкристаллизовавшиеся в «производственные отношения» как ядро этих отношений, – это структура обществакак целостности, первичной и основополагающей по отношению к индивидам и их индивидуальным отношениям. Туистическое же «общение» является отношением между отдельными индивидами; совокупность таких отношений образуетобщество, которое рассматривается как вторичное, производное, как совокупность туистических ячеек. Такой подход не дает доступа к познанию общественных закономерностей, несводимых к абстрактным антропологическим первоначалам. Научное понимание истории требует перехода от метафизики «рода» и индивидуалистического «атомизма» или «туизма» к диалектике обществас его материально-производственным, а не психофизиологическим, базисом.
Туистическая антропология как теоретическаяконцепция неминуемо влечет за собой и практическиевыводы, радикально отличные от тех, которые следуют из материалистической социологии. Практическое устремление марксистского понимания истории – социальное преобразование, его острие – политика;практическое устремление туизма – нравственное усовершенствование, его острие – этика.Политическая беспомощность Фейербаха – неизбежное следствие его антропологической теории.
Этические проблемы направляют внимание Фейербаха в сферу воли. Правильное понимание воли и ее определение является, по его убеждению, ключом к правильному пониманию морали. В основе всего поведения человека, включая нравственное, лежат акты воли: «Интимнейшую сущность человека выражает не положение: „я мыслю, следовательно, я существую“, а положение: „я хочу, следовательно я существую“» (19, I, стр. 638). Характерный для всей фейербаховской антропологии эмоциональный колорит в его этике приобретает волюнтаристский оттенок. Чувствующий человек выступает здесь как желающий, стремящийся, проявляющий волю.
Материалистически осмысливая понятие воли в своей полемике с идеалистическим извращением этого понятия, Фейербах предупреждает, что «ни один вопрос не является таким головоломным и не поддается в такой мере решительному утверждению или отрицанию, как вопрос о свободе воли» (19, I, стр. 442), открывающий простор для идеалистического произвола. Фейербах не ставит своей задачей полностью отрицать свободу воли. Его задача – решительное опровержение идеалистической концепции свободы воли и выработка научно оправданного подхода к этой сложной проблеме. А такой подход достижим лишь при материалистической постановке вопроса, лишь тогда, когда воля понимается не как независимое от материального мира, априорное духовное начало, а как функция телесного организма. Воля «сама по себе», «чистая» воля без своего физического, материального носителя, «без тела, без жизни» – ничто (см. 19, I, стр. 448). Нет воли вне человека, существующего в определенном пространстве и времени. «Моя сущность не есть следствие моей воли, а, наоборот, моя воля есть следствие моей сущности, ибо я существую прежде, чем хочу, бытие может существовать без воли, но нет воли без бытия» (19, I, стр. 499). Носителем воли является не человек вообще, а живой, конкретный, индивидуальный человек. «Ибо что такое воля, как не желающий человек?» (19, I, стр. 452).
В борьбе против идеалистического истолкования воли как абстрактного понятия, оторванного от человека и гипостазированного, Фейербах наносит удары и по метафизическому абсолютизированию этого понятия. Неизменная, вневременная воля – это фантом. Не существует формальной воли «вообще», а имеется всегда содержательная воля, воля к чему-нибудь. «Беспристрастная, неопределенная воля, направленная без различия на все, даже на самые противоположные вещи,– воля in abstracto [абстрактная], воля в мысли – в действительности является бессмыслицей» (19, I, стр. 453). Тем самым обнаруживается эмпирическая ее обусловленность: воля – «дочь времени», подверженная фило– и онтогенетической изменчивости. «Каждый новый период жизни приносит с собой новый материал и новую волю» (19, I, стр. 435). При всей убедительности и плодотворности такой постановки вопроса Фейербахом в ней вместе с тем обнаруживается антропологическая ограниченность: воля рассматривается в качестве функции человека как физиологического существа – «наши мысли, наши решения и настроения зависят от состояния нашего организма» (19, I, стр. 502), она изменяется вместе с возрастом; но при этом остается в тени главное – воля в качестве функции человека как социального существа.
Ценным вкладом в разработку рассматриваемой проблемы является критика Фейербахом механистическогодетерминизма с его абсолютнойнеобходимостью, граничащей с фатализмом. Фейербах отмежевывается от «ограниченного и педантичного» детерминизма, обращая внимание на множественность взаимодействующих волевых стимулов и побуждений и сложное, многозначное опосредствование волевых актов. «Ни одно человеческое действие, – пишет он, – не случается, конечно, с безусловной, абсолютной необходимостью, ибо между началом и концом, между чистой мыслью и действительным намерением, даже между решением и самим действием может еще выступить во мне бесчисленное количество посредствующих звеньев...» (19, I, стр. 480—481). Но, отвергая «обычный», т. е. механистический, детерминизм, Фейербах не жертвует детерминизмом, как таковым, отдавая себе отчет в том, что «ограниченное и даже ложное понимание и изображение какой-нибудь вещи еще не уничтожает самой вещи» (19, I, стр. 483). Он придерживается более гибкого и глубже отражающего действительность детерминизма. Вместо того чтобы отбросить свободу воли во имя необходимости, Фейербах вводит понятие «свободной необходимости», отличной от необходимости несвободной. Свобода понимается им как необходимость «внутренняя, добровольная, желанная, тождественная с моим Я»(19, I, стр. 474). Это отнюдь не является уступкой идеализму, поскольку свобода не задевает детерминизма, а выражает внутреннюю детерминацию человека его природой, а не чуждыми ей внешними силами.
Но вопрос о свободе воли имеет и другую сторону, как вопрос о досягаемости стремлений, о том, насколько свободен человек в осуществлении своих побуждений. В этом смысле Фейербах говорит, что воля не свободна, но хочет быть свободной; что одного внутреннего волеизъявления, как бы решительно оно ни было, еще недостаточно для свободы, ибо воля без реальных возможностей ее воплощения – бессильна, химерична. Фейербах близок к спинозовскому пониманию свободы как познанной необходимости, когда солидаризируется со взглядом, что «над природой можно господствовать только путем повиновения ей» (19, I, стр. 503). Поскольку речь идет у него о внутренней необходимости, эта формула расшифровывается им как господство человека над собственной чувственной природой при помощи чувственных же средств. И в этом оказывается близость к спинозовскому господству над аффектами при посредстве аффектов, с той, однако, существенной разницей, что при этом Фейербах не противопоставляет страсть к познанию всем остальным страстям человеческим. Но в том и в другом варианте понимания свободы философская мысль остается в рамках созерцательного материализма, поскольку обладание познанием, как и самообладание, будучи непременнымусловием свободы, еще не является ее достаточнымусловием.
Свободная необходимость как осуществление внутренней потребности приводит к одному из основоположений этики Фейербаха – к признанию стремления к счастью связующим звеном между свободой и необходимостью и вместе с тем между склонностью и долгом. Воля, если речь идет о реальной, содержательной воле, а не пустой, беспредметной, формалистической абстракции, всегда есть воля к чему-нибудь. «Я хочу» приобретает смысл, когда я хочу чего-то.Каждое волеизъявление предполагает не только субъект, но и объект. Но каждое стремление является лишь одним из множества выражений стремления к счастью.
Утверждение единства воли и стремления к счастью, понимание того, что там, где нет этого стремления, нет и воли, – фундамент фейербаховской этики. «Основной мыслью моей работы о воле, – пишет Фейербах Болину (19 мая 1863 г.), – является единство воли и стремления к счастью. „Я хочу“значит: я не хочу терпеть несчастья, словом – я хочу быть счастливым...» (47, II, стр. 154). «Стремление к счастью – это стремление стремлений» (19, I, стр. 460). Оно конкретизируется в каждом единичном стремлении и получает название от предмета, в котором человек полагает свое счастье. «Воля» и «воля к счастью» для Фейербаха синонимы. И воля эта неискоренима. Она заложена в самой сущности, в самой природе человека, и не во власти человеческой воли не желать быть счастливым. Фейербаховское «я хочу, следовательно, я существую» раскрывается как «быть – значит хотеть быть счастливым».
Настойчиво, обстоятельно и убедительно Фейербах дает отпор возможным возражениям этому тезису. Анализируя вдохновивший Шопенгауэра буддистский идеал нирваны с его культом безвольной воли, а также психологию самоубийства и жертвенности, он доказывает мнимость отрицания воли к счастью в этих случаях. Напротив, они лишь убеждают в том, что даже принцип самосохранения подчиняется стремлению к счастью и может быть нарушен при неудовлетворимости данного стремления, каким бы иллюзорным ни было при этом само представление о счастье. Таким образом, даже отказ от самой жизни при несбыточности того, что в глазах данного человека делает его жизнь настоящейжизнью, – не опровергает, а подтверждает фейербаховское понимание воли.
Определяя счастье как «такоесостояние, при котором существо может беспрепятственно удовлетворять и действительно удовлетворяет своим индивидуальным, характерным потребностям и стремлениям, относящимся к его сущности и к его жизни» (19, I, стр. 579), Фейербах отмечает, что понимание счастья многозначно, индивидуально. Человек может хотеть того, что в действительности не приносит счастья как вследствие превратного представления о самом счастье, так и вследствие ложных представлений о средствах, ведущих к цели. «Ведь счастье „субъективно“, как слишком хорошо знают и говорят моралисты, и оно таково на самом деле. Мое счастье неотделимо от моей индивидуальности...» (19, I, стр. 610). Хотя у каждого индивида свое счастье, это отнюдь не исключает общего в индивидуальных стремлениях и потребностях. Фейербах, прошедший гегелевскую школу, понимает недопустимость отрыва единичного от общего и их одностороннего противопоставления. Иногда Фейербах выходит за рамки узкоиндивидуалистического понимания вопроса: «Какова страна, каков народ и человек, таково и его счастье» (19, I, стр. 591). Так, Фейербах различает аристократическое и плебейское счастье. Но все же в целом его понимание этой важнейшей этической категории остается в границах схематичного антропологизма: «...человек вместе со своим стремлением к счастью является существом природы, и... так же, как он сам создан и оформлен природой, ...точно так же создано и определено его стремление к счастью» (19, I. стр. 599).
Развивая прогрессивные традиции в истории этических учений, продолжая линию Эпикура, Локка и французских материалистов, Фейербах строит свою этику на эвдемонистической основе. «Все люди – эпикурейцы» (19, I, стр. 640), – утверждает Фейербах. По его глубокому убеждению, «эвдемонизм настолько врожден человеку, что мы совсем не можем мыслить и говорить, не пользуясь им, даже не зная и не желая этого» (19, I, стр. 590).








