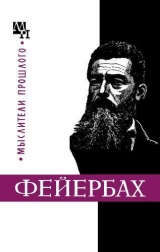
Текст книги "Людвиг Фейербах"
Автор книги: Бернард Быховский
Жанры:
Философия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 11 страниц)
Б. Э. Быховский
Людвиг Фейербах
ГЛАВНАЯ РЕДАКЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Быховский Бернард Эммануилович (1898 год рождения), доктор философских наук, профессор кафедры философии Московского института народного хозяйства им. Плеханова. С 1923 г. ведет большую педагогическую и научную работу в области диалектического материализма, истории западноевропейской и современной буржуазной философии. Известен как автор одного из первых учебников по диалектическому материализму (1930), ряда монографий и брошюр: «Враги и фальсификаторы материализма», М.-Л. 1933; «Философия Декарта», М.-Л., 1940; «Метод и система Гегеля», М., 1941; «Маразм современной буржуазной философии», М., 1947; «Основные течения современной идеалистической философии», М., 1957; «Философия неопрагматизма», М., 1959; «Личность и общество», Копенгаген, 1963; «Наука, общество и будущее», Буэнос-Айрес, 1965 и др., а также многих статей.
Быховский Б. Э. – лауреат Государственной премии 1-й степени (1944) за авторство и редактирование 1-го и 2-го томов «Истории философии».
Глава I. Брукбергский отшельник
Жизнь его, как обычно жизнь новатора, была трудной. «...Истина, – писал он, оглядываясь на весь пройденный историей путь научной мысли, – является в мир не в блеске декорации, не в сиянии тронов, не под звуки труб и литавр, а в тишине и неизвестности, среди слез и стона» (19, II, стр. 29) [1]1
Здесь и далее первая цифра в скобках означает порядковый номер в списке литературы (в конце книги), где указаны выходные данные цитируемого произведения. Римская цифра означает номер тома.
[Закрыть]. Рассматриваемая извне, его жизнь кажется довольно однообразной и небогатой внешними происшествиями и драматическими коллизиями. Но если заглянуть в его внутренний мир, она оказывается полной напряженности, беспокойства, исканий и достижений.
Людвиг Андреас Фейербах родился 28 мая 1804 г. в Ландсгуте, в Баварии, в семье выдающегося криминалиста Ансельма Фейербаха, память которого глубоко чтил Людвиг, увековечив имя отца посмертным изданием его писем и неопубликованных рукописей. Братья Людвига избрали различные поприща для своей деятельности: один был математиком, другой, как и отец, юристом, третий приобрел известность как талантливый археолог и искусствовед. «Удивительное явление, – писала впоследствии жена одного из братьев, Генриетта Фейербах,– эта семья, такая необыкновенно одаренная, и все-все несчастливы...» (49, стр. 118). Но кто, кроме самодовольных заскорузлых филистеров, мог быть счастлив в мрачной, давящей атмосфере тогдашней Германии?
Окончив местную гимназию в 1822 г., девятнадцатилетний Людвиг в следующем году поступает в Гейдельбергский университет, избрав по собственному побуждению своей специальностью богословие, за изучение которого он принялся с юношеским воодушевлением. Но уже очень скоро, на первом году обучения, он почувствовал инстинктивную неприязнь к лишенным мысли лекциям догматических ортодоксов, воплощением которых стал для него профессор Паулюс. В письмах к отцу Людвиг рассказывает о том, какое отталкивающее впечатление производит на него «ничтожность слепой, ограниченной, лишенной мысли ортодоксальности» (47, I, стр. 172). Он не в состоянии слушать такие лекции. В них так много тривиального и нелепого. Это «трупы обездушенных слов». Зато в лекциях другого гейдельбергского профессора, Карла Дауба, он находит пищу для своего ума. Людвиг жадно прослушал несколько курсов Дауба. В отличие от мертвого догматизма своих коллег Дауб вносит в свои теологические курсы живую мысль, навеянную философским учением Гегеля, наполняет лекции логическим содержанием, заставляет думать.
Контраст между мертвящим догматизмом Паулюса и философской спекулятивностью Дауба пробуждает в Людвиге стремление приобщиться к первоисточнику, из которого черпает Дауб свои идеи, – к самому Гегелю. «После того как я прослушал у восхитительного Дауба наилучшую часть, прослушал не только физически, ушами, но умом и душой, как полезно было бы мне продолжать свое образование в Берлине...» (19, I, стр. 240 – 241). Гейдельбергский теолог-гегельянец пробудил интерес к философии у своего слушателя, который говорил о себе: «Я сам всем сердцем стремлюсь быть основательно посвященным в философские вопросы» (там же). А где это можно сделать с большим успехом, как не в Берлинском университете, где с кафедры можно услышать самого великого Гегеля? Людвиг рвется из Гейдельберга в Берлин. Уже в 1824 г. он осуществляет свое намерение и не жалеет об этом.
В новом университете Людвиг попадает в атмосферу, отличную от обычной в ту пору в других университетах. «Студенческие попойки, дуэли, пикники здесь абсолютно немыслимы» (22, стр. 25), – пишет он отцу. Его захватывают царящая среди берлинских студентов увлеченность занятиями, прилежание, стремление к совершенствованию, к овладению знаниями, к чему-то высшему. По его словам, по сравнению с этим университетом, где чувствуешь себя как в рабочем доме, прежний кажется кабаком. И молодой Фейербах с головой погрузился в напряженную рабочую атмосферу.
Больше всего он восхищен, конечно, лекциями Гегеля. На каждую из них он приходил с волнующим ожиданием и после каждой уходил духовно обогащенным. Дауб подготовил Фейербаха к восприятию «мощного воздействия глубины и богатства» гегелевской мысли. В течение двух лет Людвиг прослушал – нет, жадно проглотил – все курсы, которые читал Гегель: логики (дважды), метафизики, философии религии. К его удивлению, эти лекции вовсе не были для него так трудно постижимы, так темны, как печатные произведения Гегеля. В своих лекциях Гегель был ясен и вразумителен, поскольку он считался со способностью усвоения своих слушателей. Гегель учил думать, развивал в слушателях способность теоретического мышления. Если уже в Гейдельберге Фейербаха отталкивал некритический догматизм, декларировавший, а не обосновывавший свои утверждения, то здесь, под влиянием Гегеля, это инстинктивное отвращение к догматизму укрепилось и переросло во властную внутреннюю потребность ничего не принимать слепо, на веру, а вырабатывать свои убеждения, делать их логически неуязвимыми. Отсюда – один шаг до разрыва с накрепко закованной в свои догмы теологией, до неодолимого стремления выйти на простор свободного философского мышления. После гегелевской логики Фейербах задыхался на лекциях по теологии. Они стали для него невыносимы. И если, уехав из Гейдельберга, он надеялся вместо косной, бездумной теологии приобщиться к мыслящей теологии, то теперь он убедился, что разумное познание находится за пределами всякой теологии. Вкус к независимому теоретическому мышлению – вот главный урок, который извлек Фейербах из лекций Гегеля. «Благодаря им, – пишет Фейербах, – я пришел к самосознанию и приобрел миропонимание. Для меня он стал вторым отцом, а Берлин – моей духовной родиной. Он был единственным человеком, который дал мне почувствовать и понять, что такое учитель... В течение двух лет я был его слушателем, его внимательным, безраздельным, вдохновенным слушателем... Но достаточно мне было его прослушать каких-нибудь полгода, как уже в уме и сердце моем он совершил перемену; я знал, чего я хотел и что я должен делать: не богословие,а философия.Не велеречивость и экзальтация, а изучение! Не вера, а мышление!» (47, I, стр. 387). Он твердо решил променять теологию на философию. «Вне философии нет спасения» (там же). Фейербах делится своими чувствами со старым гейдельбергским профессором, давшим его мысли первый толчок к философским интересам. И Дауб в своем ответе писал: «Я давно уже говорил: Фейербах не останется в теологии, его потянет в область философии» (см. 22, стр. 42).
Вопреки возражениям отца, указывавшего на потерянное для изучения теологии время и практическую ненадежность философской карьеры, Людвиг настоял на своем и бросил занятия теологией. Он убеждал отца, что сделал это не по беспечности и легкомыслию, а по настоятельной внутренней потребности. «Радуйся вместе со мной, что для меня наступила новая жизнь, новая эра, радуйся, что я бежал из рук грязных попов (schmutzigen Pfaffen), что теперь в числе моих друзей такие умы, как Аристотель, Спиноза, Кант и Гегель» (19, I, стр. 242) [2]2
Перевод данной цитаты дается в редакции автора.
[Закрыть].
Два мотива можно уловить в тогдашнем настроении Фейербаха. Один из них – упоение мышлением. «Нигде, – пишет он брату, – так не прогрессируешь, как в мышлении. Если мысль однажды освободилась от своих границ, то это – поток, неудержимо увлекающий нас вперед» (19, I, стр. 242). Второй мотив: тяготение к реальному знанию – с небес Фейербах возвращается на землю. «Я хочу прижать к своему сердцу природу, перед глубинами которой отступает в ужасе трусливый богослов» (там же). Философ в его понимании вовсе не витает в облаках, не бродит в тумане; это не лунатик, который не видит ничего вокруг себя, а мыслитель, в совершенстве владеющий эмпирическими знаниями. Изучение теологии, однако, не пропало для Фейербаха даром: он не только научился ненавидеть ее, но и основательно познакомился с мишенью своих будущих ударов.
По окончании Берлинского университета, 13 декабря 1828 г., в Эрлангенском университете состоялась публичная защита Фейербахом диссертации на тему «О едином, всеобщем и бесконечном разуме». Диссертация на 42 страницах, в соответствии с требованиями написанная по-латыни, была в целом выдержана в духе гегелевского абсолютного идеализма. Ее основная идея – первичность всеобщего и бесконечного разума по отношению к единичному, конечному мыслящему субъекту. Хотя всеобщее есть не абстрактное, абсолютное, лишенное различий, а конкретное, заключающее в себе различия тождество, эти различия вторичны по отношению к нему. «Поскольку я мыслю, поскольку я являюсь мыслящим субъектом, во мне действительно имеется налицо всеобщее как всеобщее, разум непосредственно как разум» (19, I, стр. 245). В этом выражается единство сущности и существования.
Перед защитой Фейербах послал свою диссертацию Гегелю, сопроводив ее письмом, представляющим большой интерес, поскольку оно проливает свет на строй его мыслей по окончании университета. Письмо это свидетельствует о том, что философию Гегеля Фейербах воспринял по-своему.Уже в начале занятий в Берлине при всей восторженности Фейербаха в его суждениях звучат такие нотки: «Я бесконечно рад гегелевским лекциям, из чего, однако, еще совсем не следует, что я решил сделаться гегельянцем... Можно его (Гегеля) слушать, притом с усердием, вниманием и сосредоточением... не становясь приверженцем его школы» (22, стр. 18). Это Людвиг писал отцу в 1824 г. А четыре года спустя в письме к самому Гегелю он, с одной стороны, полностью разделяет философский идеализм своего учителя – «...вещи сами по себе вовсе не существуют вне мышления; мышление всеобъемлюще, оно есть подлинное всеобщее пространство всех вещей и субъектов...» (47, I, стр. 217), но, с другой,– совсем не в духе Гегеля утверждает, что христианство отнюдь не может быть признано совершенной и абсолютной религией, что природа в этой религии не занимает подобающего ей места. Расхождение начинается, таким образом, с отношения к христианству и к религии вообще. «Во всяком случае, существующие религии заключают бесконечно много отвратительного и несовместимого с истиной» (19, I, стр. 244),– пишет он в своих заметках, относящихся к этому периоду. Но расхождение это остается всецело в границах объективно-идеалистического миропонимания.
После успешной защиты диссертации молодой, двадцатипятилетний доктор философии получил возможность в качестве приват-доцента преподавать курс «гегелевской философии» в Эрлангенском университете. В течение трех лет. с 1829 по 1832 г., читал он лекции по логике и метафизике, а также по истории новой философии. В своем изложении Фейербах придерживался гегелевских воззрений, оговаривая, однако, что, в отличие от своего учителя, он не рассматривает гегелевскую философию как абсолютную, последнюю ступень философской мысли. Он убежден в возможности дальнейшего прогресса философии.
Через год после начала преподавательской деятельности Фейербаха, в 1830 г., в Нюрнберге вышла анонимная книжка под названием: «Мысли о смерти и бессмертии, по рукописям одного мыслителя с приложением богословско-сатирических ксений [эпиграмм]». Это и было первым печатным выступлением Фейербаха, в значительной мере определившим весь его дальнейший жизненный путь.
Вся эта полная юношеского задора работа направлена на опровержение одного из основных устоев христианства – веры в личное бессмертие, в загробную жизнь. Фейербах отвергает эту религиозную догму, доказывая ее несостоятельность, необоснованность и практический вред. Основной вывод «Мыслей»: вера в бессмертие души обесценивает единственно реальную, земную жизнь, делает пустыми и никчемными все наши заботы и старания. Эта потусторонняя направленность христианских устремлений превращает христианство, как и всякую другую религию, усматривающую цель человека в потустороннем мире, в ложную религию. Антирелигиозное существо фейербаховских «Мыслей» не вызывает ни малейшего сомнения.
Критика церковной догмы ведется Фейербахом с позиций объективного идеализма. Порывая, по сути дела, с гегелевским пониманием взаимоотношения философии и религии, он противопоставляет христианскому мифу идеал бессмертия, основанный на понятии «объективного духа». Бессмертие человека– в духовной преемственности, в духовном наследии, оставленном им на земле. Он перестает жить как индивид, но продолжает жить во всеобщем движении объективного духа, к продвижению которого он был причастен в своей индивидуальной жизни. Философская концепция Фейербаха и в данном случае основывается на том понимании первичности всеобщего и вторичности единичного, которое он сформулировал в своей диссертации. Антирелигиозная, посюсторонняя тенденция его работы имела бесспорно прогрессивный характер, и рациональное зерно ее, противопоставление служения людям служению богу, хорошо выражено в одном из афоризмов Фейербаха: «Ты меня спрашиваешь, что я такое? Подожди, когда меня не будет» (19, I, стр. 268). Мера ценности человека – то, что он оставил после себя человечеству.
Фейербах не мог не понимать, что его книжка – это вызов церковникам, теологам, правоверным властям. Недаром он издал ее анонимно. Однако негодование блюстителей рутины превзошло все ожидания. Особенное озлобление вызвали приложенные к «Мыслям» ядовитые сатирические двустишия.
Вот уже вера в бога предписана нам законом.
Для теологии скоро полиция базисом станет
(20, III, стр. 115) —
гласит одно из них. Книга вскоре была конфискована. Тайна анонима была раскрыта, и одиозный автор ее был изгнан из университета и лишен права преподавания. Своим первым же смелым антирелигиозным выступлением Фейербах навсегда закрыл себе путь к университетской карьере. Когда четыре года спустя он обратился в Эрлангенский университет с предложением возобновить свою преподавательскую деятельность, проректор Энгельгарт решительно отклонил его предложение на основании сведений о причастности Фейербаха к роковому памфлету 1830 г. Возврата на университетскую кафедру не было: репутация свободомыслящего, атеиста, «антихриста» наглухо закрывала перед ним все двери. Тем не менее никогда впоследствии Фейербах не жалел о своем выступлении. Уже на склоне лет, живя в крайне тяжелых условиях, он писал В. Болину, одному из своих приверженцев: «Впрочем, я и теперь не жалею о том шаге, который предопределил мой жизненный путь, хотя этот шаг отнюдь не способствовал блестящей карьере» (22, стр. 340). Этот шаг, поставивший Фейербаха по ту сторону официальной идеологии, помог ему найти самого себя, стать тем, кем он стал.
Перед подвергнутым остракизму двадцативосьмилетним философом встал неизбежный вопрос: что же дальше? куда приложить свои силы и знания? где найти выход умственной энергии? наконец, откуда взять средства к существованию? Тем более что в 1833 г. он потерял своего отца. Фейербах старался приободрить себя, когда писал брату о том, что мир велик и если не в Германии, то где-нибудь в другой стране или на другом континенте найдется ему местечко, а может быть, и времена переменятся (см. 22, стр. 75). Но времена не спешили меняться. Средств для переезда за границу не было. Фейербах готов был наняться куда-нибудь домашним учителем, что позволило бы ему продолжать занятия философией. «Ведь господствующая, все остальное перевешивающая склонность во мне, – писал он сестре в 1833 г., – как показывает моя жизнь, это склонность к научным занятиям, к духовному развитию...» (22, стр. 77). Но ничего подходящего, что позволило бы удовлетворить эту естественную для него первую жизненную потребность, не находилось.
Оставался один путь – ненадежный, полный превратностей, но все же открывавший творческие перспективы путь самостоятельного писателя. И Фейербах пошел по этому тернистому пути. Свои раздумья об избранном им призвании он изложил в изданной в 1834 г. небольшой книжке «Абеляр и Элоиза, или Писатель и человек». И хотя эта книжка вносит мало нового в теоретическое развитие его идей по сравнению с «Мыслями о смерти и бессмертии», она в высшей степени характерна для понимания склада его мышления, для проникновения в строй его личности. Лейтмотив книги – нераздельное единство писателя и человека, воплощение личности в ее творении. «Нельзя уже здесь различать между человеком и писателем, – писал он впоследствии одному из своих друзей, К. Байеру, – книга – это человек, а человек – это книга. Что ты есть, то ты думаешь; что ты думаешь, то ты есть» (22, стр. 113). Один из тех, кому Фейербах послал экземпляр своей книги, выразил недоумение по поводу ее заглавия: ведь в книге ничего не говорится об Абеляре и Элоизе? Он ровно ничего не понял в этой книге, где безграничная привязанность, безраздельная любовь средневекового мыслителя служит символом неразлучности писателя и человека, разума и чувства. Все написанное Фейербахом в продолжение его жизни может служить иллюстрацией этого единства.
Лишившись преподавательской работы, Фейербах напряженно продолжает изучение истории новой философии, начатое в связи с лекциями в Эрлангснском университете. В результате этого изучения в 1833 г. выходит первый, а в 1837 и 1838 гг. второй и третий томы его «Истории новой философии» (рассмотрением содержания которой мы займемся в дальнейшем). К этому же периоду относятся перемены в личной жизни Фейербаха, связанные с его знакомством с Бертой Лёв, будущей женой, всю жизнь преданно разделявшей с ним его заботы, горести и радости. Уже в письмах к своей невесте Фейербах делится с ней своими творческими планами и замыслами, всегда находя заботливое участие и моральную поддержку. 12 ноября 1837 г. Берта Лёв стала Бертой Фейербах. Тридцатитрехлетний философ окончательно покинул Эрланген и поселился на родине жены. Глухая франконская деревня Брукберг стала его научной лабораторией, родиной созданного им нового философского учения. Здесь была вписана новая глава в историю новой философии. «Когда-то в Берлине, а теперь в деревне! Какой абсурд! Но нет, мой дорогой друг! Посмотри, я здесь, у источника природы, полностью смываю с себя тот песок, которым берлинская государственная философия засыпала мне не только мозг, для чего песок и был предназначен, но – к сожалению! – также и глаза. Логике я научился в германском университете, а оптике – искусству видеть– я научился в немецкой деревне» (19, I, стр. 257—258).
Двадцать четыре года Фейербах почти безвыездно прожил в Брукберге. Здесь, за письменным столом, на котором летом стояла ваза с цветами, а зимой – с зелеными ветвями и расцвеченными осенними красками листьями, были задуманы и написаны его основные произведения. Свой рабочий кабинет в Брукберге он называл «колыбелью своих духовных порождений». Его жена была одной из трех совладелиц небольшой фарфоровой фабрики, управляемой ее братом и расположенной в бывшем охотничьем замке. Во флигеле фабричного здания и поселился Фейербах. Доля скудного дохода, приносимого фабрикой, и скромные литературные гонорары служили средствами существования семьи. «Этот Людвиг,– писала о нем Генриетта Фейербах,– годами сидит в своем гнезде, удалившись от бога и всего света, так как жизнь там очень дешевая, а на фабрике у него бесплатная квартира. Никуда не выезжает, никаких развлечений...» (49, стр. 61).
Уединенный деревенский поселок был окружен лесами и полями и имел к тому же, по словам Фейербаха, то преимущество, что в нем не было ни церкви, ни священников. «...Мы, – писал он о себе, – необщественные животные, отшельники, литературные анахореты» (50, стр. 133). Фейербах сумел нужду превратить в добродетель. Вместе с лишениями он обрел полную духовную независимость: «Чем меньше имеешь извне, тем больше ищешь своего счастья в умственной деятельности» (22, стр. 256).
Среди историков философии установилась дурная традиция игнорировать личностьфилософа, зачастую довольствуясь указанием дат его рождения и смерти. А между тем индивидуальные особенности, условия жизни, черты характера и умственного склада накладывают свою неизгладимую печать на все его творчество. Если и в истории вообще, которую творят прежде всего массы, роль личности немаловажна, то историю философиитворят не массы, а отдельные личности (хотя всегда, вольно или невольно, либо в интересах масс, либо вопреки этим интересам), через призму индивидуальности которых преломляется дух времени. Какое бы определяющее значение ни имела эпоха в формировании тех или иных философских идей, мерой которых служит их социальная и историческая роль, дарование, эрудиция их автора, индивидуальный колорит, своеобразие подхода и манеры изложения придают каждому порождению философской мысли единственность и неповторимость. В этом отношении создания философской мысли граничат с художественными творениями. Человек и писатель, как утверждал сам Фейербах, здесь нераздельны. В особенности это ощутимо в творениях самого Фейербаха, эмоционально насыщенных, чуждых сухого педантизма. Он никогда не стремится к тому, чтобы за логическими умозаключениями не был виден строящий их человек. Напротив, за его мыслями всегда стоит перед читателем их автор, ищущий, преодолевающий сомнения, убеждающий и разуверивающий и себя и других. «Философия, – писал он, – должна будить, должна возбуждать мысль, она не должна брать в плен наш ум сказанным или написанным словом...» (19, I, стр. 67). Фейербах не отвечает спинозовскому идеалу философа, который стремится не плакать, не смеяться, а понимать. Он старается понять, открыть истину и вместе с тем радуется тому, что открыл ее, и нередко горюет по поводу того, что он открыл. Он обращается к читателю, который плачет и смеется, и заставляет его понимать, что достойно смеха, а что – слез.
В своей научной и литературной деятельности Фейербах отличался огромным трудолюбием. Изо дня в день, садясь за работу с утра, он кончал свой рабочий день в 8—9 часов вечера и тогда только закуривал трубку, выпивал кружку пива, прочитывал газеты. Он ничего не делал наспех, без самого тщательного изучения, обдумывания, взвешивания. Так, работая над статьей о Лютере, он просмотрел 23 фолианта его сочинений. Он сам пишет, что непрестанно «критикует, исправляет, повторяет, накопляет, комментирует, делает бесчисленные выписки» (50, стр. 130—131). Он не выносит рутины, верхоглядства, поверхностного компиляторства. Литературная работа для него не ремесленный труд. Она требует от него не только знаний и воли, но и творческого подъема, вдохновения. Ему нужны «ясное небо, свежая голова, хорошее расположение духа, олимпийское настроение» (47, II, стр. 204). Фейербах не умел писать быстро и много. Он не принадлежал к тем авторам, у которых, когда они берутся за перо, оно как бы само пишет. Ему необходимо втянуться в работу, которая его захватывает, поглощает. Он становится глухим и слепым для всего другого. «Каждая работа для меня – это хроническая болезнь» (50, стр. 251).
Рассказывая друзьям о своей манере работать, Фейербах замечает, что бывают двоякого рода авторы: одни делаютсвои работы сразу, как христианский бог свои творения: сказано – сделано; другие, к которым принадлежит Фейербах, в муках рождаютсвои духовные детища. «Мои мысли прорастают, растут и созревают как растения в поле или дети во чреве матери. Вот почему это очень длительный процесс» (22, стр. 208). Он никогда не переставал учиться, критически пересматривать, исправлять ошибки и заблуждения. В письме к невесте он оценивает свою первую печатную работу как «...юношескую, полную несовершенств и недостатков. Многое в ней темно, неверно, односторонне, сформулировано жестко, неуклюже» (22, стр. 99). Он никак не мог бы отнести к самому себе упрек, высказанный в одном из его афоризмов: «Скажу тебе: величайшей ошибкой твоей жизни было то, что ты никогда не ошибался, никогда не грешил» (19, I, стр. 249). Претензия на безошибочность неизбежно влечет за собой застой мысли, косное самодовольство. И его произведения написаны так, что требуют мыслительной работы читателя. Он преднамеренно побуждает своего читателя задуматься. Ленину очень понравилось меткое замечание Фейербаха о том, что «остроумная манера писать состоит, между прочим, в том, что она предполагает ум также и в читателе...» (см. 18, стр. 63). Такая манера всегда служила для Фейербаха правилом в его литературной работе.
Фейербах не только обладал глубоким, проницательным умом, но – сдержанный и молчаливый в обыденной жизни – в своих работах он отличался бурным темпераментом. Недаром и Карл Маркс и Генрих Гейне обратили внимание на выразительную фамилию «Фейербах», обозначающую в дословном переводе: «огненный поток». Стиль его противоречит философскому стандарту. К досаде философских педантов и ученых филистеров, Фейербах пишет образно, стремится взволновать читателя, широко пользуется юмором, язвительной иронией, то и дело прибегая к «легкому благоуханию эпиграмм» (19, I, стр. 260). Он в совершенстве владеет искусством убеждать и беспощаден в споре. Все его работы критичны, полемичны, ибо нет пути к утверждению истины, помимо сокрушения заблуждений. Критика ложного, как бы зла она ни была, есть акт справедливости. И в борьбе за истину можно и должно быть пристрастным. Без такого пристрастия, без критики и самокритики, без умения решительно порвать с неоправданным, несостоятельным, изжившим себя нет движения вперед. «Только тот имеет силу создать новое,у кого есть смелость быть абсолютно отрицательным» (19, I, стр. 108) – вот первая заповедь Фейербаха, норма его творческой деятельности!








