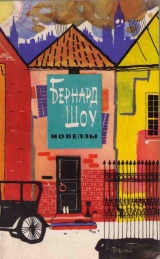
Текст книги "Новеллы"
Автор книги: Бернард Джордж Шоу
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 16 страниц)
Еще одно продолжение «Кукольного дома»

Извинения автора
Надеюсь, мне нет нужды извиняться в том, что я полагаю несомненным знакомство читателя этих строк с эпохальной пьесой Ибсена «Кукольный дом», которая в 1889 году потрясла весь Лондон и нанесла сокрушительный удар викторианской семейной морали.
К сожалению, я отнюдь не уверен, что столь же широкой известностью пользуется ее продолжение, написанное покойным сэром Уолтером Безантом, [10]10
Безаит Уолтер (1836–1901) – английский писатель, автор псевдосоциальных романов.
[Закрыть]который искренне торжествовал в уверенности, что отомстил за эту мораль заблудшему норвежскому еретику. И мне никак невозможно поместить здесь сей шедевр без нарушения авторского права. К тому же я вынужден с прискорбием сознаться, что не помню оттуда ни единого слова и могу лишь косвенно воспроизвести отдельные эпизоды, написав рассказ, в котором следует их продолжение.Стало быть, я и сам знаю не более читателя – это плохое оправдание, но лучшего у меня нет.
1931 г.
Дж. Б. Ш.
Нора не доехала до вокзала. Она чувствовала всей душой, что не имеет права спасаться бегством от смерти дочери и злого языка Кристины. Она велела кучеру скорей повернуть назад и отвезти ее в тот самый дом, который она только что покинула; в ней росло, ширилось, разгоралось, пылало негодование, которое она начала испытывать, когда поняла, с какой легкостью могут люди, вроде Крогстада, заразить пагубным духом страха и безысходности одинокую, беззащитную девушку и довести ее до самоубийства. Нора знала, что эти люди не виноваты – что ее возмущение может лишь повредить им и ей самой. Собственно говоря, она уже растратила все свое возмущение и ту безрассудную смелость, которую в нем черпала: ей незачем было теперь назидательно напоминать себе, что это горькое и ядовитое чувство: она вкусила его и отринула с отвращением. Но у нее была горячая кровь; и время от времени потрясение при виде вопиющей несправедливости распаляло эту кровь и возбуждало гнев вопреки разуму, умудренпому опытом. Когда она выходила из кареты, какой-то мужчина нехотя отступил от дверей ее дома. В банке, где он служил, его не узнали бы в этом грубом, мешковатом плаще и широкополой шляпе; но она не усомнилась: он всегда приходил к ней переодетый.
– Крогстад! – сказала она, рассердясь. И продолжала, трогательно стараясь смягчить свою суровость: – Что вы здесь делаете?
– Мне сейчас сказали, что вы уехали, – отвечал он с волнением. – Сказали, что вы уже гте вернетесь. – Он помолчал и добавил недоверчиво: – Должно быть, это вы так распорядились, чтобы отделаться от меня.
– А хоть бы и так, – сказала она. – Однако вы, я вижу, слишком много о себе полагаете, если это могло прийти вам в голову. Я действительно решила уехать; но по дороге на вокзал передумала и вернулась. На то есть причина. Ступайте наверх: я только скажу фру Крог, что оставляю квартиру за собой.
Едва дверь отворили, Крогстад повиновался. Ему было неловко перед кучером, горничной и фру Крог, которая вышла им навстречу, сгорая от удивления и любопытства. Горничная поднялась вместе с ним наверх и стала зажигать газовый рожок; он стоял к ней спиной, притворяясь, будто рассматривает книги на полке, все время, пока она задергивала занавеси и растапливала погасший камин. Когда она, наконец, ушла, он спял плащ и вновь превратился в почтенного банковского служащего, если судить по платью. Но вид у него был робкий и смиренный: он слонялся по комнате, поглаживая гладко выбритую верхнюю губу, словно расправлял несуществующие усы.
Когда вошла Нора, он заулыбался и угодливо помог ей снять длинпое дорожное пальто. Его подобострастие явно было ей неприятно, и он, почувствовав это, слегка втянул голову в плечи.
– Крогстад, – сказала она, – если не хотите стыда и унижения, вам лучше уйти. Сегодня мне невыносимо видеть вас и вам подобных. – Бедняга Крогстад уныло взялся за шляпу. – Впрочем, если вы готовы ради меня на жертву, можете остаться. Мне необходимо с кем-нибудь поговорить.
Крогстад просиял.
– Значит, вы в самом деле мне рады! – сказал он. – Я всегда боюсь показаться вам навязчивым. Вы же знаете, со мной можно говорить откровенно; и я желаю лишь, чтобы вы позволили мне такую же откровенность.
– Что ж, Крогстад, я не буду к вам слишком сурова. Но при одном условии – не смейте говорить о вашей жене; вы сами прекрасно понимаете, что не в ваших интересах ее порочить. Я мирилась с этим, пока мне не надоело защищать ее и притом, пожалуй, кривить душой, вы ведь Гшаете, что я ее не люблю. Сядемте.
Она опустилась в кресло-качалку у камина с живостью, какую немногим женщинам удается сохранить почти в пятьдесят лет; он сел на стул, подался вперед всем телом и не сводил с нее глаз, упершись локтями в колени, а сплетенные пальцы зажав меж икрами ног, обтянутых узкими штанами.
– Я ее никогда не порочил и только при вас иногда облегчал душу, – сказал он. – Я знаю, сколь многим я ей обязан. Она сделала меня добропорядочным человеком и помогла сохранить добропорядочность. Ах да, – поспешно добавил он, видя, что в глазах у нее блеснула насмешка над его удрученным видом, – я знаю, вы не высоко ставите добропорядочность; но это так много значит для человека вроде меня, который еще в юности сбился с пути. Для такого совершенства, как вы, добропорядочность – это капитуляция; но не будь я добропорядочным, я стал бы не лучше, а хуже, подобно Хельмеру. Вот чем я ей обязан. И, кроме того, вспомните о моих мальчиках. Не далее как сегодня утром я вам говорил, – тут Крогстад снова поймал ее взгляд и съежился, – что у меня четверо сыновей. Старший, профессор университета, пользуется общим уважением; второй – преуспевающий адвокат; третий, офицер инженерных войск, не запятнал своей чести; четвертый служит в банке и намерен пойти по моим сто…
Он осекся и замолк, потому что она покачала головой с жалостливой укоризной.
– Ваш старший сын, Нкльс, – сказала она, нарушив наконец молчание, – профессор философии; в душе он придерживается философских взглядов, которые раньше именовались крайним левым гегельянством, – не знаю, как это называют теперь. Крайние левые гегельянцы смотрят на истовых христиан точно так же, как истовые христиане смотрят на африканских идолопоклонников. Если бы ваш сын осмелился открыто проповедовать свои взгляды или оказать моральную поддержку тем, кто осмеливается их проповедовать, он лишился бы своей кафедры, заработков, известности и того «общего уважения», которым вы так гордитесь. Ои пользуется общим уважением, потому что лицемерит и учит лицемерию своих студентов. Второй ваш сын, адвокат, как я слышала, преуспевает, потому что и не думает защищать бедняков перед неправедным судом, а вместо этого обстряпывает грязные делишки к выгоде богачей, лебезит перед ними, покрывает их, и они при его пособничестве грабят общество. Ваш офицер инженерных войск не запятнал чести, потому что прикидывается миротворцем и левой рукой благоразумно размахивает Евангелием, а правой наводит пулемет. Ну а Нильс-младший, если пойдет по стопам своего отца, то вслед за ним станет тайно ходить к женщине, от которой он в обществе отшатнется, пылая праведным негодованием.
– Я всегда стараюсь говорить о вас как можно меньше, – неуверенно возразил Крогстад. – Только на днях я встал на вашу защиту перед правлением банка, когда все порицали молодого Роберта и зашла речь о вас.
– Да, милейший Нильс, вы сказали, что я была самой примерной женой и матерью, пока не забыла о добропорядочности; и вы никогда не могли понять, как это я докатилась до такой жизни. А когда Хейердаль напрямик спросил вас, позволите ли вы Нильсу побывать у меня на вечере в один из четвергов, вы покачали головой с назидательным видом и сказали: «Ну разумеется, нет».
Крогстад кусал бледные, дрожащие губы.
– А что мне было делать? Какая вам была бы польза, если б я в ущерб себе и своему сыну сказал не то, чего от меня ожидали? К тому же, знай они, что я здесь бываю, им бы этого все равно не понять; они подумали бы только…
– И были бы вполне правы, раз вы стыдитесь признаться, что бываете у меня. Но если вы желаете избегать всего, что посредственные люди могут истолковать в дурную сторону, вам придется приспособить свою жизнь к их посредственности. Кстати, вы уверены, что они не знают?
Крогстад выпрямился.
– Как прикажете вас понимать? – воскликнул он. – Знают! Да если б они знали, это погубило бы меня. Надеюсь, вы пи слова… – Он опять умолк и взглянул на нее с внезапным подозрением. – А вы откуда узнали, что я сказал Хейердалю?
– Ах, у вденя ведь всюду есть друзья, – пускай неверные, но все же друзья. А у вас всюду есть враги и завистники.
Крогстад обиженно насупился.
– И вы их поощряете, разрешаете им болтать обо мне, – сказал он.
– Неужто вы до сих пор не поняли, что без этой болтовни вам не станет легче? А мне приятно слышать о вас, дружеское ухо – лучшее противоядие от злого языка. Ну вот что, Нильс, скажите правду о правлении банка. Вы же знаете, что почтенный стряпчий Хейердаль нажился за последние шесть лет во время биржевого бума, потому что тайно делился прибылью с маклерами, и пожелай кто-нибудь разоблачить этот сговор, ему не миновать суда и позора. Вы когда-нибудь дали ему это понять хоть намеком?
– О господи, нет, разумеется, пет.
– Или возьмем Арнольдсона, у него младший сын – горький пьяница. Вы ведь не наказываете родителей за грехи детей, помалкиваете об этом?
– Да, во всяком случае, при бедняге Арнольдсоне. Ах, Нора, если бы вы знали Арнольдсона, вы полюбили бы его. Поверьте, у него доброе сердце.
Нора не стала входить в обсуждение достоинств Арнольдсона.
– А Сведруп? – продолжала опа. – Его отец был цирюльник; а сам он так отвратительно измывается над слугами и помыкает бедными родственниками. Юхансена бьет жена. И жене Фалька тоже следовало бы бить своего муженька, это вполне соответствовало бы его собственным понятиям о справедливости, потому что он завел вторую семью, но ей об этом никто не скажет. Вы когда-нибудь пробовали урезонить Сведрупа или посочувствовать Юхансену? Решитесь ли вы прекратить знакомство с Фальком в осуждение его безнравственности?
– Конечно, нет, – сказал Крогстад. – Их личная жизнь меня не касается. Если бы люди были так нетерпимы друг к другу, их существование стало бы ужасным. Приходится, правда, поменьше знаться с Юхансеном, ведь невозможно приглашать его без жены; но от нее никогда не знаешь, чего ждать.
– А что, Кристина читает им когда-нибудь нравоучения вроде тех, какие читала мне?
– Как бы не так! – сказал Крогстад и снова насупился. – Они живо указали бы ей на дверь.
Нора мгновение смотрела на него, и в ее старых, умных глазах появился почти озорной блеск. Он снова подался вперед и хмуро уставился на ее ноги, которые, по мнению Кристины, были толсты до неприличия.
– Нильс, – сказала она наконец. – Вы круглый дурак.
– Но почему же? – воскликнул Нильс сердито – заячья его душа вдруг взыграла.
– Вы только глазами хлопаете, а ведь о том, что вы поддерживаете со мной знакомство и бываете здесь, члены правления знают так же хорошо, как о незаконных махинациях Хейердаля, спившемся сыне Арнольдсона, супружеских изменах Сведрупа и обо всем прочем. При вас они молчат обо мне; точно так же вы при них всегда молчите об их семейных неприятностях. Вы думаете, будто знаете о них всю подноготную, а они о вас ничего не знают. Все вы так думаете и отлично ладите между собой. Но известно ли вам, Нильс, что всякий раз, как ваш прострел в пояснице дает себя чувствовать, я непременно об этом узнаю, потому что многие справляются у меня о вашем здоровье.
– И вы!.. – воскликнул Крогстад, пораженный как громом. – Неужели вы даете понять, что вам это известно?
– Обычно я притворяюсь, будто не знаю. Мне приходится говорить, что вы но бывали у меня вот уже две недели, или месяц, или еще дольше.
Крогстад встал и медленно застегнулся.
– Нора, – сказал он, – вы меня предали, и я этого не прощу. Если б вы только знали, какое облегчение доставляли мне наши встречи, как помогали они мне в остальное время не уронить свое достоинство, вы, я уверен, были бы снисходительней. Прощайте.
– Именно этого я и ожидала, Нильс, – сказала она, не двигаясь. – Что ж, не согрешишь – не покаешься, не покаешься – не спасешься, а тайное покаяние превосходно очищает совесть, и можно все начинать сначала. Я уже давно замечаю, что вы всегда приходите ко мне после того, как совершите какой-нибудь особенно низкий поступок. Но вы позабыли, что ваш духовник не обязан соблюдать тайну исповеди. Я догадываюсь, что привело вас ко мне на сей раз. Ах нет, не то, что вы сказали Хейердалю: все это вздор, Крогстад, и вы это прекрасно знаете. Я говорю о своей дочери Эмми. Ну, полно же, сядьте и облегчите душу. Как это все случилось?
Крогстад не сел. Он упрямо продолжал стоять, но все-таки виновато развел руками и пожал плечами.
– Я только объяснил ей, что о ее браке с Нильсом не может быть и речи. Уж если хотите непременно знать правду, Роберт сделал подлог. – Он помолчал, потом вдруг покраснел и бросил ей прямо в лицо: – Подобно вам.
– Подобно мне! В таком случае, я его не виню. Кого он этим хотел спасти?
– Никого. Надо полагать, он просто хотел нажить на этом деньги.
– Ах, Нильс, Нильс, Нильс! – сказала опа, все еще испытывая к нему лишь снисходительную жалость. – И вы говорите, что он сделал это «подобно мне».
– Простите, – буркнул Крогстад. – Мне следовало сказать «подобно мне самому». Но я рассердился: вам не следовало рассказывать, что я здесь бываю. Хотя спору нет, вы имели на это право.
– И вы поступили с Эмми так же, как двадцать лет назад поступили со мной? Вы взяли подложный вексель и сказали, что будете бороться за свою репутацию не на жизнь, а на смерть, и ей придется выбирать между спасением вашей репутации и позором и разорением человека, которого она любит? – Крогстад попытался возражать, но взгляд его выдал правду, и она гневно сверкнула глазами. – В таком случае, – сказала она с горячностью, – все старания Кристины исправить вас пропали зря. Негодяй всегда останется негодяем!
Он смутился и покраснел, как сконфуженный юнец.
– Я не мог допустить, чтобы Нильс навлек на себя позор, – сказал он страдальческим голосом. – Клянусь, дети для меня дороже жизни. Вы не знаете, каково мое положение. Кстати, я вовсе ей не угрожал, даже намека такого себе не позволил. Я только молил ее. Она все сделала сама, согласилась добровольно – совершенно добровольно.
– Надеюсь, вы не преминули погладить ее по головке за то, что она такая послушная, такая умница, и заверить, что она получит воздаяние на небесах?
– Именно так я и сказал, слово в слово! – воскликнул он. – Вы виделись с ней: это она убедила вас вернуться.
– Как! – сказала Нора с удивлением. – Неужели вы не знаете?
– О чем?
– О том, что она утопилась.
Крогстад побледнел как смерть; потом на щеках у него проступили серые пятна. Он кое-как добрался до стула, тяжело сел, уронив руки и голову на стол. Нора смотрела на него с состраданием и ждала. Наконец он приподнял голову, но спросил только, нет ли у нее коньяка. Коньяка не было, но она спустилась вниз и взяла рюмку у фру Крог. Когда она вернулась, он сидел выпрямившись, опустив глаза в стол. На коньяк он даже не взглянул, и она не стала принуждать его выпить.
– Я никогда не думал… даже мысли не допускал, что может случиться такое, – сказал он наконец, потрясенный. Она хотела ответить, но он прервал ее умоляющим тоном: – Ради бога, ни слова: что толку теперь в этом? – И Нора готова была промолчать, но он сразу же стал допытываться, что она собиралась сказать, потом пробормотал: – Разве мог я поступить иначе?
– Да, Нильс, если бы вы действительно считали Эмми испорченной только потому, что она моя дочь, – сказала Нора, стараясь смягчить свой тон, – тогда бы вам ничего другого не оставалось. Все это могла бы сказать Кристина, причем совершенно искренне. А вы прекрасно все понимали и сознательно лицемерили. Вы цеплялись за свою репутацию; но душа у вас не настолько мелкая, чтобы вы могли зтим удовлетвориться. Вы жаждали нашей свободы; но душа у вас не настолько широкая, чтобы вы могли уйти к нам. Теперь вы видите, чем все кончилось. Эмми была бы спасена, если бы усвоила два урока: один совсем легкий, который могли бы дать ей вы, а другой потруднее, усвоить который, пожалуй, могла бы помочь ей я. Вы же знаете, Эмми была так воспитана, что непременно стремилась к добропорядочности, как ее понимает Кристина; и она не сомневалась, что эта добропорядочность зависит от добропорядочности ее отца, братьев, мужа и матери. Когда ее отец спился, а брат сделал подлог, у нее никого не осталось, кроме ее самой и матери. Но она была слишком юной и слишком слабой, чтобы обрести уверенность в себе; а мать ее, как все вы ей внушали, оказалась испорченной и порочной женщиной. Если бы в эту пору горького унижения и отчаянья я попыталась дать ей тяжкий урок, внушить, что она должна почувствовать себя самостоятельным человеком, она не поняла бы этого. Но если бы сама Добропорядочность обратилась к ней в лице мэра города и крупного банкира, который соблаговолил бы назваться другом ее матери, сказать, что у ее матери много друзей и эта женщина ничуть не испорченней и порочней собственной его супруги, разве она не обрела бы в этом утешение и опору, вместо того чтобы принять ту судьбу, которую вы с такой жестокостью предрекли мне двадцать лет назад – броситься в воду, под лед, может быть. В ледяную, черную глубину. А весной всплыть обезображенной, неузнаваемой, с вылезшими волосами. Видите, я ничего не забыла.
– Ах, если б я мог знать! – воскликнул несчастный Крогстад, прикрываясь руками от ее слов, как от ударов. – Я сказал бы ей все. Но откуда мне было знать, что такое, казалось бы, пустячное дело было для нее настоящим переломом – вопросом жизни и смерти – решающим испытанием? Она восприняла это спокойно.
– Возможно, ее утешила перспектива получить воздаяние на небесах, которое вы сулили, – вы, устроивший себе столь уютное гнездышко на земле, – сказала Нора с мимолетной иронией. – Но боюсь, – добавила она, – что бедной, доверчивой девочке противоречие между христианским милосердием ваших речей и жестокостью ваших поступков показалось слишком уж вопиющим. Вы разбили ее веру в будущую жизнь. И доказательство тому ее самоубийство, доказательство настолько неопровержимое, что даже Кристина не решится против него спорить. Поймите, Нильс, вы привыкли считать за людей лишь тех, кто принадлежит к вашему узкому добропорядочному кругу, все остальные для вас – низшие существа, а чужие дела вы считаете пустячными, и это делает вас слепцом, не дает видеть те великие возможности, которые открывает мир свободы, где живут и эти низшие существа. Хейердаля вы никогда не отшвырнули бы прочь, как вексель без обеспечения.
– Продолжайте, – упрямо сказал Крогстад. – Говорите что угодно. Я жалкий червь, я неудачник. Неудачи преследовали меня всю жизнь. Лучше бы мне вовсе не встретиться с моей распроклятой женой.
– Ах, полно вам! – сказала Нора резко. – Вы вашей жене в подметки не годитесь. Она следовала своим убеждениям. Если бы вы следовали своим, вместо того чтобы поддакивать ей, вам не пришлось бы теперь сетовать на свои неудачи. Кристина – человек недалекий, у нее низменные идеалы; но она хотя бы сознает это. У вас идеалы более возвышенные, но вы этого никогда не сознавали – никогда даже не имели о них представления, – только ощущали смутный протест против золотого тельца, которым вы их подменили. Поэтому она достигла успеха, а вы потерпели неудачу; но могу сказать вам в утешение, что вы с вашими неудачами скорей спасете душу, чем она со своим успехом.
– Мои неудачи и породили ее успех, – сказал Крогстад с горечью. – Чем была бы она без меня? Гувернанткой, которой грош цена.
– В этом главное несовершенство брака, Крогстад: он всегда либо превращает в жертву одного из супругов, либо губит обоих. Торвальд наслаждался успехом до тех порг пока я терпела неудачу. Но не всегда жертвой бывает женщина. Двадцать лет назад, когда я ушла из кукольного дома, я видела лишь одну сторону медали.
– Неужели вы хотите сказать, что были неправы? – быстро спросил Крогстад с комичным разочарованием.
– Нет, – спокойно ответила Нора. – Но я не понимала, что мужчине тоже нужно уйти из кукольного дома. В тот вечер, после праздничного бала и тарантеллы, глаза у меня открылись всего на каких-нибудь пять минут; и, конечно, я не успела увидеть ничего, кроме удручающего обстоятельства, что я для Торвальда лишь игрушка. А теперь глаза у меня открыты вот уже двадцать лет, и за это время я заглянула во множество кукольных домов; и мне пришлось убедиться, что не все куклы принадлежат к женскому полу. Взять хотя бы вашу семью! Право же, Крогстад, будь у вас хоть капля мужества, вы ушли бы на волю, где вы уже не кукла, а «властелин души своей», [11]11
Цитата из стихотворения «Непобежденный» английского поэта Уильяма Хенли (1849–1903).
[Закрыть]как сказал один английский поэт. Ваша жена поступает с вами точно так же, как Торвальд поступал со мной: принуждает делать то, что, по ее мнению, приличествует директору байка и мэру, а Торвальд принуждал меня делать то, что, по его мнению, приличествовало благородной супруге уважаемого банкира. Я чувствовала, что могу обрести для себя нечто более возвышенное; я ушла и обрела то, чего хотела.
– А я вот, – сказал Крогстад, – не чувствую, что могу обрести нечто более возвышенное, хотя знаю, что оно существует. Предоставленный самому себе, я скорей опустился бы на дно: пожалуй, начал бы пить, как Хельмер, или же докатился бы до грязной богемы и в результате стал бы еще ленивей, чем сейчас, а во всем остальном ничуть не лучше. Нет, отрицать бесполезно, Кристина подняла меня на высоту положения, какой я никогда не достиг бы без нее.
– Да, милый Нильс; но вы убили Эмми, а если б вы погрязли в богемной жизни, этого, вероятно, не случилось бы.
– Ваша правда, – сказал Крогстад, вздрогнув, но с твердостью выдержал упрек. – Когда Кристина в очередной раз вздумает читать мне мораль, я напомню ей об этом, и она заткнется.
– До чего же вы эгоистичны, Нильс! – сказала Нора кротко. – Теперь, когда потрясение от смерти бедной девочки прошло, это трогает вас не больше, чем неприятности какого-нибудь торговца, которому вы отказали в ссуде.
– Вы ее мать, – возразил он, – и даже вас это как будто не слишком трогает.
– Меня ее жизнь печалила едва ли не сильнее смерти, Нильс. А боль разлуки с нею я пережила много лет назад, когда была куклой, а она – игрушкой, забавлявшей меня. Мне пришлось бы стать Кристиной с ее лицемерным чувством долга, чтобы притворяться, будто я скорблю о том, без чего обходилась двадцать лет. А ведь все это время в сердце моем не было пустоты. Мне думается, вы не верите в теорию Кристины, согласно которой привязанности всякой женщины от природы распределены в строгой зависимости от степени родства, и с тех пор, как я ушла от Торвальда, в сердце моем царила тоскливая пустота, а в жизни не было любви к детям и волнующей заботы о будущности тех, которые слишком молоды, чтобы возбуждать в нас зависть или задевать наше честолюбие. С тех пор как я стала свободна, мне предостаточно довелось испытать любовь детей всякого возраста. Ведь у меня ваша душа находит отдых от Кристины, правда? Кстати, вы не забыли, что уже поздно?
Крогстад поспешно взглянул на часы, потом тотчас взялся за шляпу и плащ. Одевшись, он помедлил и сказал нерешительно:
– Надеюсь, в городе не станут винить меня?
– А если и станут, Нильс? Четыре пятых его жителей – это труженики, которым нет дела до вас и наших обстоятельств, к тому же мнение их вы презираете. А в вашем кругу, по тайному сговору, все готовы выставлять вас как образец добродетели: разумеется, при условии взаимности. Я же не участвую в этом сговоре; поэтому меня выставляют как образец порочности. Любимый проповедник Кристины написал трактат, где утверждает, что мои друзья посещают меня, дабы вести со мной греховные разговоры, и я виновата в том, что Торвальд спился; вероятно, он пришел к такому выводу потому, что бедняга Торвальд начал прикладываться к бутылке, когда я отняла у него куклу. Его преподобие сокрушается о несправедливости людских дел, поскольку по закону об авторском праве он не может дважды получать гонорары за свои трактаты, здесь и в Америке. Он и Кристина сумеют вас защитить. Ведь это она сообщила мне о судьбе Эмми; да еще изрекла обычным своим мелодраматическим тоном: «Зпай, порочная женщина: ныне твоя рука довершила погибель», – и прочее, в том же духе. Вам нечего бояться, Нильс: весь мир уже оповещен о том, что повинна одна я, и завтра вы будете усерднее всех качать головой, сокрушаясь о моей испорченности, как и подобает мэру города.
– Нет, Нора, этого не будет, – сказал он с возмущением. – Как можете вы столь дурно обо мне думать?
– Что ж, если я ошибаюсь, у вас будет случай мне это доказать… завтра. Но если я не ошибаюсь…
– Вот увидите, – перебил он ее с горячностью.
– Если я не ошибаюсь, – продолжала она спокойно – приходите ко мне опять каяться, когда вас замучит совесть; и я отпущу вам грехи. Но, быть может, теперь вы побоитесь прийти, поскольку убедились, что об этом знают все, кроме Кристины?
– Доброй ночи, – только и сказал он в ответ.
– Доброй ночи, – отозвалась она. – Бедный старина Крогстад!
Он выбежал за дверь, словно обиженный мальчишка; а она села за письменный стол и стала заканчивать работу. Но через мгновение она вновь обернулась на его шаги, увидела в дверях обиженное лицо и услышала:
– Вам легко говорить, что, будь у меня хоть капля мужества, я поступил бы, как вы, бросил бы жену и семью. Женщина может позволять себе подобные вещи и выглядеть при этом героиней, если она хороша собой. Но те же люди, которые превозносят ваш героизм, вместе с людьми моего круга станут поносить меня, как последнего негодяя, если я такое сделаю; и если Кристина уйдет от меня, они опять-таки в один голос скажут, что виноват я, что я, по-видимому, дурно с ней обращался. Нет, мы, а по вы порабощены браком.
– Охотно верю вам, Нильс, – сказала она, взглянув на него со снисходительным любопытством. – Ведь господин хуже всякого раба.
– Тьфу! – пробормотал Крогстад. – Спорить с женщиной – пустое дело.
И он исчез.
Слышно было, как хлопнула входная дверь.
1890








