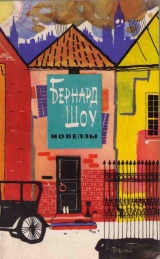
Текст книги "Новеллы"
Автор книги: Бернард Джордж Шоу
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 16 страниц)
– Твоя смелость и здравый смысл восхищают меня, – сказал фокусник, – но сам я несколько иного склада.
– Пусть тебя не восхищают эти качества, – сказал араб. – Откровенно говоря, я немного стыжусь их. Ими может похвастаться любой шейх, живущий в пустыне. Что я по-настоящему ценю в себе, так это превосходство ума, которое сделало меня сосудом божественного вдохновения. Ты когда-нибудь писал книги?
– Нет, – печально ответил фокусник. – А жаль! Я бы мог заработать достаточно денег, распространяя свое учение по свету в виде писаний, и избавился бы от утомительного лежания на кресте. Но я не писатель. Правда, я сочинил коротенькую молитву, [53]53
Имеется в виду евангельская молитва «Отче наш», текст которой приписывается самому Христу.
[Закрыть]которая, как мне кажется, годится на все случаи жизни. Однако господь повелевает мне говорить, а не писать.
– Писать очень полезно, – сказал араб, – по велению свыше я написал немало сур, [54]54
Так называются главы, из которых составлен Коран.
[Закрыть]поведав в них людям слово Аллаха, да будет благословенно имя его! Но есть на свете люди, с которыми Аллаху не пристало возиться. Так вот, когда мне приходится иметь дело с такой публикой, я уже не жду повелений и полагаюсь на собственную изобретательность и остроумие. Для нее я сочиняю жуткие истории о Страшном суде и об аде, где будут вечно мучиться грешники. А для контраста показываю восхитительные картинки рая, созданного специально для тех, кто исполняет волю Аллаха. Такого рая, в который им непременно захотелось бы попасть: с роскошными садами, благоуханными курениями и красивыми женщинами.
– А откуда тебе ведома воля Аллаха? – спросил фокусник.
– Поскольку они все равно не способны ее понять, им приходится довольствоваться моей волей, – ответил араб. – Мою волю они попять могут, а собственно, что она такое, как не воля Аллаха из вторых рук, конечно, несколько подмаранная, ибо, как всякий смертный, я подвержен страстям и не лишен желаний, – но это лучшее, что я могу им предложить. Без этого мне бы с ними не управиться. Без этого они бросили бы меня и ушли к первому же шейху, пообещавшему им богатые трофеи на земле. Но какой шейх может написать книгу и пообещать им со всей авторитетностью вечное блаженство после смерти? Это под силу лишь недюжинному уму, способному придать вымыслам величие подлинного озарения.
– У тебя есть все данные для успеха, – сказал фокусник вежливо и немного грустно.
– Я орел и я змей! – сказал араб. – А вот в молодости я был рабом одной вдовы [55]55
Согласно легенде, Магомет в молодости служил пастухом у богатой вдовы Хатидже, на которой впоследствии женился.
[Закрыть]и гордился тем, что погоняю ее верблюдов. Теперь же я смиренный раб Аллаха и погоняю за него людей. Ибо нет бога, кроме Аллаха, – он поистине велик и могуществен, и у него нахожу я прибежище от сатаны и его племени.
– Что значит величие и могущество без чувства красоты и умения воплотить ее в образы, которых не может коснуться ни время, ни тление? – сказал скульптор, до этого лишь прислушивавшийся к разговору и молча работавший. – Не нужен мне твой Аллах, раз он ничего не разрешает изображать.
– Да знаешь ли ты, неверная собака, – сказал араб, – что идолы обладают силой заставить человека пасть ниц и молиться им, даже если это просто изображения животных.
– Или плотников, – вставил фокусник.
– Когда я был погонщиком верблюдов, – продолжал араб, пропустив мимо ушей это замечание, – я возил в своих выоках идолов в виде людей, восседающих на тронах, с гордо посаженной головой и плетыо я руке. Христиане, которые начали с того, что поклонялись богу в образе человека, теперь довольствуются образом ягненка. Это и есть наказание, которое определил Аллах за дерзость тем, кто осмелится воспроизводить творения его рук. Но да не посмей на основании этого вообразить, что Аллах не умеет ценить красоту. Даже твой натурщик, который делит с тобой твой грех, скажет тебе про лилии Аллаха, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Картины Аллаха – это небеса, и статуи Аллаха – это его дети, и он не скрывает их от нашего земного взора. Он разрешает нам делать красивые одежды, и седла, и сбрую, и ковры, на которых мы преклоняем колени, вознося ему молитвы, и окна, похожие на цветочные клумбы из драгоценных камней. Так нет же, тебе обязательно надо соваться в дело, которое он приберег для себя, и изготовлять всяких идолов. Да будет вовеки заказан такой грех моему народу!
– Подумаешь! – сказал скульптор. – Твой Аллах – бездарь, каких мало, и сам об этом догадывается. У меня в ларьке припрятаны за занавеской несколько греческих богов такой красоты, что твой Аллах лопнул бы от зависти, сравни он их со своими топорными изделиями. Вот что я тебе скажу: Аллах сотворил мои руки не почему-нибудь, а потому, что собственные его руки, если они вообще у него есть, слишком неуклюжие. Если бог – художник, он должен быть настоящим художником; он никогда не бывает доволен своей работой, неустанно совершенствует ее в силу своих возможностей, ни на минуту не забывая, что, хотя сам он должеп прекратить работу, достигнув предела этих возможностей, творение его можно совершенствовать еще и еще – ибо без этого сознания труд его не имел бы смысла. Твой Аллах может сотворить женщину. А может ли он сотворить богиню любви? Нет! Только художник способен сделать это. Вот посмотри! – сказал он и, встав, пошел в ларек. – Мог бы Аллах сотворить ее? – И он достал из-за занавески мраморную Венеру и поставил ее на прилавок.
– Ее тело холодное, – сказала чернокожая девушка, которая все это время стояла молча, прислушиваясь к разговору.
– Хорошо сказано! – воскликнул араб. – Живое творение, пусть самое неудачное, лучше мертвого шедевра. Аллах оправдан в глазах этого самонадеянного идолопоклонника, которого мне пришлось бы прикончить на месте, если бы ты его не прикончила прежде метким словом.
– Однако я все еще жив, – сказал, нимало не смутившись, художник. – Настанет день, когда и тело этой девушки будет холоднее всякого мрамора. Но разруби мою богиню пополам, ты увидишь, что она вся сплошь мраморная. Разруби своим ятаганом пополам эту девушку и посмотри, что ты там найдешь.
– Разговор с тобой потерял для меня всякий интерес, – сказал араб. – Девица! В моем доме хватит места еще для одной жены. Ты красива: твоя кожа как черный атлас, ты полна жизни.
– Сколько у тебя жен? – спросила чернокожая девушка.
– Я уж давно потерял им счет, – ответил араб, – но их вполне достаточно, чтобы убедить тебя, что я стоящий муж и умею делать женщин счастливыми – в тех пределах, в каких это дозволено Аллахом.
– А я вовсе не ищу счастья. Я ищу бога, – сказала чернокожая девушка.
– Разве ты еще не нашла его? – спросил фокусник.
– Я нашла много разных богов, – сказала чернокожая девушка. – Каждый встречный предлагал мне какого-нибудь бога, а у этого художника вон их полная лавка. Но, на мой взгляд, все они наполовину мертвые, за исключением тех, которые наполовину животные – вроде того, который сидит на верхней полке и играет на губной гармошке, а сам полукозел-полу мужчина. Так оно и бывает в жизни, я и сама-то полукоза-полуженщина, хоть и не возражала бы быть богиней. Но почему даже те боги, которые полукозлы, всегда бывают полумужчинами? Почему они никогда не бывают полуженщинами?
– А как насчет этой? – сказал художник, указывая на Венеру.
– Зачем ей нижнюю часть в мешок упрятали? – спросила чернокожая девушка. – Она и не богиня и не женщина; она стыдится одной половины своего тела, а поглядишь на вторую половину и сразу скажешь, что она, как говорят белые, – настоящая дама. Она величественная и прекрасная, любой белый генерал-губернатор с удовольствием сделал бы ее хозяйкой своего дома; только, на мой взгляд, она начисто лишена совести, а это мешает ей стать человеком, хоть и не прибавляет божественности. Мне такой не надо.
– Слово должно стать плотью, а не мрамором, – сказал фокусник. – Не стоит сетовать, что у этих богов мужские тела. Не приняли бы они человеческий образ, как бы могла ты – человек – общаться с ними? Чтобы создать звено между божественным и человеческим, какой-то бог должен стать мужчиной.
– Или какая-то женщина – богом, – сказала чернокожая девушка. – Это было бы много лучше, потому, что бог, который снисходит до того, чтобы стать человеком, унижает себя, тогда как женщина, которая становится богом, возвышает себя.
– Огради меня, Аллах, от несносных женщин! – промолвил араб. – Такой несносной я еще в жизни но встречал. Неисповедимы пути Аллаха: стоит ему сотворить женщину красивой, и он тотчас наделяет ее несносным характером. Чем больше оснований дает он им быть довольными, тем менее они всем довольны. Эта вот недовольна даже самим Аллахом, великим и всемогущим. Послушай, девица, если тебе не может угодить великий и достославный Аллах, какому же богу или богине под силу тебе угодить?
– Я слышала про одну богиню, о которой мно хотелось бы узнать побольше, – сказала чернокожая девушка. – Ее зовут Мина; сдается мне, у нее есть что-то такое, чего другим богам не хватает.
– Нет такой богини, – сказал художник, – нет ни одного бога, которого бы я не слепил, а мне никогда не приходилось лепить богиню по имени Мина.
– Да наверняка есть, – сказала чернокожая девушка. – Белая госпожа отзывалась о ней с большим почтением; она сказала, будто ключ к познанию вселенной – это корень ее женственности, и что корень этот бесплотен, подобно числу, и что существовал он еще до начала всех начал, вроде как бог существовал до сотворения мира. Это, собственно, даже не Минин секс, а что-то другое, что, помноженное само на себя, дает Минин секс. Что-то такое и было, наверное, началом, и оно, наверное, останется и тогда, когда мы обратимся в прах, из которого произошли. Я еще в детстве, размышляя о числах, удивлялась, откуда взялось число один. Ведь все другие числа – это просто единица, к которой прибавляется еще единица, и еще единица, но вот откуда единица взялась – этого я никак не могла взять в толк. Но теперь, благодаря Мине, я поняла, что один – это то, что множится само по себе, а не на супружеском ложе. А получив один, понимаешь, почему нет ни начала, ни конца, если уж можно отнимать от единицы единицу, и еще раз единицу, и еще раз, и никогда не прийти к началу, и если можно прибавлять к одному единицу, и еще раз единицу, и еще раз, и никогда не прийти к концу. Вот так, с помощью чисел, и можно постичь вечность.
– Вечность сама по себе – ничто! – сказал араб. – Что мне вечность, если я не могу найти вечную истину.
– Только истина чисел вечна, – сказала чернокожая девушка. – Всякая другая истина изживает себя или оказывается ложной, как наши детские фантазии, но один да один – это два, а один да десять – одиннадцать и так будет всегда. Вот мне и кажется, что в числах есть что-то божественное.
– Число не съешь и не выпьешь, – сказал художник. – И с ним не поспишь.
– Еды и питья господь нам припас, и поспать с кем тоже найдется, – сказала чернокожая девушка.
– Да, но рисовать и лепить их нельзя, следовательно, для меня вопрос исчерпан, – заявил художник.
– Ну, для нас, арабов, это не проблема. Смотри! – сказал араб. Он нагнулся и стал чертить на песке цифры. – Вот этими символами мы завоюем мир.
– Наша миссионерка говорит, что бог – это магическое число: три в одном и один в трех, – сказала чернокожая девушка.
– Ну, это-то просто, – сказал араб. – Возьми меня: я – сын своего отца и отец своих сыновей и сам в придачу: три в одном и один в трех. Природа человеческая многообразна, только Аллах един. Он – единство. Он именно то, что, как ты говоришь, множится само по себе. Он сердцевина луковицы, бестелесная суть, без которой не может быть тела, он – число бесчисленных звезд, вес невесомого воздуха, он…
– Ты, как я вижу, поэт, – заметил художник.
При этих словах араб густо покраснел, вскочил и выхватил свой ятаган.
– Ты, кажется, осмелился назвать меня бульварным стихоплетом? – воскликнул он. – Это оскорбление можно смыть только кровью.
– Извини, пожалуйста, – сказал художник, – я вовсе не хотел тебя обидеть. Но почему ты считаешь зазорным сочинение стихов, которые переживут тысячу человек, и не считаешь зазорным превратить живого человека в труп, хотя это способен сделать любой дурак, причем труп нужно еще упрятать в землю, чтобы самому же не задохнуться от вони?
– Справедливо, – сказал араб, вкладывая ятаган в* ножны и снова усаживаясь. – Одна из загадок Аллаха: когда сатана сочиняет скабрезные стишки, Аллах ниспосылает божественную мелодию, дабы очистить их от скверны. Должен сказать, однако, что я был честным погонщиком верблюдов и за свое пение денег никогда не брал, хотя, признаться, деньги я весьма любил.
– Я и сам никогда не был чрезмерно праведным, – сказал фокусник. – Меня называли обжорой и пьяницей. Я не соблюдал постов и нарушал субботу. Я был снисходителен к женщинам, чье поведение оставляло желать лучшего. Я доставил немало неприятностей своей матери и избегал своей семьи, потому что истинный дом человека там, где господь – отец, а все мы – его дети, а вовсе не убогая лачуга и мастерская, где он должен жить, цепляясь, пока можно, за материнскую юбку.
– Для широты ума мужчине нужно иметь большой дом и много жен, – сказал араб. – Он должен делить свои ласки между многими женщинами. Не познав многих женщин, он ни одну не сумеет оценить по достоинству, ибо оценивать – значит сравнивать. Я и не подозревал, что за добрый старенький ангел моя первая жена, пока не понял, что за чертовка моя последняя.
– А как насчет твоих жен? – спросила чернокожая девушка. – Им тоже надо познать многих мужчин, чтобы оценить твои достоинства?
– О Аллах, огради меня от этой черной дочери сатаны! – вскричал араб в ярости. – Учись молчать, женщина, когда мужчины рассуждают о мудрости. Бог сотворил мужчину прежде, чем женщину.
– Семь раз отмерь, – сказала чернокожая девушка. – Если дело и впрямь обстоит так, как ты говоришь, то бог, должно быть, сотворил женщину потому, что мужчина показался ему не слишком-то удачным. По какому праву ты требуешь себе пятьдесят жен и обрекаешь всех их на одного общего мужа?
– Если бы мне пришлось начать жизнь сначала, – сказал араб, – я прожил бы ее монахом и близко бы не подпустил к себе ни одной женщины с их вопросами. Но не забывай вот о чем: если я возьму только одну жену, все остальные женщины ужо не смогут на меня рассчитывать, хотя для многих я могу быть желанным—и тем более желанным, чем больше у меня достоинств и чем разборчивей женщины. Умная женщина, которая хочет хорошего отца для своих детей, всегда предпочтет иметь одну пятидесятую долю меня, чем целиком какое-то ничтожество. Почему она должна мириться с такой несправедливостью, если в том нет никакой необходимости?
– А как она узнает о всех твоих достоинствах, не познав сначала пятьдесят других мужчин? Ведь ты говоришь, что оценивать – значит сравнивать? – сказала чернокожая девушка.
– К тебе прибегаю, о Аллах, сотворивший мужчин и женщин такими, какие они есть, – в отчаянии воскликнул араб. – Что мне сказать тебе, кроме того, что ребенок, у которого пятьдесят отцов, не имеет отца.
– Ну и что? Ведь у него есть мать, – сказала чернокожая девушка. – К тому же ты говоришь неправду: уж один-то из пятидесяти будет его отцом.
– Так знай же, – сказал араб, – что есть много бесстыдных женщин, познавших мужчин без числа, однако детей ни у одной из них нет, я же, который домогаюсь и овладеваю каждой приглянувшейся мне женщиной, имею большое потомство. Из этого явственно следует, что несправедливость по отношению к женщинам – это одна из тайн Аллаха, роптать на которого тщетно. Аллах велик и славен, он единствен в своем величии, всемогуществе и справедливости, но пути его неисповедимы. Жены мои, которые избалованы и изнежены свыше всякой меры, в муках рожают детей, терзая своими криками мое сердце, мы же, мужчины, от этих мук избавлены. Это несправедливо; но если ты не знаешь другого средства исправить эту несправедливость, кроме как позволить женщинам делать то, что делают мужчины, а мужчин заставить делать то, что делают женщины, ты, может, еще предложишь мне рожать детей? На это я могу ответить лишь: на то нет воли Аллаха. Это значило бы пойти против природы.
– Я знаю, что нельзя идти против природы, – сказала чернокожая девушка. – Ты не можешь рожать детей; но почему бы женщине не иметь нескольких мужей и рожать детей при условии, что у нее не будет больше одного мужа зараз?
– К несправедливостям Аллаха, – сказал араб, – можно причислить и его повеление, что последнее слово должно всегда остаться за женщиной. Я умолкаю.
– А что получается, – спросил художник, – когда пятьдесят женщин собираются вокруг одного-единственного мужчины и каждая говорит свое последнее слово?
– Получается ад, в котором этот один-единственный мужчина искупает все свои грехи и ищет прибежище у милосердного Аллаха, – сказал араб с чувством.
– Вряд ли мне найти бога там, где мужчины говорят о женщинах, – сказала чернокожая девушка, поворачиваясь, чтобы идти.
– Не найдешь ты его и там, где женщины говорят о мужчинах, – крикнул ей вслед скульптор.
Она махнула ему рукой в знак согласия и удалилась. Никаких новых приключений у нее не было, пока она не подошла к маленькой опрятной вилле, стоявшей в глубине не слишком искусно возделанного садика, в котором копался сухонький старичок с такими яркими глазами, что казалось: все его лицо – одни глаза; с таким большим носом, что казалось: все его лицо – один нос; со ртом, выражавшим такое лукавое ехидство, что казалось: все его лицо – один рот; и только когда чернокожая девушка собрала воедино эти три несовместимости, она поняла, что все его лицо – один сплошной интеллект.
– Извини меня, баас, – сказала она, – можно к тебе обратиться?
– Что тебе нужно? – спросил старик.
– Да вот хочу спросить, как мне путь к богу найти, – сказала она. – У тебя самое умное лицо, какое я когда-либо видела, вот я и решила спросить тебя.
– Войди сюда, – сказал он. – После долгих размышлений я пришел к выводу, что лучше всего искать бога в саду. Покопай вон там, может, и найдешь.
– Я его ищу совсем по-другому, – разочарованно сказала чернокожая девушка. – Пойду-ка я дальше. Спасибо тебе.
– И нашла ты его, ведя поиски по-другому?
– Нет, – сказала чернокожая девушка, приостановившись, – не сказала бы. Но по твоему способу мне искать тоже не нравится.
– Многие из тех, что нашли бога, потом разочаровались в нем, и всю остальную жизнь старались уйти от него. Почему ты думаешь, что тебе он придется по вкусу?
– Не знаю, – сказала чернокожая девушка. – Но у нашей миссионерки были стихи, в которых говорится: «Узрев того, кто выше нас, к нему любовью мы проникнемся тотчас».
– Поэт, написавший эти стихи, был дурак, – сказал старик. – Мы ненавидим тех, кто выше нас, распинаем их, травим ядом, приковываем к столбу и сжигаем заживо. Всю свою жизнь я старался по мере своих сил творить дела, угодные богу, и учить его врагов видеть самих себя в смешном свете; но скажи ты мне сейчас, что по дороге к нам приближается бог, и я спрячусь в ближайшую мышиную нору и просижу там не дыша, пока он не пройдет мимо. Ведь почему бы ему, увидев меня или учуяв, не наступить на меня и не раздавить, как сам я раздавил бы всякую вредоносную тварь, осмелившуюся нарушить мои заповеди? Все эти люди, которые бегают за богом с криком: «О, только бы знать, где найти его!» – должно быть, обладают потрясающим самомнением, если думают, что смогут разговаривать с ним лицом к лицу. Рассказывала тебе когда-нибудь твоя миссионерка историю Юпитера и Семелы?
– Нет, – сказала чернокожая девушка. – Расскажи!
– Юпитер – это одно из имен бога, – сказал старик. – Ты ведь знаешь, что у него много имен.
– Последний человек, с которым я разговаривала, называл бога Аллахом, – сказала она.
– Совершенно верно! – сказал старик. – Ну так вот, Юпитер влюбился в Семелу и был настолько тактичен, что являлся к ней в образе человека и держал себя с ней, как человек. Но она возомнила себя достойной любви бога во всем его божественном величии. И настояла, чтобы он явился к ной при всех своих божественных регалиях.
– И что же случилось? – спросила чернокожая девушка.
– Да то самое, что должно было случиться и о чем она могла бы сама догадаться, будь у нее хоть крупица ума, – ответил старик. – Она съежилась и затрещала, как блоха, брошенная в огонь. Так что берегись! Не будь дурой, как Семела. Бог недалеко, он всегда рядом, но в своем милосердии не обнаруживает себя, дабы ты при слишком близком знакомстве с ним не потеряла рассудка. Мой тебе совет: заведи себе садик, копайся в нем, сажай цветы, пропалывай их, подрезай деревья и радуйся, если он подтолкнет тебя локтем, увидев, что ты возделываешь свой сад неумело, или благословит тебя, если ты возделываешь его хорошо.
– И значит, мы никогда не сможем лицезреть его воочыо? – спросила чернокожая девушка.
– Думаю, что нет, – сказал старый философ. – Дело в том, что мы не сможем лицезреть его, пока не исполним всех его предначертаний и сами не станем богами. Но поскольку его предначертания беспредельны, а нам предел положен, и притом весьма близкий, угнаться за ним мы, слава богу, не сможем. Да это, пожалуй, и к лучшему. Ибо, на что и кому мы будем нужны после того, как исполним все свои дела! Тут-то нам и пришел бы конец: вряд ли он оставил бы нам жизнь ради удовольствия любоваться столь неказистыми букашками. Так что входи в мой сад и помоги мне возделать его во славу божью. А все остальное оставь попечению бога.
И тогда девушка отложила в сторону свою дубинку и вошла в сад и стала возделывать его вместе со стариком. Время от времени в сад заходили какие-то другие люди и помогали им. Сперва они вызывали у чернокожей девушки ревность, но это чувство было ей противно, и постепенно она привыкла к появлениям и уходам этих людей.
Как-то раз она увидела в дальнем углу сада рыжего ирландца, копавшегося в огороде.
– Кто это тебя сюда впустил? – спросила она.
– Да сам вошел, – ответил ирландец. – А что, нельзя?
– Но ведь этот сад принадлежит старому господину, – сказала чернокожая девушка.
– А я социалист, – ответил ирландец, – и не признаю, чтобы сады кому-то принадлежали. Твой старик давно свихнулся и с работой не справляется – надо же помочь ему выкопать картофель. О картофеле, с тех пор как он научился его копать, много чего нового узнали.
– Значит, ты не бога пришел искать? – спросила чернокожая девушка.
– Да пошел он к черту! – сказал ирландец. – Пускай сам меня ищет, если я ему нужен. Я лично считаю, что он много на себя берет. Недоделан он еще, недоработан. Но что-то такое сокрыто в нас, что тянется к нему, уж что правда, то правда. Однако и то правда, что, пока доберешься до него, ошибок натворишь прорву. Нам – тебе и мне – надо бы взяться да поискать верный путь, а то на свете развелось чертовски много людей, которые не думают ни о чем, кроме как о своем брюхе. – И, поплевав на ладони, он стал копать дальше.
Чернокожая девушка со стариком считали ирландца довольно неотесанным (что было недалеко от истины), но, поскольку он был полезен и не собирался уходить, они прилагали все усилия к тому, чтобы привить ему хорошие манеры и облагородить его речь. В одном его так и не удалось убедить: в том, что бог более надежей и приемлем, чем некая вечная, но все еще не достигнутая цель, которую едва ли вообще можно будет когда-нибудь достигнуть, разве что на помощь придет социализм, который укажет для этого новые простые пути.
Впрочем, научив ирландца хорошим манерам и чистоплотности, они привыкли к нему и даже к его неудачным шуткам. И вот однажды старик сказал девушке:
– Непростительно, что у такой красивой, здоровой женщины, как ты, нет мужа и детей. Я для тебя слишком стар, так что выходи-ка ты замуж за этого ирландца.
Она успела так сильно привязаться к старику, что, конечно, очень обиделась на него за то, что он хочет выдать ее за другого, и даже провела ночь без сна, строя планы, как прогонит ирландца со двора своей дубинкой. Она никак не могла смириться с мыслью, что старик родился на свет на шестьдесят лет раньше, чем следовало, и что недалек тот день, когда он умрет и она останется одна. Но старик так усердно вдалбливал ей в голову эту неоспоримую истину, что наконец она сдалась; и вот они отправились вдвоем на огород и сообщили ирландцу, что она решила выйти за него замуж.
Издав вопль отчаяния, ирландец подхватил свою лопату и ринулся к садовой калитке. Но чернокожая девушка предусмотрительно заперла ее и, прежде чем он смог перелезть через забор, они настигли его и схватили.
– Чтобы я женился на этой черномордой язычнице! – жалобно закричал он, забыв недавно освоенные им изысканные обороты речи. – Пустите меня, слышите! Не хочу я ни на ком жениться!
Однако чернокожая девушка держала его железной хваткой, хоть рука у нее была нежная и мягкая, а старик принялся втолковывать ему, что, вздумай он убежать, он непременно угодит в лапы какой-нибудь незнакомой женщины, которой начхать на поиски бога; к тому же у нее будет бледная, землистая кожа, вместо блестящего черного атласа, с которым он уже свыкся. После получаса споров и уговоров и бутылки доброго бургундского из погреба старика, выпитой для храбрости, ирландец наконец сказал:
– Ладно, чего уж там, женюсь.
Итак, они поженились, и чернокожая девушка весьма умело управляла и ирландцем и детишками (которые были прелестного кофейного цвета) и даже в конце концов привязалась к ним. Разрываясь между детьми, работой в саду и починкой одежды мужа (ей так и не удалось убедить его отказаться от одежды), она почти забыла о своем стремлении найти бога; однако бывали минуты, обычно это случалось, когда она вытирала после ванны своего любимого сынишку, мальчика тихого и смышленого, что она возвращалась мыслями к поискам бога. Но теперь она понимала всю нелепость своего намерения: она, неопытная девчонка, отправилась с визитом к богу, вообразив себя центром вселенной и поверив миссионерке, будто богу больше нечего делать, как следить за каждым ее шагом и заботиться о спасении ее души. Однажды она даже спросила своего сынишку, пощекотав у него за ушком:
– А вдруг я застала бы бога дома? Интересно, как бы я поступила, намекни он, что я у него засиделась и его ждут другие дела?
На этот вопрос сынишка, естественно, ответить не мог и только заливисто смеялся, пытаясь схватить ее за руки.
И лишь когда дети выросли и перестали нуждаться в ней, а ирландец стал чем-то неотъемлемым и привычным, у нее вновь появилось свободное время и возможность побыть одной, и прежние вопросы опять начали одолевать ее. Однако к тому времени она уже достаточно поумнела и успела выйти из того возраста, когда человеку доставляет удовольствие сокрушать дубинками идолов.
1932








