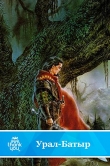Текст книги "Батыр"
Автор книги: Берды Кербабаев
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 5 страниц)
Небо над дальним хребтом гор порозовело, а высоко над головой приняло чуть зеленоватый оттенок, когда Черкез бок о бок с капитаном выехал на знакомую тропу. Кусты сиреневыми тенями выступали из молочно-белого тумана. Всё ущелье звенело от птичьего щебета.
Черкез остановил своего ослика у края густых зарослей, окаймлявших крутой обрыв, с которого он так самоотверженно летел ночью кувырком и где получил столько доблестных царапин.

—Вот здесь, – шепотом сказал Черкез.
Собаку пустили по следу. Умный пёс, покружив по зарослям, побежал сначала вверх по тропке, в восточном направлении, но Черкез сказал, что эти люди пришли оттуда, и собаку вернули. Трудно было предположить, что они повернут обратно. Собака снова начала кружить в зарослях, потом уверенно побежала вперед, низко пригнув голову и прижав уши, почти припав мордой к земле...
Начальник придержал коня и сказал, обернувшись к Черкезу:
–Ну, друг мой, спасибо тебе, а теперь поезжай-ка ты домой. Вот Мамедов, – он кивнул в сторону одного из пограничников, – проводит тебя.
–Товарищ капитан! – вскричал Черкез, и в голосе его прозвенело такое отчаяние и такая мольба, что начальник отвёл глаза. – Товарищ капитан, разрешите мне остаться!
– Не могу, Черкез, не имею права.
–Нет, я не поеду домой, – твёрдо сказал Черкез. – Я тогда сам поеду их искать, своим путём. Этого же вы мне не запретите: это мои родные горы, я тут каждый кустик знаю.
–Ну вот что, – сказал начальник. – Можешь следовать за нами, но только на расстоянии. Будешь всё время держаться позади Мамедова.

И, подозвав к себе пограничника, капитан вполголоса дал ему какие-то указания.
Когда маленький отряд, следуя за бежавшей впереди собакой, обогнул с юга край горного кряжа и поднялся на перевал, перед ним открылась узкая и глубокая ложбина, окружённая с трёх сторон горами. Скалистые вершины гор лишь кое-где поросли здесь мелким кустарником, но чем ниже по склону, тем кустарник становился чаще, образуя в глубине ложбины непролазные заросли. И тут, кинув взгляд на противоположный склон горы, уже ярко освещённый первыми лучами солнца, все увидели, что там движутся какие-то люди. Это была вторая группа пограничников. Их собака тоже бежала по следу и тоже вела их вниз, в ложбину. Вскоре всем стало ясно, что обе собаки бегут хотя и с разных сторон, но к одной цели, и пути их должны скреститься на дне ложбины – там, где темнели заросли колючего кустарника.
–Ясно. Залегли, как волки и всякая прочая нечисть, в чащобе и дожидаются темноты, – негромко проговорил начальник погранзаставы.
–Ну, теперь уж им недолго сидеть в своей берлоге, – сказал Сазак.
Окружив заросли, отряд спешился и углубился в чащу. Мамедов верхом на коне стоял поодаль, позади него – Черкез на своём ослике.
Из чащи прогремело несколько выстрелов, затем всё стихло, и пограничники вывели оттуда молодого, худого, как скелет, парня, а следом за ним – горбоносого. Нарушители не оказывали сопротивления. Но тут из кустов выскочил третий – ему, видно, как-то удалось прорваться, – и побежал, отстреливаясь. Мамедов, пришпорив коня, поскакал ему наперерез.

Черкез тоже «пришпорил» своего ослика, и послушное животное ринулось вслед за конём.
Мамедов прыгнул прямо с седла на убегавшего, и они покатились под копыта коню.
Тут подоспел Сазак. Вместе с Мамедовым они обезоружили нарушителя границы и скрутили ему руки за спиной.
Когда его подняли, первый, кого увидел перед собой человек со шрамом, был мальчик верхом на ослике.
А Черкез, вытянувшись в
седле и глядя прямо в глаза подскакавшему капитану, отрапортовал:
–Виноват, товарищ капитан, сам не знаю, как получилось! Не утерпел, нарушил приказ. Наложите на меня взыскание.
Но молодой капитан обнял Черкеза и крепко поцеловал. А затем сказал такие слова, от которых щёки у Черкеза обдало жаром, а сердце так и запрыгало в груди.
–Молодец!—сказал капитан. – Ты у нас настоящий пограничник!


СЫН СВОЕГО ОТЦА
Двери школы распахнулись, из них высыпала ватага ребят, и на нашей неширокой улочке сразу стало весело и шумно. Ребятишки с криком гонялись друг за другом, и, правду сказать, показалось мне со стороны, что они очень похожи на неугомонных ягнят, которые так забавно скачут и резвятся весной где-нибудь на зелёной лужайке.
И тут я заметил Мурада. Его вид меня удивил. Вы, друзья, может быть, знаете нашего Мурада? Ему одиннадцать лет, и можно поручиться, что там, где шум и гвалт, в самой гуще весёлой свалки, вы непременно обнаружите Мурада. И если у вас затрещат барабанные перепонки от резкого окрика: «Ораз! Аннаяр!» – можете не сомневаться, что ваших ушей коснулся голос Мурада.
И вот я сейчас смотрю на него. Вон он идёт – один, сторонкой. Тёмная вихрастая голова опущена, старенький портфель с оторванной ручкой крепко прижат к боку. Быстрый, зоркий взгляд не высматривает кого-то в толпе ребят – где-то там, на перекрёстке, за два квартала отсюда. Мурад не глядит по сторонам – он смотрит в землю. Столкнувшись с кем-нибудь, он. поднимает глаза, и вид у него такой, словно его крепко встряхнули и пробудили от глубокого сна. Поглядит на прохожего и будто не видит его. Молча уступит дорогу и, понурив голову, побредёт дальше.
Что же случилось с нашим Мурадом?
– Ай! Ой! Да ты что, малый? Глаз у тебя нет, что ли? – восклицает какая-то женщина.
Она с упрёком смотрит Мураду вслед, затем переводит огорчённый взгляд на разбитую бутылку, которая валяется на тротуаре в луже керосина.
Я хорошо знаю Мурада и поэтому жду, что он сейчас обернётся и крикнет: «Я, тётенька, слепой, как есть слепой! Да ведь и ты, видно, подслеповата?»
Расхохочется и побежит дальше, размахивая портфелем.
Но Мурад словно и не слышит сердитого крика, который несётся ему вдогонку.
В глубокой задумчивости мальчик бредёт по улице. Он не сворачивает в свой переулок – шагает дальше. Проходит ещё один квартал, второй, пересекает улицу и, не дойдя до тротуара, замечает, как видно, свою ошибку. Он резко поворачивает обратно...
Шофёр грузовика не ждал, что мальчик, который уже пересек мостовую и приближался к тротуару, внезапно повернёт и, не глядя, бросится прямо под машину. Шофёр налёг на тормоз, какая-то женщина пронзительно вскрикнула, и чья-то проворная, крепкая рука ухватила Мурада за плечо и оттащила в сторону.
Как всегда бывает в таких случаях, вокруг Мурада сразу вырастает толпа. Вопросы и упреки сыплются на него и справа и слева. Но мальчик молчит. Растерянно обводит глазами взволнованные, сердитые лица, потом неожиданно нагибается... Скользнув ужом между двумя плотными женщинами с большими арбузами в руках –эти женщины кричат громче всех и норовят даже схватить Мурада за ухо, – он выбирается из толпы и, не оглядываясь, бежит по улице.
Вслед ему несётся:
–Вот пострел окаянный!
–Как чумовой всё равно!
–Не усмотришь ведь за таким!
–Может, у него беда стряслась – в школе или дома?..
А путь Мурада, оказывается, лежит в сад.
Здесь хорошо – тень и прохлада. Ветерок овевает потный лоб и пылающие щеки Мурада, шевелит чёрные непокорные пряди.
Много цветов в нашем саду. И до чего ж они красивы – глаз не оторвёшь! А уж аромат! И когда солнечный луч, пробившись сквозь густую зелёную листву, заиграет на нежных лепестках – розовых, жёлтых, пурпурных, голубых, – кажется, что рассыпал здесь кто-то драгоценные каменья.
А когда стемнеет, разнесётся вокруг среди всей этой красоты заливистая соловьиная трель...
Вот каков наш сад, друзья, и Мурад недаром любил в нём бывать. Не раз наблюдал я, как крадётся он бесшумно, что твой барс, к высокому платану, где притаился серебряногорлый певец. Мальчику хотелось, как видно, поглядеть маленькую серую пичужку, что поёт лучше всех на свете. Порой он даже запускал камнем – невысоко, только чтобы спугнуть соловья.
Много часов проводил Мурад в этом саду. Случалось и попасть в руки к садовнику. Тогда на садовой скамейке нередко оставалась забытая второпях книжка или тюбетейка.
Короче, ни для кого это не секрет, что Мурад—мальчишка шустрый, весёлый, озорной.
И вот он сидит в саду, забравшись в самый глухой, укромный уголок, и лицо его задумчиво и грустно. Он сидит тихо, неподвижно, уставившись в одну точку, и думает какую-то свою думу. И даже не насвистывает, как обычно, когда что-нибудь замышляет. Как видно, он пришёл сегодня в сад, чтобы побыть здесь одному.
Набат ставила на стол тарелки и раскладывала ложки, когда в дверях показался Мурад.
Не поздоровавшись с матерью, Мурад швыряет свой портфель на маленький столик в углу и устало валится на тахту.
–Что с тобой, Мурад? – встревожено спрашивает мать. – Набегался?
–Ничего, – отвечает Мурад, не поворачивая головы.
–Может, нездоров?
–Нет, мама, ничего со мной не случилось, – повторяет Мурад, глядя в сторону.
Набат тяжело вздыхает. Не первый день приходит её сынишка домой в таком состоянии духа. Уже целую неделю мальчик сам не свой, и сердце Набат знает горькую тому причину. Но ей невмоготу молчать и видеть, как мучается сын. А говорить об их большом горе тоже нельзя, нельзя бередить
рану. И чтобы вывести сына из этого тяжелого, тупого состояния, мать начинает приставать к нему с расспросами:
–Ну что, сынок? Обидел тебя кто?
–Нет, мама.
–Замечание получил?
–Нет, не получал.
–Верно, опять подрался с ребятами?
–Да нет же, мама, не дрался я...
И Мурад поворачивается лицом к стене, давая понять, что вопросы матери ему докучают.
Да, Набат не узнаёт своего сына. Его будто подменили. Бывало, прибежит чумазый, растрёпанный, под глазом синяк, ворот разорван. Начнёт журить его Набат, начнёт причитать, глядя на его кровоподтёки и царапины, а он только смеётся. Блеснёт чёрными глазами и скажет: «Ничего! Получил, что причитается».
Набат знала: Мурад считает тот день пропащим, который прошёл ровно, гладко, без стычки с «противником», без какой-нибудь новой весёлой затеи и шалости. Парень рос боевой, задиристый. Но неуёмный характер сына не особенно тревожил Набат. Она видела, что в сердце мальчика нет места злобе, что дерётся он шутя, весело, – сегодня подерётся, а завтра помирится, и товарищи на него не в обиде, он с ними в ладах. Нрав у него честный, открытый, прямой. Ему радостно и весело жилось на свете, и эта радость бурлила в нём, искала выхода и перехлёстывала порой через край. Конечно, аккуратным, исполнительным его не назовешь. Случалось не раз: пошлёшь в лавку – вернётся без сдачи. Но Набат не могла всерьёз сердиться на сына. Она знала, что Мурад не утаит от неё ни копейки, не побежит потихоньку играть в альчики.
Вот купить конфет на двадцать копеек и угостить товарищей – это на него похоже.
Набат смотрит на сына, и боль сжимает её сердце. Другой, совсем другой стал её Мурад! Хмурые брови, суровый взгляд, повзрослевшее, озабоченное, печальное лицо.
В душе у Набат смятение. Не выдержав, она протягивает к сыну руки, говорит:
–Мурад, милый мой мальчик, о чём ты думаешь? Не таись от матери.
Мурад знает, что он для матери всё. Все её думы, заботы– о нём. Она растит его, бережёт, живёт его радостями и горестями. И он горячо любит мать. Он хороший сын. Не было ещё случая, чтобы Мурад, зная, что он может чем-то порадовать мать, не приложил к тому все старания.
Но сейчас слова не идут у него с языка. Притворно зевнув, он приподнимается, садится, спустив ноги с тахты. На мгновение его глаза встречаются с глазами матери. И кажется, что в этом взгляде он пытается выразить то, что у него на сердце. Потом, отвернувшись, бормочет вполголоса:
–Что это у нас так душно, мама?
–Да что с тобой, Мурад? Окна открыты, да и на дворе-то жара давно спала.
Свежий ветерок шевелит занавеси. Косой солнечный луч, в котором прыгают пылинки, играет на зеркале...
Но Мурад нетерпеливо крутит головой, порывисто расстегивает ворот, словно его и впрямь что-то душит.
Набат ставит на стол миску с горячим картофельным супом, с добрым куском мяса и зовёт сына обедать. Мурад откликается не сразу, а сев за стол, почти не притрагивается к еде. Потом, заметив тревожный взгляд матери, принимается через силу есть суп. Машинально придвигает к себе солонку, высыпает в суп порядочную щепоть соли и, отхлебнув ещё ложки две, совсем перестаёт есть.
Набат, чтобы развлечь сына, принимается рассказывать какую-то смешную историю, и Мурад поглядывает на мать и словно слушает, но видно, что мысли его далеко. Внезапно, на самом интересном месте, он прерывает её повествование.
–Ах, мама, мама, почему я не родился на десять лет раньше! – с горечью восклицает он.
Набат поражена этими неожиданными словами. Тревожные мысли, опасения вихрем проносятся в её мозгу. «Что это у мальчика на уме?» – задаёт она себе вопрос.
–Да что ж, милый, всему свой час, своё время, – отвечает она.
Но Мурад не удовлетворён таким ответом.
–Ах, мама, если бы только война началась на десять лет позже... – снова звенит его печальный голосок.
При слове «война» сердце Набат мучительно сжимается. Тяжело вздохнув, она говорит:
–Родной ты мой, да кому она нужна, эта война! Ни теперь, ни через десять лет не нужна она совсем.
–Нет, видишь, мама, если бы война началась только через десять лет, отец был бы уже стар, и на войну пошёл бы я вместо него.
Слёзы навёртываются на глаза Набат. Она пытается смахнуть их незаметно для сына. Но голос её срывается, когда она говорит:
–Мальчик мой! Ведь тогда мне пришлось бы горевать о
тебе.
–Нет, мама, – говорит Мурад тихо, опустив голову. – Я ловчей отца, проворней...
Набат старается взять себя в руки и твёрдо произносит:
– Ты мал ещё, многого не понимаешь. У твоего отца был большой боевой опыт. Он участвовал в гражданской войне. На твою Родину, Мурад, зарились тогда английские интервенты.
Хотели её затоптать, поработить. Отец твой бился с ними не в одном бою. Он был в ту пору ещё молод, и его призвали... Да, он был почти что мальчишкой, но интервенты боялись его острой сабли...
Заметив, что Мурад на этот раз слушает её внимательно, Набат принимается рассказывать один случай из гражданской войны, в котором отец Мурада проявил себя доблестным воином.
...Вечереет. В тихой, чисто прибранной комнате мать рассказывает сыну о боевых подвигах его отца. Когда она умолкла, в комнате воцарилась тишина, и было слышно, как журчит за окном вода в арыке.
– Мама, – говорит вдруг Мурад, – ты помнишь, когда я был маленький, отец часто брал меня на руки и подбрасывал. Помнишь, он раз подбросил меня к самому потолку, а ты очень испугалась, ухватилась за него, потом за меня. Крику сколько было...
– Съешь ещё мяса, Мурад, – говорит мать, не глядя на сына.
– А если ему попадётся в супе мозговая косточка, он всегда отдавал её мне. Я выколачивал из неё мозг, а он говорил: «Ешь, ешь, сынок, крепче будешь».
Набат отворачивается, глаза её полны слёз. Но Мурад не смотрит в её сторону. Он говорит быстро, порывисто, голос его дрожит:
– Он носил меня на плече. Мы с ним играли в верблюда. Он становился на четвереньки, а я забирался к нему на спину и, погоняя его, кричал: «Хайт! Чув!»
Мурад умолкает на секунду, словно у него перехватило дыхание, и тут же продолжает. Кажется, хлынуло наружу всё, что он так упорно таил в себе:
– И он не бранил меня, как ты, когда я приходил домой с синяками. Помнишь, мама, как, бывало, хлопнет он меня по спине, скажет: «Ничего, сынок, не давай себя в обиду!»? Не любил, чтобы я слюни распускал. А на другой день подзовёт к себе, обо всём расспросит, растолкует всё, разъяснит, как нужно поступать. «Мой сын не должен быть глупым драчуном-зади-рой, пустоголовым буяном», – скажет. Он всегда учил меня уму-разуму...
Набат хочет что-то сказать, но Мурад строго смотрит на неё, хмурится и продолжает:
– Он брал меня с собой гулять. Мы с ним уходили далеко в горы. Он рассказывал мне про зверей и птиц, учил читать следы... Он...
Набат вскакивает. Её душат слёзы. Она накидывает на голову шаль и, пробормотав что-то насчёт крупы, которую она позабыла отдать соседям, выбегает за дверь.
Мурад остаётся один. Он встаёт, подходит к шкафу. Достаёт с полки облупленную клеёнчатую сумочку, в которой мать хранит письма. Вынув пачку писем, начинает их перебирать. Потом разворачивает одно и негромко читает вслух:
– «Милый Мурад, я здоров, настроение отличное. У нас было несколько жарких схваток с врагом, и мы не посрамили славу нашего оружия. Надеюсь, ты хорошо учишься и сдашь все экзамены на пятёрки. Когда вернусь домой, куплю духовое ружьё и обучу тебя стрельбе в цель. Будь здоров, сынок. Крепко тебя обнимаю и целую. Твой отец».
Глаза Мурада лучатся – в них тёплый, ласковый свет; а губы вздрагивают.
Мурад берет другое письмо, и глаза его темнеют. Это письмо он не может читать вслух – читает его про себя, безмолвно шевеля губами. Перед глазами прыгают строчки, написанные ровным, крупным почерком:
«Уважаемая Набат Назарова... письмо принесёт вам страшную весть... великое горе... Мой долг сообщить... лейтенант Клыч Назаров убит в горячем бою... Боевые товарищи своими руками похоронили храброго воина... последний салют... Его имя не сходит с уст солдат... они отомстят за смерть любимого командира... Будьте мужественны... Ваш сын займёт место отца...»
Мурад плачет. Громко всхлипывая, не таясь, горько плачет Мурад, прижимая к груди пачку писем. Дрожащими пальцами он снова начинает перебирать письма и находит наконец то, что искал. Небольшой, не очень отчётливый любительский снимок. На опушке хвойного леса человек в офицерской форме, с автоматом в руках; на груди три ордена и медали. Взгляд добрый и вместе с тем суровый и устремлён куда-то вдаль...
Не сводя глаз со снимка, Мурад машинально опускается на тахту.
Войдя в комнату, Набат с трудом различает в сгустившихся сумерках маленькую фигурку сына. Подходит, молча присаживается рядом. Мурад не поворачивает головы. Заметив фотографию у него в руках, Набат порывисто обнимает сына и приникает головой к его плечу.
Мураду частенько приходилось проходить мимо этого большого, светлого двухэтажного здания, к которому так часто подъезжают автомобили. На этот раз, поднявшись на четыре плоские каменные ступени и секунду помедлив, он решительным движением толкает дверь и входит внутрь.
На площадке лестницы за маленьким столиком сидит пожилая женщина. Поглядев по сторонам и никого больше не заметив, Мурад обращается к ней:
– Скажите, пожалуйста, где ваш начальник?
–Какой начальник?
–Ваш начальник. Самый главный.
–Зачем тебе, мальчик, наш начальник? —спрашивает женщина.
–Нужно, – говорит Мурад и, видя, что женщина вопросительно смотрит на него, добавляет:
– Я сын Клыча Назарова, мне нужно поговорить с вашим начальником.

Женщина глядит на Мурада во все глаза и тяжело вздыхает. Потом, ни слова не говоря, подходит к нему, оерет его за руку и ведёт по широкой, устланной ковром лестнице. Поднявшись на второй этаж, она сворачивает в длинный коридор. Мурад шагает рядом. Женщина отворяет какую-то дверь.
–Оленька, – говорит она, – это сын Клыча. Хочет видеть товарища Сафарова.
В небольшой комнате с высоким окном – стол, несколько стульев, шкаф с книгами. Женщина, которую назвали Оленькой, встает из-за стола, подходит к Мураду, ласково кладёт ему руку на плечо.
–Здравствуй, Мурад, – говорит она. – А ты меня, верно, не помнишь?
Мурад не знает, что сказать. Он смотрит на неё с недоумением.
– Твой отец приводил тебя сюда, когда ты был совсем маленький. Я помню, он посадил тебя на плечо, а ты закричал: «Хайт! Чув!»
При этих словах Мурад хмурит брови и опускает глаза. Женщина гладит Мурада по голове, потом подходит к двери.
–Товарищ Сафаров, – говорит она, остановившись на пороге, – сын Клыча Назарова хочет вас видеть. – Взяв Мурада за плечо, она подталкивает его к двери. – Иди, иди, не робей, – говорит она.
Мурад не робеет и, чтобы доказать это всем и даже самому себе, улыбается с независимым видом.
–А, Мурад! Добро пожаловать! – говорит плотный седой мужчина, который сидит за столом спиной к огромному, в три створки, окну. – Ну, что скажешь? Как твоя мать, здорова ли?
–Спасибо, мама здорова.
–А в школе у тебя как дела? Экзамены сдашь отлично, надеюсь?
–Постараюсь сдать на пятёрки.
–Мы тебя на лето в Фирюзу пошлём оДдыхать, хочешь?
–Нет, я...
Мурад мнётся. Все заранее приготовленные слова куда-то исчезают, и он не знает, с чего начать, как изложить свою просьбу.
– Понимаю. В лагерь, верно, поехать хочется? – улыбается начальник, довольный тем, что разгадал желание Мурада. – Ну что ж, я думаю, и это можно устроить.
Выйдя из-за стола, он распахивает дверь в соседнюю комнату и кричит:
–Ольга Семёновна!
–Нет, нет, – поспешно говорит Мурад, чувствуя, что его судьба, того и гляди, решится. – Я не хочу в лагерь. Я пришёл просить вас послать меня в Ташкент, в Суворовское училище.
Высокий седой начальник оборачивается к Мураду и молча, испытующе смотрит на него.
–Видишь ли, Мурад, – говорит он, – мы с твоим отцом проработали вместе не один десяток лет. Это был прекрасный человек, замечательный работник и настоящий коммунист. Когда-то, в гражданскую войну, мы с ним немало отмахали на конях бок о бок, в одном бою ранены были. Я готов сделать для его сына всё, что в моих силах. Но то, о чём ты меня просишь, вопрос серьёзный, и я прежде всего должен спросить тебя: говорил ли ты об этом с матерью?
–Говорил.
–Почему же она не пришла ко мне сама?
Мурад поднимает глаза. Смотрит прямо в изборождённое глубокими морщинами лицо в ореоле совсем белых волос и говорит тяжёлую для себя правду:
–Мама против. Она не хочет отпускать меня от себя, не хочет, чтобы я уезжал далеко.
–Вот видишь, Мурад! Ну посуди сам, могу ли я действовать наперекор желанию твоей матери? Что сказал бы твой отец, если бы узнал, что мы не посчитались с её волей?
–А если я её уговорю?
–Тогда другое дело. Но скажи мне, почему ты решил поступить в Суворовское?
–Хочу отомстить за смерть отца.
–За неё отомстит народ.
–Я хочу сам.
–Ты ещё мал.
–Пока буду учиться в Суворовском, подрасту.
–Война кончится раньше.
–А разве потом не нужно будет защищать Родину?
Седой человек молчит с минуту и ласково смотрит на мальчика, потом спрашивает:
–А тебе не жалко оставить мать?
Мурад опускает голову. Голос его звучит уже не так громко и решительно:
–Жалко... Но если сейчас ей грустно, зато потом будет весело... когда я стану таким, как отец.
–Так, так... – говорит седой человек и покачивает головой. – Ну что ж, Мурад, рад бы тебе помочь, да без согласия твоей матери, сам понимаешь, ничего предпринять не имею права.

–Она согласится, – уверенно говорит Мурад.
Дни текут за днями, с виду совсем похожие друг на друга. Уже три раза прокатывался по небу молодой двурогий месяц. Уже в городе пожухла листва на деревьях от зноя и пыли. Пустынней и тише стало на улицах – ребятишки разъехались по лагерям.
Мурад опять стоит перед большим письменным столом, за которым сидит седой человек с добрыми тёмными глазами. Но на этот раз Мурад пришёл сюда не один. Набат сидит на стуле возле стола и, перебирая пальцами край шали, говорит:
– Ничего не могу с ним поделать, товарищ Сафаров. Вот пришла попросить: пошлите его, если это возможно, в Суворовское училище. Долго мы с ним друг друга уговаривали. Не хотелось мне его отпускать, одиночества боялась. Ведь теперь только он у меня. Уедет – совсем одна останусь. Однако вижу, изменился он очень. Сразу, в один день, словно взрослый стал. И решение принял твёрдое, как взрослый. Не отговоришь – стоит на своём. Думаю, раз так хочет, так стремится и все мысли его об одном, не надо ему препятствовать. Дело-то ведь он доброе задумал.

—Да, дело доброе, – говорит начальник и переводит взгляд с матери на сына. – Что ж, попробуем.
Только много уж очень времени протекло, боюсь, не поздно ли. Долго очень вы его характер испытывали, дорогая товарищ Набат.
Начальник берёт телефонную трубку, и Мурад впивается в него взглядом. Сафаров вызывает военный комиссариат. Что говорит полковник, которому звонит Сафаров,
Мурад, конечно, не слышит – из трубки несётся только приглушённый рокот, – но по вопросам Сафарова и по тому, как он огорчённо покачивает головой, мальчик понимает: дело плохо. Руки его судорожно впиваются в край стула, на который он от волнения присел; он почти перестаёт дышать.
–Вот видишь, Мурад, – говорит Сафаров, кладя трубку, – слишком долго вы с матерью решали этот вопрос. Опоздали вы: приём заявлений в Суворовское училище закончен.
–Как же так?.. – растерянно говорит Мурад. – Занятия же ещё не начались! Не может быть, чтоб поздно. Одного человека всегда можно ещё принять.
–Поздно, Мурад: больше не принимают, закончен набор в этом году. Ну, ты не огорчайся...
–Нет, – говорит Мурад и вскакивает со стула, – если бы был жив отец, он что-нибудь бы сделал. Он бы нашел выход, добился бы. И я добьюсь. Не хотите помочь – не надо, я сам. Поеду в Ташкент, объясню им. Не купите билет–пешком дойду...
И Мурад бросается к двери. Спокойный, твёрдый голос останавливает его:
– Постой, Мурад, не горячись. Характер у тебя, я вижу, ой-ой! Конечно, настойчивость, упорство – отменные качества, да применять-то их нужно с умом. А так, очертя голову, ты мало чего добьёшься. Прежде всего, скажи мне, какие у тебя оценки по арифметике и географии?
–По арифметике и географии? – озадаченно переспрашивает Мурад, затем отчеканивает, горделиво вскинув голову: – У меня все пятёрки, круглые!
–Все пятёрки? И даже все круглые? Интересно... – Начальник улыбается.– Тогда скажи мне, не боишься ли ты, путешествуя пешком, опоздать в Ташкент к началу учебного года?
Но Мурада не так-то легко сбить с толку.
–На грузовиках подвезут, – с глубоким убеждением отвечает он и снова делает шаг к двери.
–Вот что, товарищ Набат... – говорит Сафаров и начинает писать на листке бумаги. – Вы с Мурадом подготовьте на всякий случай все необходимые документы. Я вам тут запишу, какие. А я съезжу к полковнику, потолкую с ним, и мы попробуем написать лично начальнику Суворовского училища. Поглядим. Может быть, что-нибудь и выйдет.
Надежда и благодарность вспыхивают во взгляде Мурада. Он молча крепко жмёт протянутую ему на прощанье руку.
Пол вокруг маленького столика в углу усеян листками бумаги. На каждом аккуратным почерком старательно выведено несколько фраз.
Мурад выбегает из-за стола и распахивает дверь на веранду. Щёки его горят, на лице отчаяние. Он не может, никак не может написать то, что задумал. А ему кажется, что от того, как он это напишет, зависит его судьба.

Когда он шёл домой, сердце ликовало у него в груди и всё казалось таким ясным и простым. Он сам напишет заявление начальнику Суворовского училища. Напишет очень аккуратно, чисто, без ошибок, не забудет ни одной запятой, даже двоеточия. Напишет красивыми, хорошо составленными фразами. Мурад старался припомнить, как пишут взрослые такого рода бумаги, но оказалось, что он твёрдо знает только одно: все заявления непременно начинаются со слов: «Ввиду того что...» или «Вследствие...». А дальше уже к этому прибавляют то, что нужно.
Когда он, сев за стол, положил перед собой листок бумаги, взял ручку, придвинул к себе чернильницу и ровным, красивым почерком вывел:
Начальнику Суворовского училища от ученика 5-го класса Назарова Мурада Заявление
Ввиду того что... —
дальше этого дело у него не пошло.
Он прикидывал в уме и так и этак, пробовал по-всякому закончить эту фразу, но что бы он ни писал, всё выходило плохо и совсем не удовлетворяло Мурада. Слова, которые, как огнём, жгли его сердце, ложась на бумагу, становились холодными, неубедительными, мёртвыми. Быть может, это происходило потому, что он старался написать так, чтобы начальник сразу увидел, какой Мурад умный, не по летам развитой мальчик и, не раздумывая долго, принял его в училище. Однако внутреннее чутье подсказывало Мураду, что всё, что он пишет, звучит как-то не по-настоящему. Ему становилось не по себе, и он в сердцах швырял листок под стол.
Мальчика очень подмывало подойти к матери и попросить помочь ему, но он понимал, что это будет уже не то. Нет, он должен сам, сам...
И вот он стоит в узорчатой тени карагача, который растёт у самой веранды и так хорошо затеняет дом. Он стоит, широко расставив ноги, сжав кулаки, словно приготовившись к бою, маленький, упорный, и смотрит вдаль, напряжённо сдвинув брови. Лицо отца встаёт перед его глазами – суровое, доброе, простое. Мурад старается представить себе, как писал бы такое заявление отец, и вдруг ему становится ясно всё. Он чувствует, что набрёл на верный путь. Стоило ему вызвать в памяти образ отца, чтобы одно стало для него несомненным: отец написал бы всё это совсем иначе. Он не стал бы писать никаких заявлений, а написал бы письмо. Совсем просто написал бы – вот так, как писал он Мураду с фронта.
И, облегчённо вздохнув, Мурад возвращается к своему столику.
Сказать вам по правде, друзья, я был даже удивлён, когда увидал, сколько народу пришло на вокзал проводить Мурада.
Ну, само собой разумеется, пришла мать, наша дорогая и уважаемая товарищ Набат. Пришли все соседи, от мала до велика. И товарищи Мурада по школе пришли – все, кто уже вернулся из лагерей. И, представьте, явились даже те, с кем Мурад не очень-то ладил и кто не раз выходил из стычек с ним в довольно плачевном состоянии – с подбитым глазом или расквашенным носом. (Впрочем, это было давно, стоит ли вспоминать!) Пришёл и мой старый друг и бывший однополчанин – товарищ Сафаров.
Глаза Мурада сияли ну прямо как две самые яркие звезды в безлунную ночь. И лишь в последнюю минуту, когда прозвенел звонок и все стали поспешно проталкиваться к нему поближе,
чтобы еще раз обнять его, пожать ему руку, напутствовать добрым словом, заметил я, как затуманился его взор и потемнело лицо. Мурад шагнул к матери, по щекам которой катились слёзы, хотел что-то сказать и вдруг, неожиданно для всех, да, как видно, и для самого себя, очень громко шмыгнул носом и припал головой к её груди. Лица его мне не было видно, но как побагровели его уши и даже тоненькая, смуглая шея!
Но тут товарищ Сафаров пришёл к нему на выручку.
– Ничего, Мурад, не смущайся, – сказал он. – Ты думаешь, твой отец не плакал, когда впервые расставался с матерью?
Раздался свисток паровоза, вагоны стукнулись буферами, медленно повернулись колёса...
Мурад вырвался из материнских объятий, вскочил на площадку вагона, а мы все замахали ему на прощанье – кто платком, кто тюбетейкой.
До свиданья, Мурад! Желаем тебе успеха!


БЕСПОКОЙНЫЙ ХАРАКТЕР
–Аман! Аманджан!
Никакого сладу с мальчишкой нет! Ну, теперь уже можно поручиться, что придёт весь в грязи, или с разорванной штаниной, или с синяком под глазом.
–Ама-а-а-а-ан! Аманджа-а-а-а-ан!