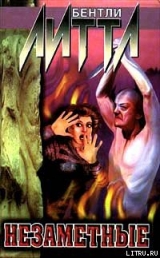
Текст книги "Незаметные"
Автор книги: Бентли Литтл
Жанр:
Ужасы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 23 страниц)
Черт, может, поэтому он никогда со мной не заговаривал – просто не замечал моего присутствия.
Микроволновка звякнула, я вынул пиццу и бросил ее на тарелку. Налив себе стакан молока, я прошел в гостиную, сел на диван и стал смотреть телевизор. Я пытался есть и смотреть новости, не думая о том, что случилось. Подул на пиццу, откусил. Том Брокау сообщал о результатах недавнего опроса по СПИДу, серьезно глядя в камеру, и у него за спиной трепыхалось изображение кадуцея. Он говорил:
– Согласно последним опросам «Нью-Йорк таймс» и «Эн-би-си», средний американец считает... Средний американец.
Эта фраза ударила меня кувалдой по лбу. Средний американец.
Это я. Это я и есть.
Я уставился на Брокау. Было так, будто я заболел и мне успешно поставили диагноз, но не было того облегчения, которое должно сопровождать такой медицинский успех, Описание было верным, но при этом слишком общим, слишком щадящим. В этих словах был подтекст, подразумевавший нормальность. А нормальным я не был. Я был ординарным, но не просто ординарным. Я был экстраординарным, ультра-ординарным, настолько ординарным, что ни друзья меня не помнили, ни коллеги по работе не замечали.
Странное это было ощущение. Вернулся тот холодок вдоль спины, который прохватил меня, когда Лоис и Вирджиния утверждали, что я был на дне рождения Стейси. Вся ситуация становилась чересчур бредовой. Одно дело – быть просто средним типом. Совсем другое быть настолько... настолько патологическисредним. Настолько таким же, как все, что меня даже нельзя было отличить от фона. Что-то в этом было пугающее, почти сверхъестественное.
Повинуясь импульсу, я протянул руку и взял со стола вчерашнюю газету. Там я нашел раздел статистики и в нем – пять самых популярных фильмов последнего уик-энда.
Это были те пять фильмов, которые я хотел посмотреть.
Я перевернул страницу посмотреть на десятку песен недели.
Это были те, которые мне сейчас нравились, расположенные в порядке моего предпочтения.
Сердце у меня застучало. Я встал и подошел к полке рядом со стереоцентром. Просмотрел свое собрание кассет и компакт-дисков, и понял, что это история самых популярных альбомов последнего десятилетия. Это было безумие. Но в этом был смысл.
Если уж я средний, значит, средний. Не только по внешности и как личность, но во всем. По всему списку. Может быть, это объясняло мое пристрастие к Золотой Середине, мою нерушимую веру в правило «умеренность во всем». Никогда в своей жизни я не доходил до крайностей. Ни в чем. Я никогда не ел ни слишком много, ни слишком мало. Никогда не был самозабвенно жадным или самозабвенно щедрым. Никогда не был ни радикальным либералом, ни реакционным консерватором. Не был ни гедонистом, ни аскетом, ни пьяницей, ни трезвенником.
Никогда ни на чем не стоял до конца. Теоретически я знал, что неверно думать, будто компромисс всегда является идеальным решением, что истина всегда посередине между двумя крайностями – не существует золотой середины между правдой и неправдой, между добром и злом, – но при попытке принять любое мелкое практическое решение я начинал мучительно колебаться между разными возможностями и тупо застревал посередине, не способный определенно и решительно стать на какую-нибудь сторону. Средний американец.
Моя экстраординарная ординарность была не каким-то аспектом моей личности, а самой ее сутью. Она объясняла, почему один я среди всех моих товарищей никогда не задавал вопросов и не высказывал жалоб на результат любых выборов или присуждения любых премий. Я всегда плыл строго по течению в главной струе и никогда не оспаривал то, с чем было согласно большинство. Это объясняло, почему никакие мои аргументы в школе или в колледже никогда не оставляли ни малейшего следа в потоке спора.
И еще это объясняло мое странное влечение к городу Ирвайну. Городу, где все улицы и дома выглядели одинаково, где ассоциация домовладельцев не терпела никакого своеобразия во внешнем виде домов и ландшафтов. Там мне было уютно, там я был дома. Однородность манила меня, звала меня.
Но нелогично было бы считать, что раз я средний, то это делает меня невидимым, заставляет людей меня в упор не видеть. Или логично? Большинство людей, если на то пошло, не являются исключительными. Они нормальные, средние. Но ведь их не игнорируют товарищи по работе, друзья, знакомые. Замечают ведь не только возвышенных или мерзавцев, не только индивидуальностей.
Но я был средним.
И я был незаметным.
Я пытался придумать какое-то действие или событие, которое опровергло бы мою теорию, что-то, что я мог бы сделать, чтобы доказать, что я не полностью ординарный. Я вспомнил, как в третьем классе меня изводили хулиганы. Ведь тогда я не был средним, нет? Я достаточно выделялся, чтобы меня специально выбрали как объект издевательств трое самых отчаянных ребят в школе. Однажды они меня поймали на пути домой. Один из них держал меня, а двое других снимали с меня штаны. Они потом стали играть со мной в «а ну-ка, отними», перебрасывая друг другу мои штаны, а я тщетно пытался их перехватить. Собралась ржущая толпа, и в ней были девчонки, и почему-то именно это мне было приятно. Мне было приятно, что они видят меня без штанов.
Потом я это вспоминал, когда был уже подростком, когда занимался мастурбацией. Когда я вспоминал, как девчонки смотрели на мои усилия отобрать у хулиганов свои штаны, возбуждение усиливалось.
Это ведь не нормально? Это не ординарно. Но я хватался за соломинку. У каждого есть свои мелкие фантазии и отклонения.
И у меня их было наверняка среднее число. Даже мои неординарные переживания были ординарными. Даже мои нерегулярности – регулярны.
Господи, даже имя у меня среднее. Боб Джонс. После Джона Смита это наверняка самое частое имя в телефонной книге.
Пицца у меня остыла, но я уже не был голоден. Уже не хотелось есть. Я посмотрел в телевизор – там какой-то репортер рассказывал о катастрофе с жертвами в Милуоки.
Большинство людей сейчас смотрят телевизор. Средний американец за ужином смотрит новости.
Я встал и переключил канал на «Армейский госпиталь». Потом отнес тарелку в кухню, бросил остатки еды в мусорное ведро, тарелку в раковину и достал из холодильника пиво. Мне хотелось надраться.
Пиво я принес обратно в гостиную, сел смотреть телевизор, пытаясь следить за очередным эпизодом «Армейского госпиталя», пытаясь не думать о себе.
И заметил, что смех за кадром идет там, где мне смешнее всего.
Я выключил телевизор.
Джейн вернулась около девяти. Я уже уговорил шесть банок и мне стало если не лучше, то хотя бы я не так зациклился на своих проблемах. Джейн посмотрела на меня, нахмурилась, прошла мимо меня и положила блокноты на кухонный стол. Взяла сертификат оттуда, где я его оставил.
– Что это?
А я и забыл, что выиграл ужин. Я показал очередной банкой пива.
– Можешь меня поздравить. На работе была лотерея, и я выиграл.
Она прочла сертификат:
– "Элиз"?
– Ага.
– Потрясающе!
– Именно. Потрясающе.
Она снова нахмурилась.
– Да что с тобой?
– Ничего, – ответил я. – Просто ничего.
Я допил пиво, поставил банку на стол рядом с ее пустыми товарками и пошел в туалет, где меня тут же и вывернуло.
* * *
На ужин в «Элиз» мы пошли через три недели. Дитя пригородов, я не помню случая, чтобы я ел в нетиповых ресторанах. От «Макдональдса» до «Лавса», от «Черного Ангуса» и до «Дона Хосе» – рестораны, которые я осчастливил когда-либо своим посещением, не были оригинальными ресторанами, отражающими личность владельцев, а всегда типовыми корпоративными обжорками, уютными надежностью своего единообразия. Когда мы вошли в дверь и я увидел элегантный декор, шикарных клиентов, я понял, что не знаю ни что здесь делать, ни как себя вести. Хотя мы оба с Джейн приоделись – она в парадном платье, я в том костюме, который был на мне в день интервью, мы среди этих людей были не на своем месте. Мы были на пару десятков лет моложе их. И вместо того, чтобы платить за еду нормально, мы используем этот дурацкий сертификат. Я сунул руку в карман, ощупал ребристый край сертификата и подумал, взял ли я достаточно денег на чаевые. Вдруг я пожалел, что мы сюда пошли.
Столик мы заказали заранее, еще за две недели, и нас должным образом усадили и выдали каллиграфически напечатанное дневное меню. Насколько я понял, выбирать нам не приходилось – нам предлагался дежурный ужин из нескольких блюд, и я утвердительно кивнул официанту, возвращая ему карту. Так же поступила и Джейн.
– Что будете пить, сэр? – спросил официант. Тут я впервые заметил карту вин на столе перед собой, и, не желая показаться таким невежественным, каким на самом деле был, я целую минуту его просматривал. Потом я поднял глаза на Джейн, прося помощи, но юна лишь пожала плечами и отвернулась, и я ткнул в одно из вин в середине списка.
– Очень хорошо, сэр.
Через пару минут принесли вино и первое блюдо – нечто вроде копченого лосося. В мой бокал упала капля вина, и я ее попробовал, как показывали в фильмах, потом кивнул официанту. Вино полилось в бокалы. И нас оставили одних.
Я посмотрел через стол на Джейн. Впервые больше чем за неделю мы ели вместе. Для этого были вполне уважительные причины: ей надо было навестить мать, мне – отвезти автомобиль к «Зирсу» на проверку тормозов, ей – позаниматься в библиотеке, но на самом деле мы просто избегали друг друга. Теперь, глядя на нее, я не знал, что ей сказать. Любая попытка начать разговор будет именно этим – неуклюжим поиском темы. Та общность, которая была между нами раньше, та естественность, которая была в наших отношениях, исчезли. До меня дошло, что я становился для нее таким же чужим, как для всех остальных.
Джейн оглядела зал.
– Действительно приятное место, – сказала она.
– Да, – согласился я. – Действительно приятное.
Ничего другого я не мог придумать, только повторить ее слова.
Сервис был великолепен. К нашему столу, очевидно, был прикреплен виртуальный взвод официантов, но они не нависали над нами, не создавали неловкости. Когда кончалась одна перемена, официант молча и умело уносил посуду, заменяя ее следующим блюдом.
Заканчивая салат, Джейн допила бокал, и я налил ей второй.
– Я тебе рассказывала про мамочку Бобби Тетертона? – спросила она.
Я покачал головой, и она стала мне излагать историю конфликта с чересчур заботливой мамашей, который произошел сегодня у них в детском саду.
Я слушал и думал, что, быть может, ничего страшного не происходит на самом деле. Может быть, я все это вообразил. Джейн вела себя так, будто все было нормально, все хороню. Может быть, я только вообразил пролегшую между нами трещину. Нет.
Что-то все же случилось. Что-то между нами встало. Мы всегда делились своими проблемами, всегда обсуждали все наши трудности в колледже или на работе. Я не был знаком с ее коллегами по детскому саду, но она их мне представила, как живых, я знал их по имени, и мне было небезразлично, что делается у нее на работе.
Но сейчас я блуждал где-то мыслями, пока Джейн вела свой рассказ о сегодняшних несправедливостях.
А мне ее день был неинтересен. Я отключился, перестал слушать. У нас всегда были отношения уравновешенные, отношения современные, и я всегда считал ее работу и ее карьеру не менее важными, чем свои. Это не была риторика, не то, чтобы я заставлял себя так считать по обязанности, – так было на самом деле. Ее жизнь была так же важна, как моя. Мы были равными.
Но больше у меня не было такого чувства. Ее проблемы стали ничтожно-мелкими по сравнению с моими.
Она трещала что-то о детях, которых я не знал и знать не хотел. Мне надоела ее болтовня, и я начинал злиться. Я не сказал ей о том, что меня не замечают, о своем открытии, что я – квинтэссенция среднего... но, черт побери, она же могла заметить, что что-то не так, и должна была меня спросить. Она должна была попытаться поговорить со мной, выяснить, что меня беспокоит, и попытаться подбодрить меня. Не должна была она притворяться, что все о'кей.
– ...сначала эти родители доверяют нам своих детей, – говорила она, – а потом они же пытаются нас учить, как...
– Мне не, интересно, – перебил я ее.
Она осеклась, моргнула.
– А?
– Мне глубоко плевать на весь твой детский сад.
Ее рот захлопнулся и искривился мрачной улыбкой. Она кивнула, будто случилось то, чего она ждала.
– Наконец-то, – сказала она. – Наконец-то ты сказал правду.
– Слушай, давай просто поедим с удовольствием.
– После этого?
– После чего? Мы что, не можем просто поесть и хорошо провести время?
– В молчании? Ты этого хочешь?
– Послушай...
– Нет, это ты послушай. Я не знаю, что с тобой творится, не знаю, что тебя последнее время грызет...
– А если попытаться спросить?
– Я бы попыталась, если бы думала, что от этого будет толк. Но ты уже месяц или больше живешь в своем собственном мире. Ты сидишь все время мрачный, ничего не говоришь, ничего не делаешь, только затыкаешь мне рот...
– Затыкаю тебе рот?
– Да! Каждый раз, когда я пытаюсь к тебе подойти, ты меня отталкиваешь...
– Я тебя отталкиваю?
– Когда мы последний раз были вместе? – Она смотрела на меня в упор. – Когда ты последний раз пытался быть со мной?
Я оглядел ресторан, чувствуя неловкость.
– Не устраивай сцен, – попросил я.
– Сцен? А вот захочу и устрою. Я этих людей не знаю и никогда больше их не увижу. Какое мне дело до того, что они подумают?
– Мне есть дело.
– А им – нет.
Она была права. Мы говорили на повышенных тонах и явно ссорились, но никто на нас не посмотрел и не обратил ни малейшего внимания. Я решил, что это из вежливости и от хорошего воспитания. Но голосок у меня в голове говорил, что это я создал какое-то силовое поле, делающее нас невидимыми для окружающих.
– Давай сначала доедим, – сказал я. – Поговорим об этом дома.
– Нет, сейчас.
– Сейчас я не хочу.
Она посмотрела на меня взглядом персонажа из мультфильма. В наигранном, преувеличенном изумлении на ее лице я увидел рождение мысли, озарения.
– Тебя больше не интересуют наши отношения. Тебя больше не интересую я. Тебя не интересуем мы с тобой. Ты даже не хочешь защищать то, что у нас есть. Все, что тебя интересует, – это ты сам.
– На самом деле это я стал тебе безразличен, – возразил я.
– Это неправда. Ты для меня значишь много и значил всегда. Но я для тебя ничего не значу.
Она смотрела на меня через стол, и от этого взгляда мне стало не только неловко, но и невыносимо грустно. Она смотрела на меня, как на незнакомца, будто она только что обнаружила, что меня клонировали и заменили бездушной самозванной копией. Я видел на ее лице ощущение потери, я видел, как она глубоко ранена и одинока, и я хотел броситься к ней и схватить ее руки в свои, и сказать ей, что я все тот же, каким был всегда, что я люблю ее и готов себя убить, если сказал или сделал что-нибудь, что сделало ей больно. Но что-то меня удержало. Что-то не пустило. Я до смерти хотел исправить то, что сломалось между нами, но что-то заставило меня отвести глаза и уткнуться в тарелку.
И я взял вилку и стал есть.
– Боб? – позвала она.
Я глядел в тарелку.
– Боб? – Осторожно, вопросительно.
Я не ответил, продолжая есть. Она тоже взяла вилку и стала есть. Плавно и бесшумно официант убрал мою тарелку и заменил ее другой.
* * *
Август стал сентябрем.
Однажды утром я нашел у себя на столе конверт плотной бумаги. Это было рано, Дерек еще не пришел, и офис был мой. Я сел, взял конверт и уставился на строки зачеркнутых адресов. Маршрут этого конверта за последний месяц был отражен на его поверхности различными чернилами с разными подписями, и я вдруг понял, как я ненавижу свою работу. Просматривая список фамилий и отделов, нацарапанный небрежными каракулями, я обнаружил, что тут нет ни одного человека, к которому я испытывал бы теплые чувства.
И еще до меня дошло, сколько я здесь уже торчу.
Три месяца.
Четверть года.
И скоро будет и полгода. Потом целый год. Потом два.
Я уронил конверт, не открывая, подавленный неимоверно. Так я сидел, глядя на противный пустой офис, потом потянулся к конверту, раскрыл и заглянул.
Визитные карточки.
Сотни карточек, целый белый блок в небольшой коробочке. На верхней я увидел свою фамилию и должность рядом с эмблемой «Отомейтед интерфейс», адресом и номером почтового ящика компании.
Мои первые визитные карточки.
Я должен был быть доволен. Я должен был обрадоваться. Испытать какие-нибудь положительные эмоции. Но вместо того эта пачка карт наполнила меня каким-то чувством, родственным ужасу. Они говорили о привязи, о том, что я – часть корпорации, что я здесь надолго. Это было как подписать контракт, как прилипнуть на клей, как взять на себя обязательство. Я чуть не завопил. Я чуть их не выбросил. Я хотел их отослать обратно.
Но ничего этого я не сделал.
А вытащил несколько карточек из коробки, переложил в свой бумажник, а остальные сунул в правый верхний ящик стола.
Ящик закрылся с металлическим щелчком, слишком громким и будто ставящим точку.
Я понял, что смотрю на постоянно заедающую замочную скважину в середине дверцы ящика. Вот это оно и есть. Вот это моя жизнь. Здесь я проведу лет сорок своей жизни, потом выйду на пенсию, потом умру. Пессимистический взгляд на ситуацию, может быть, излишне мелодраматический. Но по сути верный. Я знал, что собой представляю. Я знал свою личность и возможности. Теоретически я мог сменить работу. Я даже мог вернуться в колледж и получить еще одну степень. Возможностей много. Но я знал, что ничего из этого не случится. Я просто приспособлюсь к ситуации и буду так жить, как делал всегда. Я не был инициатором, делателем, непоседой. Я был ведомым, я был инертным.
И так и пройдет моя жизнь.
Мысли вернулись к мечтам в начальной и средней школе, к моим планам стать астронавтом, рок-звездой, кинорежиссером. Неужели у всех так бывает? Наверное, да. Ни один ребенок не хочет быть бюрократом, или технократом, или управленцем среднего звена – или помощником координатора по межофисным процедурам и документации фазы два.
На эти работы мы попадаем, когда умирают наши мечты.
И это то, чем они и были – мечтами. Мне не суждено было стать ни астронавтом, ни рок-звездой, ни кинорежиссером. Я оказался там, где мне и место, стал тем, кем должен был стать, и реальность этой ситуации угнетала меня сильнее всего.
Дерек пришел точно в восемь, не заметил меня, как всегда, и тут же начал звонить по телефону. В девять позвонил Банке и сказал, что хочет видеть меня и Стюарта, и я поднялся к нему в офис, и они оба долбили меня полчаса, объясняя, насколько неудовлетворительна составленная мною документация по GeoComm.
Остаток дня я переписывал описание функций GeoComm, которое составил ранее.
Я вспомнил, что ровно пять лет назад начал ходить в колледж Бри. Как много изменилось за эти пять лет. Тогда я был только что из школы, и будущее ждало меня. Теперь я неумолимо приближался к своему тридцатилетию, запертый в клетке отвратительной работы, и жизнь моя уперлась в тупик.
Переписывая свои изменения на компьютере, я случайно нажал не ту клавишу и угробил десять страниц работы. Я посмотрел на часы. Половина пятого. Полчаса до конца дня. За полчаса мне никак не напечатать это все снова.
«Дошел до дна, – подумал я. – Уж хуже, чем теперь, ничего не случится». Как всегда, я ошибся.
* * *
Когда я вернулся, дома было темно и все еще пахло завтраком – поджаренным хлебом, яйцами, апельсиновым соком. Я щелкнул выключателем.
В гостиной было пусто. Не в том смысле, что никого, а в том смысле, что и мебели не было. Исчез диван и кофейный столик. Телевизор остался, но видеомагнитофона не было. Фикуса и папоротника тоже не было. Стены остались голыми – с них сняли все репродукции.
Я будто попал в иное измерение, в сумеречную зону. Слишком сильная реакция? Возможно, но вид пустой квартиры так меня потряс, был таким неожиданным, что я не мог выделить детали, только воспринимал ситуацию в целом, и эта ситуация была столь ошеломляющей, что я ничего не понимал.
Хотя одну вещь я понял сразу.
Джейн ушла от меня.
Снимая на ходу галстук, я кинулся в кухню. И тут многого не хватало: тостера, кастрюль.
Записка на кухонном столе.
Записка?
Оцепенелый, я смотрел на клочок бумаги с моим именем. Это было никак не похоже на Джейн. Совсем не в ее характере. Она никогда так не делала. Если она была несчастна, если у нее бывали проблемы, она мне о них рассказывала, и мы вместе спорили, ища выход. Она бы не могла просто собрать вещи и улизнуть, оставив мне записку. Она бы не сдалась так легко. Она не могла уйти от меня, от нас, от того, что было у нас общего.
Первое, что мне должно было бы прийти в голову – что ее забрали, похитили те же люди, что ограбили нашу квартиру.
Но почему-то я знал, что это не так.
Джейн ушла от меня.
Не знаю, откуда я это знал, но знал. Может быть, я видел приближение этого, но не хотел признавать. Я возвращался мыслью назад, вспоминая, как она говорила, что в совместных отношениях общение – это главное, что если даже двое любят друг друга, отношений не будет, если они не могут общаться. Я вспомнил, как она все эти месяцы пыталась со мной говорить, пыталась разговорить меня, чтобы я рассказал ей, что меня беспокоит, что со мной творится.
Я вспомнил вечер в «Элизе». С того вечера мы очень мало разговаривали. Несколько раз мы по этому поводу ссорились, она упрекала меня, что я скрываю свои чувства вместо того, чтобы открыться и разделить их с нею, а я лгал, что нет у меня никаких чувств, чтобы ими делиться, что все у меня в порядке. Но даже наши ссоры были вялыми и тепловатыми, а не страстными битвами, как раньше.
Я снова посмотрел на сложенный листок из блокнота с моим именем.
Может быть, она должна была мне сказать, что собирается уйти. Но мы действительно мало разговаривали последнее время, и в этом контексте записка вполне имела смысл.
Я взял листок и развернул его.
Дорогой Боб!
Это самые трудные слова, которые мне приходилось в жизни писать.
А не хотела, чтобы так вышло, и я знаю, что это неправильно, но я не могла бы сказать этого тебе в лицо. Я не могла бы через это пройти.
Я знаю, что ты думаешь. Я знаю, что ты чувствуешь. Я знаю, что ты сердишься, и ты имеешь полнее право. Но у нас уже ничего не получится. Я это вертела так и этак, думая, не могли бы мы что-нибудь сделать, или нам расстаться на время вроде пробного развода, но я решила, что лучше будет сразу отрезать. Сначала это будет тяжело (по крайней мере для меня), но я думаю, что в конечном счете это оптимальное решение.
А люблю тебя. Ты это знаешь. Но иногда одной любви мало. Чтобы были настоящие отношения, должно быть доверие и готовность делиться. У нас их нет. Может быть, никогда и не было – не знаю. Хотя, наверное, когда-то были.
Я не хочу никого винить. Это не твоя вина, что так вышло. И не моя. Это наша общая вина. Но я знаю нас обоих. Я знаю себя, знаю тебя, и знаю, что если мы даже скажем, что попробуем все уладить, ничего не выйдет. Лучше проститься сейчас, пока не стало совсем плохо.
Боб, я никогда тебя не забуду. Ты всегда будешь частью моей души. Ты первый человек, которого я любила, единственный человек, которого я любила. Я всегда буду тебя помнить.
Я всегдабуду тебя любить.
Прощай.
Под этим была ее подпись. Она подписалась полностью, именем и фамилией, и этот штрих официальности ранил меня больнее всего остального. Сказать, что я чувствовал внутри пустоту – штамп, но так это было. Боль была почти физической, неопределенная боль, не имеющая центра, мечущаяся между головой и сердцем.
«Джейн Рейнольдс».
Я снова посмотрел на записку у себя в руке. Когда я перечитал ее снова, меня задел уже не только излишний формализм подписи. Все письмо было сухим и жестким. Слова и чувства были все на месте, но казались они знакомыми и слишком уж готовыми. Я их читал до того в ста романах, слышал и видел в ста фильмах.
Если она меня так любит, почему нет слез? Интересно. Почему не смазана ни одна буква, почему чернила не потекли?
Я выглянул из кухни обратно в гостиную. Кто-то же помог ей вытащить мебель: диван, стол. Кто? Какой-то мужчина? С которым она встречается? С которым она трахается?
Я тяжело сел на стул. Нет. Я знал, что это не тот случай. Она ни с кем не встречается. Она даже не была бы способна от меня такое скрыть. И даже не пыталась бы. О такомона бы мне сказала. Это она бы со мной обсудила.
Наверное, отец помог ей перебраться. Я побрел из кухни в спальню через гостиную. Здесь утрат было меньше, но они были более личными, и потому было больнее. Мебель вся осталась. Кровать была на месте, и туалетный столик тоже, но покрывала с кровати и кружевной салфетки со столика не было. В шкафу остались только мои вещи. Фотографии с подзеркальника тоже исчезли.
Я сел на кровать. Внутри у меня было как в квартире – физически ничего не изменилось, но я был выпотрошен, опустошен, лишен души, будто сердце убрали. Я сидел, а в комнате темнело, день переходил в сумерки, сумерки в вечер.
Я состряпал себе ужин – макароны с сыром, посмотрел новости, «Вечернее шоу» и все передачи, которые обычно смотрел. Я смотрел и в то же время не смотрел, ожидая звонка от Джейн и не ожидая его. Как будто моя личность расщепилась на несколько, и каждая думала о своем, а я осознавал одновременно их все, но в результате сидел в оцепенении на кровати и не шевелился, пока на начался поздний выпуск новостей в одиннадцать.
Странно было входить в темную пустую спальню, странно было не слышать Джейн в душе, и при выключенном телевизоре я вдруг ощутил, как тихо в доме. Откуда-то с улицы, приглушенно и неразличимо, доносились звуки студенческой вечеринки. Там, за дверью, жизнь шла, как шла.
Я разделся, но не бросил вещи на пол, как всегда, а решил положить их в корзину, как всегда настаивала Джейн. Я отнес штаны и рубашку в ванную, открыл пластиковую крышку корзины для грязного белья и собирался бросить туда вещи, когда заглянул внутрь.
На дне корзины рядом с парой моих носков лежали трусы Джейн.
Белые, хлопковые.
Я уронил вещи на пол. Я тяжело сглотнул. Вдруг при взгляде на свернутое белье Джейн мне захотелось заплакать. Я вспомнил, как впервые ее увидел. Она надела на занятия белые трусы и джинсы с прорехой в паху. Я сидел напротив нее в библиотеке и видел, как выглядывает белое из дыры в синем, и ничего в жизни меня никогда так не возбуждало.
С мокрыми глазами я наклонился и достал трусы из корзины. Осторожно, будто они могли разбиться, я медленно их развернул. Они были влажноватыми на ощупь, а когда я поднес их к лицу, они едва слышно пахли ею.
– Джейн, – шепнул я, и мне сладко было произносить ее имя. Я повторил: – Джейн. Джейн...







