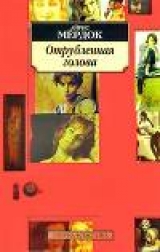
Текст книги "Отрубленная голова"
Автор книги: Айрис Мердок
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 16 страниц)
ГЛАВА ПЯТАЯ
Я всегда думаю о Ремберсе как о доме моей матери, хотя в действительности имение купил мой дед, а Александр основательно перестроил его после смерти нашего отца. Однако в доме сохранился явный отпечаток личности моей матери, ее нежной слабости и нерешительного характера. В моем сознании имение всегда представало окутанным романтическим, почти средневековым туманом. Хотелось, чтобы его, как замок спящей красавицы, окружал густой лес и вьющиеся розы. Однако дом не был старым. Его построили в восьмидесятых годах прошлого века, наполовину из дерева, а другую половину отштукатурили и выкрасили ярко-розовым, типично ирландским цветом. Дом расположен в уединенном месте, на высоком берегу реки Стаур, на окраине деревушки Костуолд неподалеку от Оксфорда. Из дома открывается вид на голые холмы, куда забегают только зайцы. Тисы и самшит, посаженные моей матерью, разрослись, и сад мог бы показаться более старым на вид, чем дом, если бы не вневременное очарование этого места, с отчетливыми следами увядания, словно на картинах сэра Джона Милле[6]6
Джон Милле – художник-прерафаэлит.
[Закрыть] или Данте Габриэля Россетти.[7]7
Данте Габриэль Россетти (1828–1882) – поэт, художник, признанный лидер «Прерафаэлитского Братства»
[Закрыть]
Был сочельник, время ленча; я сидел в оксфордском поезде. В Лондоне небо было желто-свинцовым, и когда мы проехали Рединг, начал падать снег, в неподвижном воздухе закружились редкие, крупные хлопья. Стало очень холодно. Я решил встретить Рождество с Александром и Роузмери и позвонил им два дня назад, пообещав, что приеду. Я вкратце сообщил, что расстался с Антонией. Палмер и Антония страстно и с неподдельной теплотой уговаривали меня провести Рождество вместе с ними. Диву даешься, как скоро после откровенного признания Антонии «они» начали существовать как семейная пара со своим вполне ощутимым воздействием, атмосферой и даже традициями. Теперь Антония делила свое время между Херефорд-сквер и домом Палмера на Пелхам-крессент, успевая бывать чуть ли не одновременно и там и там. Я никогда не видел ее такой счастливой и со смешанными чувствами осознал, что важнейшей стороной этого счастья являлась забота обо мне. И я позволял ей заботиться. Она потребовала, чтобы две ночи до моего отъезда мы провели на Херефорд-сквер, и я ей разрешил; впрочем, мы, как и прежде, спали в разных комнатах. Я каждый вечер ложился в постель мертвецки пьяным. А вот от их рождественского приглашения отказался – не потому, что боялся вспылить или разозлиться. Нет, меня путала собственная уступчивость. Мне нужно было уехать, чтобы за это время вновь облачиться в обрывки достоинства и здравого смысла. «Они» застигли меня врасплох и раздели догола, и сейчас я надеялся вернуть себе хоть слабое подобие самоуважения, разыграв перед Александром и Роузмери роль обманутого мужа. Проще говоря, мне требовалось время для размышления, а еще проще – время, чтобы пережить случившееся.
Только теперь я начал этому верить. Вечер признаний Антонии, во время которого я очень много выпил, впоследствии стал казаться мне мрачной выдумкой с омерзительными подробностями. Однако в тот вечер боли я не почувствовал. Она возникла позднее – смутная, совершенно безотчетная, похожая на воспоминание о каких-то детских утратах. Знакомый мир ясных целей и привычных предметов, в котором я так долго жил, больше не принадлежал мне, и наш милый дом внезапно приобрел сходство с дорогим антикварным магазином. Каждая вещь воспринималась сама по себе, не составляя единого ансамбля. Странно, что боль впервые проявилась и выразила себя через вещи, как будто они сделались печальными символами потери, которую я еще не мог осознать целиком. Вещи оказались мудрее меня – они поняли и принялись безмолвно оплакивать уход Антонии. Вместе с ней из дома действительно ушли тепло и защищенность. А ведь несколько дней назад я был беспечен, делил себя между Антонией и Джорджи и отдавал Антонии лишь часть. Как это странно, твердил я себе. Теперь с ее уходом распалось все. Словно кожу содрали. Или, точнее, ясно очерченный круг моей жизни, такой уютный и симметричный, вдруг резко искривился, в лицо мне задул холодный ветер и сгустилась тьма.
Однако я держался молодцом. Это, по крайней мере, было очевидно и стало для меня главным. Благодаря незаметному волевому усилию я сумел обрести устойчивость. Я вел себя достойно, и теплая волна благодарности, исходившая от Антонии и Палмера, постоянно ощущалась мной. Лишенный других, согревающих меня чувств, я малодушно принимал эти знаки внимания. Принимать их казалось неизбежным, но я решил порвать все нити и бежать. Я упустил время, когда мог действовать, и порой страшно сожалел об этом, хотя совершенно не понимал, к чему привели бы мои поступки. Было очевидно – и иногда это утешало меня, а иногда казалось невыносимым, – что Антония и Палмер действительно очень любят друг друга. Теперь, когда они могли любить открыто, да еще я уступил им, более того, как я горько отметил, фактически благословил и освободил их, они безудержно радовались. Я никогда не видел их такими веселыми, полными жизни, яркими и сияющими. Казалось, будто они без устали носятся в вихре вальса. Я все равно не мог бы противостоять подобной силе, говорил я себе. Но также чувствовал, что стоило мне постараться, если бы я только знал, какую тактику следовало применить, столкнувшись с мягкой убежденностью Антонии и ее незамедлительно последовавшей благодарностью, то, даже если бы моя попытка не удалась, я частично избавился бы от гнетущей боли. Они лишили меня минут неистовства, когда я мог напрячь силы и волю и совершить какой-нибудь, пусть даже ненужный, поступок, и этого я им никогда не прощу.
Какая ирония судьбы! – размышлял я, сидя в поезде. Еще неделю назад я обладал двумя женщинами, теперь, вполне возможно, у меня не останется ни одной. Не сведет ли на нет каким-то таинственным образом мой разрыв с Антонией и отношения с Джорджи, словно два этих растущих побега, отнюдь не соперничая между собой, подпитывали друг друга? Однако в этом я совсем не был уверен, и мои мысли осторожно, даже застенчиво вернулись к моей любовнице. Я не общался с Джорджи с того рокового дня, когда на меня обрушились признания Антонии, и, поскольку событие еще не стало общеизвестным, она могла ничего не знать о переменах в моей судьбе. Мне не хотелось ей рассказывать. Еще не пришло время, когда я почувствовал бы, что могу говорить людям то, чего они от меня ждут. Гадая и прикидывая, что ждет от меня Джорджи, я понял, как плохо я, в сущности, ее знаю. То, что она начнет вульгарно нажимать на меня и требовать, чтобы я женился на ней, я, конечно, исключал. Скорее, вопрос шел о том, способна ли она простить меня и в какой мере, да и хочу ли я, чтобы она меня простила. Когда я всерьез задумался над этим, то ощутил резкую боль: меня стало мучить, что если Джорджи или я «капитулируем» без боя, то предадим себя и даже разорвем тонкую и нежную связь, которая так расцвела в тайной и двусмысленной атмосфере. Я нуждался в Джорджи, любил ее, чувствовал, что, наверное, не смогу без нее жить, особенно сейчас. Однако не представлял, как это вдруг женюсь на ней. Сейчас еще слишком рано об этом задумываться, решил я. Ведь я еще даже не начал собирать распавшиеся части: когда мне удастся их соединить, то, может быть, в этой новой картине и найдется место для нашего счастья с Джорджи. Изредка и весьма абстрактно я воображал себе это счастье как нечто крайне далекое от моих нынешних невзгод и смятения и все же в какой-то степени возможное.
Роузмери должна была встретить меня в Оксфорде и довезти до Ремберса. Вообще-то у меня не было настроения с ней встречаться. Она никогда не ладила с Антонией и, с одной стороны, должна была бы обрадоваться случившемуся, но с другой – выразить сожаление, хотя бы из приличия; подобное сожаление обычно выражают при известии о смерти кого-нибудь из знакомых, на самом деле испытывая возбуждение и предвкушая удовольствие проснуться поутру с мыслью, что у тебя самого, слава Богу, пока еще нет смертельного диагноза и потому ты счастливейший из всех людей. Замечу, что Роузмери уже поплатилась за свои грехи. В юности она, вопреки нашему желанию, вышла замуж за малоприятного биржевого маклера Билла Микелиса, который вскоре ее бросил. Подобно многим людям, которым не повезло в браке, она живо интересовалась семейными неурядицами других. Я ждал, что Роузмери снова выйдет замуж – она не только состоятельна, но и нравится мужчинам, но до сих пор она осторожно воздерживалась. У Роузмери мелкие, тонкие черты лица, культурная и чопорная речь и педантичная манера говорить, свойственная всем Линч-Гиббонам, – короче, она может показаться недотрогой, хотя это далеко от истины. Не сомневаюсь, что в ее довольно таинственной квартире в Челси, куда она изредка приглашает меня, одно любовное приключение сменяется другим.
Похоже, что в Оксфорде уже некоторое время шел густой снег. Выйдя из поезда и оглядевшись по сторонам в поисках сестры, я увидел, что земля покрыта мягким, пушистым белым ковром. Вскоре я заметил Роузмери, одетую во все черное, бесспорно, интуиция подсказала ей одеться именно так. Она приблизилась ко мне и подставила свое узкое, бледное лицо для поцелуя. На голове у нее была маленькая, бархатная кепочка. Многие назвали бы Роузмери «миленькой». У нее продолговатое лицо, как и у остальных Линч-Гиббонов, крупные нос и рот, но все уменьшено и сглажено. Кожа у нее цвета слоновой кости с едва заметными веснушками. Лица типа Линч-Гиббонов хороши для мужчин. На мой взгляд, в облике Роузмери, несмотря на его миловидность, есть что-то слегка карикатурное.
– Привет, цветочек, – сказал я, целуя ее.
– Привет, Мартин, – не улыбаясь, откликнулась Роузмери. Ее явно изумило мое легкомыслие. – Какие мрачные новости! – добавила она, пока мы двигались к выходу.
Я пропустил вперед ее изящную, черную фигурку, и мы сели в машину Александра.
– Ужасные новости, – подтвердил я. – Ну да ничего. А как вы с Александром?
– С нами все в порядке, как и следовало ожидать, – отозвалась Роузмери. Она казалась подавленной моими бедами. – О Мартин, мне так жаль!
– Мне тоже, – проговорил я. – Мне нравится эта твоя шляпка. Она новая?
– Дорогой Мартин, – ответила Роузмери, – не надо разыгрывать со мной комедию.
Теперь мы ехали вдоль Сент-Джайлс. Снег валом валил с потемневших небес. На его белом фоне резко выделялись сухие, черные деревья, а желтые фасады высоких георгианских зданий отливали терракотой.
– Я никак не могу этому поверить, – сказала Роузмери. – Вы с Антонией расходитесь… после стольких лет! Знаешь, я была просто поражена.
Я с трудом выносил удовольствие, которое она испытывала. Я поглядел вниз на ее маленькую ножку в туфле на высоком каблуке, нажимающую на педаль.
– В Ремберсе, наверное, сплошные сугробы?
– В общем-то нет, – сказала Роузмери, – хотя такое впечатление, будто снег здесь шел чаще, чем где бы то ни было. За городом всегда кажется, что снега выпало очень много. Правда, странно? На прошлой неделе Уотер-лейн был заблокирован, но на других дорогах все довольно чисто. Джиллад-Смиты используют цепи для своего автомобиля. А мы нет… Александр говорит, что от цепей могут пострадать шины. Но Баджет раз или два подталкивал машину при выезде из ворот. Где ты теперь будешь жить, Мартин?
– Не знаю, – ответил я. – Но уж конечно, не на Херефорд-сквер. Полагаю, мне лучше найти квартиру.
– Дорогой, найти квартиру просто немыслимо, – заявила Роузмери. – По крайней мере, за квартиру, пригодную для жилья, нужно выложить уйму денег.
– Ну я и выложу уйму денег, – согласился я. – Ты давно здесь?
– Около недели, – сказала Роузмери. – Не дай Антонии одурачить тебя с мебелью и другими вещами. Я думаю, что если она виновата, то имущество по праву должно принадлежать тебе.
– Отнюдь нет, – возразил я. – Таких правил не существует! А ее деньги вложены в дом, равно как и мои. Мы договоримся и разделим вещи полюбовно.
– По-моему, ты ведешь себя изумительно! – воскликнула Роузмери. – Ты вовсе не выглядишь огорченным. Очутись я на твоем месте, я бы просто с ума сошла от ярости. Ты относишься к этому человеку как к своему лучшему другу.
– А он и есть мой лучший друг.
– У тебя очень философский подход, – заключила Роузмери. – Но не надо слишком усердствовать. В глубине души ты, должно быть, обижен и расстроен. Тебе бы не помешало обругать их как следует, облегчить душу.
– Мне постоянно тяжело, – пояснил я. – А злость – это совсем иное. Для нее нет причин. Давай переменим тему.
– Ладно. Мы с Александром тебя в беде не бросим, – сообщила Роузмери. – Подыщем тебе квартиру, поможем с переездом, а потом, если ты не против, я буду приходить и какое-то время вести твое хозяйство. Мне это понравится. Мы с тобой редко виделись последние два-три года. Я уже думала об этом на днях. Тебе нужно, чтобы кто-то вел твое хозяйство – хорошая прислуга стоит уйму денег.
– Отлично придумано, – похвалил ее я. – Над чем сейчас работает Александр?
– Говорит, у него все застопорилось, – сказала Роузмери. – Кстати, он страшно переживает за тебя и Антонию).
– Естественно, – не удивился я. – Он обожает Антонию.
– Я случайно оказалась рядом, когда он распечатал ее письмо, – продолжала Роузмери. – Никогда не видела его таким потрясенным.
– Ее письмо? – переспросил я. – Значит, она написала ему обо всем? – Сам не знаю, почему это вывело меня из равновесия.
– Похоже, что так, – подтвердила Роузмери. – Во всяком случае, прошу тебя, будь тактичен и добр с Александром, веди себя с ним поласковее.
– И постарайся утешить его, ведь он так огорчен тем, что от меня ушла жена, – подхватил я. – Ты это хочешь сказать, цветочек?
– Мартин! – воскликнула Роузмери. Через несколько минут мы свернули к воротам Ремберса.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
«Покинул Пламтри в Теннесси
И первый раз согрелся», —
процитировал Александр, размахивая перед обогревателем длинной, с широкими ногтями рукой. Рукав белого халата трепетал и колыхался на теплом ветру.
Это было полчаса спустя, мы сидели в пристройке к мастерской Александра с окном-фонарем, пили чай и смотрели на падающий снег и южное крыло дома, видное даже при слабом полдневном свете, на его бревенчатые стены и волнистые снежные полосы, осевшие на тускло-розовой штукатурке.
Венок из остролиста с красным бантиком, висящий над входной дверью, был запорошен снегом и почти неразличим. Ближайшие от окна хлопья снега сверкали белизной, но дальше на них ложились отсветы желтого занавеса, и они скрывались из виду, отчего Ремберс казался уединенным и надежно защищенным.
В кремово-белом халате подчеркнуто старомодного покроя брат смахивал на мельника из оперы. Когда он отдыхал, его большое, бледное лицо напоминало портреты восемнадцатого века – тяжелое, значительное, с еле различимыми признаками вырождения, свидетельствующее о поколениях генералов и доблестных авантюристов, по-своему сугубо английское, какими бывают теперь лишь англо-ирландские лица. Его можно было бы назвать «породистым» в том смысле, как обычно говорят о животных.
Я только теперь, в Ремберсе, заметил одну странную вещь: хотя по чертам его лицо удивительно походило на отцовское, но по общему духу и выражению оно столь же удивительно напоминало о матери. Она «ожила» в нем куда явственнее, чем в Роузмери или во мне, мы остро ощущали это. Мы считались, да, полагаю, и были, очень дружной семьей, и, хотя финансовое благополучие зависело от меня и я в значительной степени играл роль отца, Александр, вжившись в роль нашей матери, был подлинным главой семьи. Здесь, в доме и мастерской с белеными стенами, на которых все еще висели ее акварели и темноватые литографии пастельных тонов, я особенно ясно вспоминал ее с какой-то щемящей болью и чувством вины, ведь мой старый дом одновременно и подавлял, и защищал меня. Возвращаясь в него, я всегда заново испытывал это чувство, но теперь к нему примешивалась и боль из-за Антонии, чувство очень похожее, но более сильное, смутное и мучительное. Возможно, это и в самом деле была все та же боль, и тень от нее лежала на всей моей судьбе – на прошлом и будущем.
Мы не стали зажигать свет. Сидели у окна, не глядя друг на друга, и наблюдали, как тихо падает снег. От нас теперь был скрыт пейзаж за окном, которым в светлые дни любовался Александр. Занавеси отделяли пристройку от мастерской. В ней царила полная тьма. Летом здесь пахло деревом, из сада доносился аромат цветов и свежий, влажный, чистый запах глины. Однако сейчас я вдыхал только керосин от четырех больших обогревателей. Его знакомый запах заставил меня вспомнить плохо освещенные зимы моего детства.
– И что же?
– Да, собственно, вот и все.
– И Палмер больше ничего тебе не сказал?
– Я его ни о чем не спрашивал.
– И ты говоришь, что был с ним просто ангелом?
– Просто ангелом.
– Не стану утверждать, – заявил Александр, – что я бы набросился на него как дикий зверь. Но расспросил бы его. Хотел бы понять все до конца.
– Ну я-то понял, – сказал я. – Ты же знаешь, мы с ним очень близкие друзья, так что расспрашивать невозможно, да в этом и нет никакой необходимости.
– Как по-твоему, Антония счастлива?
– Так и порхает. Александр вздохнул:
– Могу признаться, Палмер мне никогда не нравился. Он какой-то не настоящий – прекрасная механическая копия человека, отлично придуманная, расцвеченная, но все же копия.
– Он – маг, – пояснил я, – и уже одно это вызывает неприязнь. Но он вполне живой человек из плоти и крови. Любовь нужна ему не меньше, чем прочим. Меня очень растрогало, как они с Ан тонией пытались удержать меня. Представь себе, удержать в подобной ситуации…
– Позвольте, сэр, выразить мое громкое «фи», позвольте мне защищаться! – подшутил Александр.
– Антония написала тебе? – Я повернулся и стал наблюдать за ним. Его большое, тяжелое лицо подсвечивалось желтоватым снегом.
– Да, – ответил он.
Интересно, мог бы я это предвидеть? Но нет, подобный шаг казался мне немыслимым. Я был просто ошеломлен ее письмом.
– Значит, письмо пришло после моего телефонного звонка? Вряд ли она написала бы тебе, не поговорив сначала со мной.
– Ну конечно нет, – подтвердил Александр. – Но я не принял твоих слов всерьез, когда ты позвонил. Она ведь ничего не сообщила в своем письме, никакой информации в нем не было. Кстати, скажи мне, где ты теперь намерен жить?
– Не знаю. Наверное, сниму квартиру. Роузмери хочет стать моей домоправительницей.
Александр засмеялся:
– А почему бы тебе не остаться здесь? Ты же сейчас не занимаешься своими делами?
– А что мне здесь делать?
– Ничего.
– Ну и ну.
– Почему бы и нет? – продолжал Александр. – Здесь самое идиллическое времяпрепровождение – просто земной рай. Мы это прекрасно понимали в детстве, пока жизнь нас не испортила. Если хочешь чем-то себя занять, я научу тебя лепить из глины или вырезать змей и ласок из корней деревьев. Вся беда в том, что люди в наше время не понимают, как это можно ничего не делать. Мне пришлось основательно потрудиться, обучая безделью Роузмери, и теперь она, в отличие от тебя, знает в этом толк.
– Ты – художник, – возразил я. – Для тебя ничего не делать и значит делать что-то. Нет, я вернусь к своим Валленштейну,[8]8
Альбрехт Валленштейн (1583–1634) – чешский дворянин, выдающийся организатор и полководец имперской армии Австро-Венгрии.
[Закрыть] Густаву Адольфу[9]9
Густав-Адольф (1611–1632) – шведский король.
[Закрыть] и книге «Что такое быть хорошим генералом». Недавно я весь погрузился в исследование о Тридцатилетней войне[10]10
Тридцатилетняя война (1611–1643) велась Швецией против Дании за господство на Балтийском море.
[Закрыть] и сравнивал этих двух командующих. Это была глава в большой книге о том, в чем секрет удачи военачальника.
– Хороших генералов вообще не существует, – сказал Александр.
– Ты начитался Толстого. Он полагал, что все генералы никуда не годятся, потому что русские генералы были никудышными. Как бы то ни было, я надеюсь серьезно поработать. Надо признать, что Антония умела заполнять собой время.
– Отлично, – проговорил Александр. Он снова вздохнул, и мы минуту помолчали.
– Познакомь меня с результатами твоей бездеятельности, – попросил я.
Александр поднялся и отдернул занавес. Он включил свет в мастерской, и вверху засверкало множество длинных, узких полос. От освещения начало казаться, что за окнами сейчас весенний полдень. Огромная комната некогда была котсуолдским сараем, и моя мать перестроила его, но сохранила высокую крышу и грубо отесанные деревянные стропила, сквозь которые струился теплый, мягкий воздух и в полосах света кружились пылинки. Длинный рабочий стол с исцарапанной поверхностью и аккуратные связки инструментов на дальней стене. Остальные вещи, хотя на первый взгляд и находились на своих местах, были разбросаны повсюду: глыбы необработанных камней; огромные корневища деревьев, сложенные как шалаш; деревянные обрубки разной величины, похожие на гигантские детские кубики; высокие статуи, укутанные тускло-серой тканью; коробка с резными бутылками из тыквы, столбик из черного дерева, выточенный или самой природой, или мастером, трудно сказать, чем или кем. На стене у окна стояли ряды глиняных кувшинов, а в дальнем конце мастерской виднелись гипсовые слепки, торсы, извивающиеся тела без голов и головы на грубых деревянных подставках. Пол, выложенный плиткой под голубые голландские изразцы, был, по прихоти Александра, покрыт высохшим тростником и соломой.
Александр пересек комнату и стал аккуратно снимать ткань, закрывавшую высокие скульптуры. Первым он открыл вращающийся пьедестал, на котором громоздилось что-то непонятное; полностью сняв покрывало, он зажег свет в центре мастерской и повернул единственную, находящуюся на его рабочем столе угловую лампу, направив ее прямо на пьедестал. На нем оказалась гипсовая голова, к работе над которой он только приступил. Глина еще не засохла, и куски проволочного каркаса проглядывали то тут, то там. Сходство с головой лишь начинало проявляться. Я всегда считал опасным момент, когда безликий образ вдруг приобретал черты какого-то человека. В глубине души невольно возникало чувство – вот так и рождаются чудовища.
– Кто это?
– Не знаю, – откликнулся Александр. – Это не портрет. Однако у меня странное ощущение, будто я искал того, кому принадлежит это лицо. Раньше я так никогда не работал, и, возможно, это ни к чему не приведет. Впрочем, ты помнишь, как несколько лет назад я сделал ряд совсем нереалистических голов.
– Твой плексигласовый период.
– Да, в то время. Но мне и прежде совершенно не хотелось лепить чьи-то мнимореалистические головы. – Он медленно передвинул лампу, и ее косые лучи обозначили темные линии в складках глины.
– А почему современные скульпторы вообще отказались от портретов? – спросил я.
– Не знаю, – сказал Александр. – Мы больше не верим в человеческую природу, как верили древние греки. Между схематическими символами и карикатурой ничего не осталось. А здесь я желал передать ощущение какого-то полного высвобождения. Ничего. Я продолжу свою игру с этой скульптурой, стану задавать ей вопросы и, быть может, получу какой-нибудь ответ.
– Завидую тебе, – признался я. – У тебя есть способ узнать что-то новое о реальном мире.
– У тебя тоже, – заметил Александр. – Твой способ называется моралью.
Я засмеялся:
– Я ею давно не пользуюсь, братец, так что она основательно заржавела. Покажи что-нибудь еще.
– Угадай, кто это? – Александр передвинул угловую лампу прямо кверху, и я увидел голову из бронзы, укрепленную на кронштейне над рабочим столом.
Я был поражен, даже не узнав ее как следует.
– Давно я ее не видел. Это была Антония.
Александр вылепил ее голову в самом начале нашей семейной жизни, однако сделанное его не удовлетворило, и он отказался отдать ее нам. Это была светло-золотая бронза, и он изобразил молодую, окрыленную Антонию, почти незнакомую мне, принадлежащую совсем другой эпохе. С лицом женщины, танцующей на столе, за которую пьют шампанское. Форма ее головы была великолепно схвачена, в огромной, ниспадающей на спину копне волос угадывалось что-то греческое. Я сразу узнал и ее крупные, жадные, полураскрытые губы. Но эта Антония выглядела моложе, веселее, непосредственнее моей жены. Возможно, она и была такой, да только я об этом забыл. В бронзовой голове напрочь отсутствовала пьянящая теплота сегодняшней Антонии. Я вздрогнул.
– Без тела я ее не воспринимаю, – произнес я. Покачивающаяся походка Антонии была существенной частью ее облика.
– Да, для некоторых тела важнее всего, – заметил Александр. Он играл над головой лучом, освещавшим щеку. – И все же головы более всего передают нашу сущность, это высшая точка нашего воплощения. И будь я Богом, не было бы для меня большей радости, чем создание голов.
– Сами по себе скульптурные головы мне не нравятся. По-моему, в них есть какое-то нечестное преимущество, и они говорят о незаконных и несовершенных отношениях.
– Незаконные и несовершенные отношения… – повторил вслед за мной Александр. – Да. Возможно, даже наваждение. Фрейд о Медузе. Голова способна передать и женские половые органы, тогда она пугает и не возбуждает желания.
– Мне и в голову не приходили такие изощренные мысли, – сказал я. – Всякий дикарь любит коллекционировать головы.
– А вот ты не разрешил включить твою в мою коллекцию, – упрекнул Александр. Я наотрез отказывался позировать ему, хотя он не раз просил меня об этом.
– Чтобы ты насадил мою голову на копье? Ни в коем случае!
Пока мы смеялись, он провел рукой у меня по затылку, чтобы почувствовать его форму под волосами. Для скульптора важнее всего форма черепа, а не его содержание.
Мы постояли еще немного, глядя на голову Антонии. Наконец я ощутил, что на сердце у меня стало тяжело.
– Не пора ли нам выпить? – предложил я. – Кстати, я отправил сюда ящик «Верж де Клери» и немного бренди.
– Да, мы получили их сегодня утром, – ответил Александр. – Но не портвейн! Любой кларет сделался бы портвейном, если б мог.
– Нет. Не сделается, если ему не позволят, – возразил я. Мы всегда спорили об этом под Рождество.
– Боюсь, что завтра сюда, как обычно, нагрянет целая толпа, – сказал Александр. – Мне не удалось все отменить. Роузмери говорит, они так об этом мечтают. Но вдруг нам повезет и снег заметет все дороги?..
Мы подошли к двери, открыли ее и, встав на пороге, посмотрели во двор. Задул холодный ветер, и от морозного воздуха зазнобило. Начало темнеть, но последние дневные лучи по-прежнему окрашивали золотистым блеском падающий снег. Перед двумя большими заснеженными акациями расстилалось белое полотно. Из-под густого зимнего покрова торчали темные ветви. Тут, рядом с нами, заканчивалась поляна, а за ней тянулась гряда холмов, скрытая теперь от наших взоров. За холмами притаились заброшенные железорудные поселки Сибфорд-Гоуэр и Сибфорд-Феррис. Снег тихо падал с безветренных небес, и через открытую дверь мы могли наблюдать за этим безмолвием природы. Мы были отрезаны от мира, словно в склепе. Затем перед нами мелькнуло темное пятно, совсем как на китайском рисунке, – черный дрозд важно шествовал к своему гнезду и вдруг остановился и спрятался под кустом, повернул голову в нашу сторону, а затем бесшумно проследовал назад, за сугроб. Мы увидели, как сверкнули его глаза в лучах заходящего солнца, и обратили внимание на его оранжевый клюв.
«Эй, черный дрозд, эй, черный хвост.
Оранжевый носок», —
пробормотал Александр.
– Уж слишком ты часто цитируешь, братец.
– Слишком?
– А помнишь, как там дальше?
– Нет.
Александр минуту помолчал, а затем спросил:
– Ты был верен Антонии?
Я не ожидал от него такого вопроса, однако сразу ответил:
– Да, конечно.
Александр вздохнул. Свет из гостиной вырвался наружу, и тьма озарилась золотистым конусом; снежинки, ставшие тускло-серыми и едва различимыми, на мгновение оказавшись в нем, снова ярко заблестели. Вечнозеленые ветви, которые Роузмери старательно переплетала каждое Рождество, как ее приучила мать, висели на окне. Они были украшены разноцветными шарами, апельсинами, длиннохвостыми игрушечными птичками и свечами, рядом с ними свисала омела. Я увидел, что моя сестра взобралась на стул и принялась зажигать свечи. Они вспыхнули и ярко загорелись, как старый, многозначный символ, трепеща на ветру, который всегда проникал в это время в высокие, плохо подогнанные викторианские окна.
– Почему «конечно»? – спросил Александр.
В этот момент до нас донеслись звуки фортепиано. Роузмери заиграла рождественскую песню: «Как во граде царя Давида». Я глубоко вздохнул и отошел от двери. Затем прошел в комнату и взял сигареты, которые оставил на окне. Александр, очевидно, не ждал ответа на свой вопрос. Он повернул угловую лампу и вновь осветил незаконченную голову. Мы молча рассматривали ее, а вдали слышались звуки фортепиано. Я знал, она напоминает мне о чем-то грустном и пугающем, и, вглядываясь теперь в это смазанное тенями лицо, понял вдруг, о чем именно. Когда умерла моя мать, Александр хотел сделать посмертную маску, но отец ему не позволил. И вдруг я живо вспомнил ее спальню, неподвижную фигуру на кровати, лицо, укрытое простыней.
Я вздрогнул и повернулся к двери. На улице совсем стемнело. Снег по-прежнему шел, видимый лишь из освещенных окон и словно погруженный в глубокую дремоту. Роузмери начала следующий куплет.





![Книга Опасные игры [Все ради тебя] автора Сьюзен Кросленд](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-opasnye-igry-vse-radi-tebya-144482.jpg)

