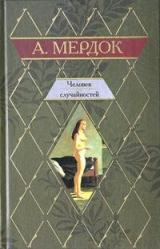
Текст книги "Человек случайностей (др. изд.)"
Автор книги: Айрис Мердок
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Человек из зеркала, думал он, в сотый раз напрасно стараясь согнуть пальцы правой руки. Если бы можно было себя переиначить и фантазии превратить в реальность, а реальность в фантазии. Но соль в том, что уже нет хороших фантазий, нет ничего святого, по-настоящему достойного стремлений; и в фантазиях остались лишь мигания чего-то ужасного по ту сторону экрана. Когда-то хорошим сном была Дорина. Казалось, что существует какое-то место, другое, где Дорина идет босиком с распущенными волосами, идет по росе. Там есть прохладные луговины, цветы и целительные источники. Там, где Дорина, – там счастье. Достигнет ли он когда-нибудь этой благословенной страны? О, эта райская жизнь в фантазиях, перед которой ничто не устоит.
Ни Гарс, ни Дорина не должны знать, что его уволили. Но кто-нибудь из служащих обязательно перескажет кому-то, знакомому с Тисборнами, и пойдет-поедет молва. Тисборны рано или поздно обо всем узнают. Вот уж, наверное, порадуются. Они всегда лезут со своей помощью. А как будут радоваться все его враги… Под врагами Остин, конечно, подразумевал лучших друзей. И до чего же это унизительно – все время бояться, чтобы Тисборны чего не подумали. Даже от этой зависимости он не в силах освободиться. Слава Богу, Гарс в Америке. Слава Богу, Мэтью тоже за границей, и останется там навсегда, и никакой весточки о себе не подает. Сочувствие Тисборнов – это мука. Сочувствие Мэтью означало бы смерть.
Возможно, это счастье, что Дорина по-прежнему в Вальморане. О моя маленькая плененная пташка, как больно думать о тебе и как сладко! С Дорины должно было начаться что-то новое, она своего рода пригласительный билет в мир, наполненный красотой. Ее невинность была так драгоценна для него, овладение ею он ставил себе в заслугу. Как он любил ее зависимость, даже ее робость перед жизнью была мила. Удастся ли ему когда-нибудь вновь зажить с ней в безгрешной повседневности? В этом заключалась единственная значительная цель его жизни. Но сейчас каждый их шаг только причинял боль обоим. Как же так получилось? И как получилось, что их заботы вышли на публику, так что любой может вмешаться и высказаться как Бог на душу положит? Почему им никак не удается скрывать свои горести от посторонних глаз? Мэвис забрала младшую сестру в свою страну снов, выдуманное королевство, освещенное искусственным солнцем. Но Дорина – настоящая принцесса. А вот Мэвис в самом деле – лишь вышколенная католичка из интеллектуальных кругов Блумсбери, которой не повезло в жизни. «Я найду новую работу, – думал он, – и заберу Дорину. А сейчас и в самом деле пусть побудет с Мэвис. Там она в безопасности, там они ее не достанут, там она в надежном укрытии, недоступная. А позднее я за ней приду. В этой дурацкой конторе я был чем-то вроде козла отпущения, и отсюда шли все мои неприятности. Так что, всю жизнь презирать себя из-за пухлого мальчишки в спортивном костюме?»
Жаль, потом выяснилось, что у Дорины нет ни пенни. Мир людей, обладающих состоянием, отличается от мира людей, состояния лишенных. Любопытно, что делает человек, когда у него уже ничего не осталось на банковском счете? Или когда его жизнь разбивается вдребезги? У него остались одни долги и никаких доходов. У кого можно занять? У Шарлотты? Сдам внаем квартиру, а сам перееду к Митци Рикардо, вдруг решил он. Прекрасно придумано. Таким образом можно будет что-нибудь заработать. Митци уже предлагала такой выход, когда он остался после смерти Бетти без средств, а Дорину еще не встретил. Митци в него влюблена. Он знал, что она страдает из-за его вторичной женитьбы и втихомолку радуется его неудачам. Митци была рослой блондинкой, широколицей, с зычным голосом, когда-то довольно известной спортсменкой, до того, как сломала щиколотку. Ему нравилась Митци, нравилось ее суровое согласие на простую, заурядную жизнь. Митци не оставляли подозрения, что Дорина считает ее «плебейкой», но самой Дорине такое определение, разумеется, и в голову не пришло бы. Митци окружит его лаской и заботой, именно это ему сейчас необходимо, ласки и заботы, и именно со стороны таких же, как он, неудачников. Митци не станет ни о чем спрашивать, ничего не будет ожидать. Вот и славно. Ей не придется ничего объяснять. Люди одинаково недолюбливают как отверженных, так и баловней судьбы.
Людвиг Леферье тоже принадлежал к числу тех немногих, кому Остин доверял. Казалось бы, этот американец, приятель Гарса, будет последним, с кем Остин мог бы общаться. Но вышло так, что именно с ним ему было легче всего. О Гарсе он мог говорить с Людвигом, не испытывая боли. Может, потому, что большой, медлительный американец не чувствовал, сколько скрыто горечи в общении отца с сыном? Восхищение Людвига Гарсом и трогало, и огорчало Остина. Людвиг считал его любящим отцом, гордящимся успехами сына, словно такое отношение было вполне достаточным. Несомненно, Остин был любящим отцом и гордился успехами сына. Однако в самом ли деле Гарс такой необыкновенный? Остин боялся его осуждения, но это уже иное дело. Тут и в самом деле было еще очень много неясного. Он испытывал благодарность к Людвигу еще и за то, что тот, ведя себя так деликатно и лояльно, как самый лучший друг, никак не был посвящен в его отношения с Дориной и при этом не притворялся, что понимает ситуацию Остина лучше, чем тот сам ее понимает.
«Куда я подевал фотографию Бетти?» – не мог вспомнить он, поднимая из лужицы пива свои очки в металлической оправе. Остин заботился о своей внешности, и поэтому ему было неприятно, что с какого-то времени пришлось обзавестись очками. Роясь в сумке, одолженной мисс Уотерхаус, он вспомнил, что порвал фото. Но зачем? Почему он всегда совершает поступки, совершенно лишние, которых и не собирался делать? Кафе закрывают, пора отправляться домой. Принять несколько таблеток аспирина и лечь в постель. Но после этого явится демон астмы и сдавит грудь железным обручем. Эта болезнь его не отпускает со времени происшествия с газом. Да и в любом случае послеполуденная дремота была адом, о чем он хорошо знал по тем страшным субботам и воскресеньям, когда все тело и разум наполняются тоской и страхом. Покой теперь приходит к нему только в глубоком сне, когда сознание отключается.
А что, если пойти в Национальную галерею? Может быть, Тициан, Рембрандт и Пьетро делла Франческо окажут на него то самое целительное влияние, как бывало раньше? Нет. Любая книга, даже самая замечательная, от слишком частого чтения теряет силу воздействия, и картины тоже, даже самые великие, перестают пленять. Долго удивляться можно только в молодости, когда есть силы снова испытывать восторг. И если ему казалось, что когда-то его жизнь была прекрасной, как произведение искусства, это означало, что он вспоминает детство, те безмятежные времена, когда лавина камней еще не потащила его за собой под нескончаемый смех пухлого мальчишки.
В десять лет он вынужден был научиться писать левой рукой, хотя противился этой науке всем своим существом. Он прошел в Зазеркалье и уже никогда не смог вернуться. Даже сейчас, когда уставал, писал буквы наоборот, и знакомое пронзительное чувство бессилия охватывало снова и снова. Родители-квакеры советовали, чтобы физическое бессилие он превратил в духовную силу, но он не мог и не торопился учиться. Внутренний свет рано в нем поблек. Самодовольная важность родителей была ему ненавистна. Но в отличие от Мэтью ему не удалось вырваться из их затхлой среды.
Это все было очень давно, даже бедная Бетти умерла уже так давно, и горе, которое он испытывал, превратилось в бледную тень, а пухлый мальчишка в спортивном костюме стал немолодым почтенным дипломатом. «Так вы брат сэра Мэтью?» – спрашивали люди с плохо скрытым удивлением. Пусть же этот Мэтью вечно держится подальше от него, и лучше всего, если закончит жизнь в каком-нибудь монастыре на Востоке, как когда-то мечтал, главное, чтобы о нем больше не было ни слуху ни духу. Остин уже, в сущности, сказал себе, что Мэтью умер, потому что лишь после этого душа его могла почувствовать покой.
* * *
– Грейс Леферье. Звучит неплохо. Да, очень хорошо.
– И ты совсем не жалеешь о Себастьяне Одморе?
– Я считаю, Грейс никогда не вышла бы за него.
– Мне кажется, из двух зол ты выбираешь…
– Нет, Пинки, ты ошибаешься. На мой взгляд, прекрасно звучит.
Джордж и Клер Тисборн пили кофе в своей крохотной гостиной. Джордж был государственным служащим, работал в Миллбанке и почти каждый день приходил на ленч домой. Дождь прекратился, и легкий парок поднимался от высыхающего асфальта. Возле забившейся водосточной трубы успела образоваться обширная лужа.
– И все это произошло сегодня утром?
– Да, Грейс сказала, примерно в одиннадцать.
– Вот так спокойно сообщила?
– Притворилась спокойной. А на самом деле вся дрожала. И я тоже. Давай выпьем коньяку.
– Грейс обручена! – произнес Джордж Тисборн. – Это, несомненно, знаменательный момент. – Он принес бутылку бренди. – А она не передумает?
– Она влюблена в него. До безумия.
– С ней это часто случается. Лучше бы повременить с оглашением.
– Я бы хотела, чтобы она вышла за англичанина, но и за американца тоже неплохо, к тому же он такой милый. Должна тебе сказать, что американцы не бывают просто симпатичными, они всегда очень-очень симпатичны.
– Он собирается остаться здесь навсегда?
– Да. Ему не нравится его родина. Да он и родился в Англии.
– Это хорошо. Кажется, он парень неглупый. Жаль, что Грейс не удосужилась получить высшее образование.
– Грейс знает, как ей поступать. Она не пропадет.
– Да она всегда была самостоятельной, даже в детстве не очень полагалась на нас.
И оба родителя в тишине задумались об этой тайне характера дочки, вызывающей уважение.
– А еще он красив, – заметила Клер. – Приятная открытая улыбка, прекрасные ровные зубы. Даже эта ранняя седина его не портит. Разве что говорит слишком медленно, иногда теряешь нить разговора.
– А из какой он семьи? Чем занимается его отец?
– Я, разумеется, тут же спросила у Грейс. Она не знает.
– Кажется, они небогаты.
– Кажется. Но неловко было выпытывать у Грейс сейчас, когда она в таком восторженном состоянии.
– Хм-м. А если вскользь… как ты думаешь?
– Не стоит. И мне кажется, чем скорее мы уедем на уик-энд к Одморам, тем лучше.
– Клер!
– О, Пинки, надеюсь, все будет хорошо, неудачного замужества Грейс я не переживу. Сложится ли у них все так же удачно, как у нас? Как все мучительно сложно. Мне с тобой никогда не надоест разговаривать, пусть пройдет и сто лет.
– Не беда, если они и не будут много разговаривать. Рецептов семейного счастья столько…
– По-моему, устроить надо в Аббатстве святой Марии или как оно называется, как ты считаешь?
– Ты имеешь в виду венчание? А почему не в святого Георгия, на Ганноверской площади?
– Потому что к нам ближе Баркерс, а не Гарродс, и потому, что там наш приход.
– А пастор не станет возражать? Мы там так редко появляемся. Я не был с крестин Патрика.
– Я знаю пастора, он член бридж-клуба Пенни Сейс.
– А ты уже сказала Элисон?
– Бедная мама, сейчас я ей уже не звоню, это слишком больно. Говорила с Лотти, она ей передаст.
– Ну и как Шарлотта отнеслась?
– Сухо. Удивилась, что Грейс так спешит. Бедная старая Лотти, вечно она недовольна, вечно пытается съязвить.
– Старается нам немножко досадить, это вполне естественно. Она нас любит и в то же время чувствует обиду. Отношение старшей сестры к младшей всегда бывает несколько двусмысленным, особенно когда младшая удачно вышла замуж, а старшая не вышла вообще.
– И еще добавь, не забудь, – вышла за человека, в которого старшая была влюблена.
– Если и была влюблена, то оставила все это в далеком прошлом.
– Я бы не судила слишком поспешно. Шарлотта – это шкатулка с секретом. И я не знаю, что она задумала.
– Тут нет никаких тайн, Клер.
– Голова на то и дана, чтобы задумывать нечто. Вот, например, ты, Пинки, о чем ты думаешь? Мы беспрерывно с тобой беседуем, как бы ничего не скрывая, но твое «я» для меня по-прежнему – абсолютная загадка.
Они посмотрели друг на друга. Джордж не имел никаких душевных тайн от жены. Но была одна вещь, о которой он ей никогда не говорил. Он когда-то изучал математику и хотел стать математиком. Но перед лицом чистой науки, этих ледяных утесов интеллекта, он оробел, после чего поспешно вошел в мир, в котором жить можно было в тепле, достатке и без особых тягот. Человек умный и одаренный, он вынужден был выполнять несложные задания. И поэтому не раз чувствовал, что его интеллектуальные способности не используются должным образом и судьба отняла у него надежду на славу. Жене об этом не говорил, не говорил и о том, что вечно будет себя презирать за это бегство. Однако сейчас это малодушие перестало быть таким важным, потому что к старости, когда конец жизни уже близок, многое теряет прежнее значение, даже самолюбие.
– Ты читаешь мои мысли так, будто они появляются на экране над моей головой, – сказал Джордж, отпив глоточек бренди.
– Бедная Лотти. Наверняка не раз пожалела, что решилась взять на себя заботу о маме. Скорее всего и не предполагала, что на это у нее уйдет вся жизнь.
– Это все началось так давно.
– Я помню, ты вначале думал, что мама malade imaginaire. [1]1
Мнимый больной (фр.).
[Закрыть]
– С мнительности началось. И наверное, она очень удивилась, когда оказалось, что она и в самом деле больна.
– Но Лотти впряглась гораздо раньше. Интересно, жалеет ли человек, что уступил чувству долга?
– Иногда мне кажется, что она именно об этом и сожалеет. Попала в ловушку. А уж потом вышло на сцену чувство долга как оправдание.
– Да, да. Некоторые люди просто опаздывают на поезд. Бедняжка ничего не получила от жизни.
– Ошибаешься. У нее есть своя особая роль. Роль, которую некоторые одинокие играют в семьях своих друзей. Семейные люди нуждаются в одиноких. Те для них своего рода душпастыри.
– Хочешь сказать, что на общество Лотти можно рассчитывать всегда? Ошибаешься, знаешь ли. Она ненавидит свою судьбу. Она вовсе не добрый пастырь.
– И не обязательно. Речь идет скорее о чем-то символическом. О том, что ее всегда можно найти в доме: приходишь, а она там тебе навстречу выходит.
– Как домашний кот?
– Именно так. А как мама?
– Все хуже. Но угасание может длиться годами. Помнишь тот ужасный приступ, который она перенесла когда-то и все же поправилась? Все равно, ремонт и так не успеем сделать.
– Полагаешь, в будущем году в это время будем уже жить в Вилле? – «Виллой» назывался дом матери в Челси.
– Не знаю. Ты не против, чтобы Лотти продолжала там жить? Мама ясно сказала, что оставляет дом нам всем. В нижнем этаже можно было бы устроить прекрасную квартиру для Лотти.
– Если мы туда переедем, она тут же выберется.
– О Господи! Ладно, не будем заранее расстраиваться. Скажу тебе, что Вилла – великолепный дом. Как замечательно будет иметь больше места после этой обувной коробки. И больше денег. По-твоему, я похожа на бессердечную материалистку?
– Не ты ли говорила, что в хозяйстве предпочитаешь экономию? И не ты ли говорила, что презираешь богатство?
– Старею, Пинки. Меняю взгляды.
Элисон Ледгард, мать Клер, вышла замуж за неудачливого адвоката, мечтавшего быть поэтом, но так ничего и не написавшего. Сама Элисон, дочь торговца льном из Ольстера, была невестой с изрядным приданым.
– Тебе надо почаще навещать Элисон.
– Да, знаю. Но мне так больно видеть, как она исчахла, а последние несколько дней она уже и говорить не может. При всем при том ее энергия не исчезла, она в ней, но только глубоко внутри, в глазах, они просто пылают, это ужасно. И будто слышишь, как она говорит: «Я погубила свою жизнь только из-за того, что родилась женщиной». Она должна была скакать впереди отряда по степи.
– Она видела Людвига?
– Нет. Мне кажется, ей уже все равно. Как только заболела, перестала волноваться о детях. А им молодость застит глаза.
– Ах, этот ужасающий эгоизм молодых, так ранящий стариков. Но Патрик ведет себя достойно.
– Да, Патрик умеет вести себя спокойно и достойно. Подозреваю, что это влияние Ральфа Одмора.
– А Чарльз говорит, что, наоборот, Ральф из денди превратился в хиппи.
– Неужели? Но Ральф и с длинными волосами будет выглядеть элегантно.
– И все же Грейс и Людвиг должны навестить бабушку. Грейс у нее сто лет не была.
– Я знаю. Я ей прочла нотацию, по крайней мере что-то в этом роде. Она ответила просто: «Маменька, успокойся». Мне не нравится, когда она называет меня «маменька», это она специально.
– Помню, как Грейс жаловалась, что эта ужасная энергия Элисон ее изматывает.
– Я ее понимаю. Да, несомненно, они должны пойти вдвоем. Свадьба в сентябре, как ты на это смотришь? Хотелось бы знать, будем ли мы к тому времени жить в Вилле. Мне претит, что Людвиг снимает комнату у этой кошмарной амазонки, хлещущей джин.
– Ты имеешь в виду эту, как ее, Митци Рикардо?
– Остин говорит, что ей следовало заняться боксом. Драться в тяжелом весе. Я не удивлюсь, если он как-нибудь получит от нее прямым слева. И по заслугам.
– А мне ее жалко.
– А мне вот все меньше хочется жалеть людей, Пинки, это бесполезное занятие. Так и потянется – бедняжка Шарлотта, бедняжка Митци, бедненький Пенни, несчастненький Остин, горемычная Дорина…
– Кстати, Клер, я забыл тебе рассказать новость. Остин ушел со службы.
– Выгнали?
– Ну да.
– Il пе manquait que çа. [2]2
Только этого не хватало! (фр.)
[Закрыть]Это должно было случиться. Как когда-то в армии – не успел поступить, как тут же отравился каким-то газом. А чем он занимался?
– Сидел в конторе.
– Остин, конечно, не гений, но ему нужно помочь, и как можно скорее. Ты можешь для него подыскать место. И это надо сделать срочно, прежде чем Гарс вернется. Ведь такое унижение.
– Неужели Гарс может осудить отца?
– Еще как. Не выношу, когда дети осуждают родителей. Слава Богу, наши не такие.
– Откуда ты знаешь?
– Ну по крайней мере они не высказываются. А Гарс с детства был несносным.
– Остину не так-то легко помочь, он ведь такой самолюбивый.
– Пригласим его к нам.
– Не придет.
– Он в этом смысле не лучше Лотти. Что же Дорина сделает, когда узнает о том, что его уволили?
– Думаю, Остин ей не скажет. И мы, дорогая, лучше промолчим.
– Ты по-прежнему считаешь, что мы должны держаться подальше от происходящего в Вальморане? Признаюсь, что умираю от любопытства. Остину, конечно, поделом, за то, что породнился с этой псевдоартистической католической семейкой. Какое-то чужеземное племя. Представляешь, что там творится?
– Нет. Я считаю, что мы представить не можем и лучше держаться подальше. Мэвис не хочет, чтобы мы вмешивались. Да и Остин вряд ли примет наши советы.
– Да, я помню, как он на тебя накинулся, когда ты хотел ему что-то посоветовать. Ты побелел как стена.
– Потому что он вдруг превратился в дикого зверя.
– В нашем Остине есть что-то от Джекила и Хайда. Я думаю, Дорина его боится. И знаешь, мне кажется, что Остин, еще в самом начале, вообразил, что у нее есть средства. Такого типа женщины обычно имеют деньги, вот только ей не посчастливилось. Конечно, брак с ней – это ступень вверх по сравнению с Бетти, но она так же бедна. Остину снова не повезло. Я не слишком цинична?
– Любой мужчина с радостью женился бы на Дорине. Она очаровательна.
– Я ревную. Несомненно, она очаровательна. Небесное очарование. Но что за странный брак! Остин всех отгоняет от Дорины и при этом сам к ней не приближается.
– Вот именно. И ты тоже не приближайся. Пусть сами в своих делах разбираются.
– Не выношу Вальморана. Тебе известно, что там пусто?
– Пусто?
– Мэвис прогнала всех этих невыносимых девиц и занялась ремонтом.
– Неужели наконец закрыла свой приют? Как она вообще могла все это терпеть?
– Кто ее знает. Там какие-то перемены. Остались она и Дорина, сидят в этом огромном доме, как две святые на средневековом витраже. У Мэвис все должно быть как на картинке, ты же знаешь. И у нее такое странное отношение к Дорине, наполовину как к добыче, наполовину как к святыне. А все вместе похоже на чушь несусветную.
– А я не вижу тут противоречия.
– Может быть, Остин женился на Дорине потому, что Мэтью не удалось жениться на Мэвис?
– Любовь Мэтью к Мэвис – это плод твоей фантазии, моя дорогая, так же как роман Мэтью и Бетти.
– Кстати, Эстер Одмор звонила сегодня утром. Все еще сидит с Молли в Миллхаузе. Бедняжка Пенни с ними. Хотят перенести нашу встречу. Подозреваю, что они получили более интересное приглашение. Эстер сказала, что Чарльз встретил Мэтью на конференции в Токио.
– Известия о Мэтью – такая редкость. Как он?
– Чарльз говорит, выглядит неплохо, только располнел и утратил задор.
– Да у него и не было никогда задора.
– Нечто в духе героев Генри Джеймса. Но сильно постарел. Зато Остин как бы молодеет, несмотря на свои неудачи.
– Джеффри Арбатнот утверждает, что Мэтью заработал кучу денег на сделках в Гонконге.
– Наш старина Мэтью. Социализм и мистика у него идут рядом с капитализмом.
– Он еще не на пенсии, ведь так? Наверное, осядет там, на Востоке. Мне жаль, что мы потеряли Мэтью.
– И мне тоже, Пинки. Когда Мэтью рядом, всегда что-то происходит. И рядом с Остином тоже.
– Рядом с Остином?
– Да, в каком-то смысле. Ты считаешь, Мэтью никогда не вернется сюда?
– Думаю, нет. Он обрел там такую власть. Здесь станет просто пожилым дипломатом, пишущим мемуары. А там, на Востоке, он сможет и дальше окутывать свою жизнь тайной. Мэтью нуждается в тайнах.
– И в слугах. Мэтью обожает комфорт. Он в чем-то гедонист.
– Чуть-чуть.
– Ты завидуешь, Пинки. Может быть, даже ревнуешь. Помнишь, как Грейс в детстве обожала Мэтью?
– Ты сказала Эстер о Людвиге и Грейс?
– Нет. Тогда я еще не знала. М-да, м-да. Знаешь, мне немножечко жаль Себастьяна. Он был бы чудесным зятем.
* * *
Митци Рикардо отложила журнал и подняла трубку.
– Фотографическая студия Сиком-Хьюза, добрый день.
– Митци, это я, Остин.
– Остин! Как замечательно! Давно тебя не видела. – Митци залилась румянцем. У нее была очень бледная кожа, податливая на румянец и веснушки.
– Можно к тебе зайти?
– Прямо сейчас?
– Сейчас. А что, Сиком у себя?
– Его нет. Он сейчас у… он пошел по какому-то делу. – Она не хотела проболтаться, что хозяин у букмекера. Дела фотостудии шли неважно.
Студия Сиком-Хьюза помещалась в Хаммерсмит, с улицы туда вели пропитанные сыростью ступени; позади здания находился окруженный высоким забором сад, поросший крапивой, щавелем, побегами бузины. Желтовато-зеленый мох покрывал стены, споры его попадали и внутрь, так что вокруг оконных рам и вдоль карнизов тоже появились тонкие полоски зелени. Поскольку помещение студии не предназначалось для жилья, тут не было ни кухни, ни ванной, а уборная во дворе давно уже была заколочена. Но из-за того, что дела шли неважно, Сиком-Хьюз переселился на житье в студию и в то же время пытался скрыть это переселение от Митци, прикрывая по утрам постель газетами и притворяясь, что только что пришел. Садик он долгое время использовал как туалет, отчего в воздухе стоял запах мочи, даже летний дождь не мог своей неземной свежестью эту вонь победить.
Господин О. Сиком-Хьюз – то есть Оуэн, как безуспешно, да и без должного оптимизма он просил Митци называть себя, – был валлийцем, страдающим ностальгией. Возраст его определить было затруднительно. Согбенный, как друид, он мечтал отрастить бороду, только она у него не росла, а однажды получил небольшую премию на местном конкурсе пения и декламации валлийской поэзии. Поначалу он неплохо преуспевал на ниве фотографии. Отыскиваемые и запечатлеваемые им молодые версии лиц знаменитостей пользовались популярностью. Но склонность к спиртному, игра на бегах, своеобразная валлийская невезучесть, а также, ходили слухи, неумеренное увлечение женским полом – все это в конце концов привело Сикома к краху. Некоторую часть клиентуры ему пока удалось сохранять. Но то, что дела идут вкривь и вкось, уже перестало быть секретом. Если кто-нибудь звонил, Митци приходилось разыскивать хозяина если не в конторе букмекера, то в питейном заведении.
Машинку Митци освоила уже в зрелые годы. Стенографии так и не смогла выучить, да и на машинке печатала неважно, с ошибками. Она и Сиком были, по сути, созданы друг для друга. Платил он ей скромно за скромные услуги и, как она догадывалась, симпатизировал ей, потому что она тоже была из числа неудачников и поэтому ей было не с руки его осуждать. Ее заурядность действовала на него успокаивающе. Позднее с некоторым беспокойством она стала замечать в себе что-то похожее на увлечение. Сиком-Хьюз в молодости наверняка был недурен собой. В его серых глазах до сих пор сохранился блеск. А вот лицо обрюзгло, покрылось сеточкой красноватых прожилок, и длинные неопрятные волосы были тусклыми и жирными, словно постоянно мокрыми. Он имел привычку отбрасывать кудри назад и глядеть задумчиво; но должно было пройти какое-то время, прежде чем Митци поняла, что этот полный печали взгляд всегда прикован к ней.
Физически он ее не привлекал и в то же время чем-то вроде и нравился, в общем, она тоже, кажется, была к нему неравнодушна. Ситуация со временем могла запутаться окончательно, если бы провидение не устроило так, что Сиком-Хьюз стал должником Митци. Однажды он, то и дело отбрасывая волосы назад, объяснил ей, что полного жалованья платить не в состоянии, и робко спросил, не согласится ли она на половину и вексель. С тех пор у нее скопилось уже несколько векселей. Придет время, загадочно намекал Сиком, когда дела начнут поправляться, и вот тогда она получит свои деньги все до последнего пенни. Каким образом придет это время, разве что его принесет быстроногая лошадь, этого Митци не знала и поэтому каждый день собиралась уйти, но, жалея его, да и сомневаясь, что отыщет где-нибудь место получше, оставалась; к тому же она считала, что, оставшись, сможет получить хоть какие-то деньги, а если уйдет, уж наверняка своих денег не увидит. Тем временем Сиком вспомнил, что валлийская честь запрещает мужчине ухаживать за женщиной, которой он должен, и, таким образом, тоскливые взгляды прекратились.
Еще во времена своей спортивной славы Митци отложила немного денег, а кроме того, на малолюдной улице Брук Грин в Хаммерсмит у нее был домик, комнаты в котором она обычно сдавала одному или нескольким жильцам. Митци Рикардо было тридцать пять лет. Прошло десять лет со дня ужасного происшествия, превратившего звезду спорта в развалину, на которую способен был польститься разве что Сиком-Хьюз. Ее родителям, ныне покойным, в свое время не повезло с торговлей одеждой. Они были крещеными евреями, и Бог им подарил всего одно дитя, крохотного, жизнерадостного эльфа, после крещения получившего имя Маргарет. Митци. Это отец так называл ее. Девочка словно летала на крыльях. Проницательный школьный учитель согласился лично оплачивать ребенку уроки балета. Она получила право на стипендию. Начала с малого, а потом, в четырнадцать лет, у нее, гибкой, как Протей, стройной, как этрусская Афродита, пошли настоящие успехи. Она была феноменом. Зачем бросила балет и ушла в спорт – позднее она не раз задавала себе этот вопрос. Но именно этот путь, суливший миллион иных возможностей, привел ее к тому чудовищному мигу на корте, когда, взлетев над сеткой, она зацепилась, упала и в итоге совершенно невозможных осложнений раздробила косточку навсегда. У нее были плохие советчики. Она была слишком рослая. На каждом шагу подстерегали соблазны. Хотела играть на Уимблдоне. Была недостаточно дисциплинированна, чтобы посвятить себя суровой жизни в балете. Ей нужны были деньги. Она хотела развлекаться.
И ее самолюбие было удовлетворено. Несколько раз она играла на Уимблдоне. Мячики, как пули, летели в нее, а она отбивала их легко и с нечеловеческой силой. Выступала и в пятиборье на Олимпиаде. Мастерски ездила на лыжах, почти на профессиональном уровне. Постоянно писала в спортивные газеты, по крайней мере ставила подпись под тем, что написали другие. Пила шампанское в самолетах. Под южным солнцем волосы выгорали и на лице появлялись веснушки. Отвергала заманчивые брачные предложения. Рост сто восемьдесят пять не мешал нисколько. И вдруг удар молнии – и все кончилось.
Раз за разом теряя, обретая и снова теряя надежду, после многократных консультаций, операций, курсов лечения, усилий знахарей, молитв и заклинаний, прихрамывая пошла дальше, в одиночестве. Одна из спортивных газет предложила ей работу в редакции, но она отказалась. Знала, что при виде главного уимблдонского корта расплачется. Почему она должна до конца дней страдать от последствий всего лишь одного мгновения? Нелепая секунда – и жизнь превратилась в ничто, и надо жить так, словно и не было этой секунды. Если Митци и злилась на свою судьбу, то недолго. Радовалась, что ее так быстро забыли. Чего она хотела меньше всего, так это сочувствия. Чтобы не умереть от горя, вынуждена была стать другим человеком. Поступила на курсы секретарей. Пробовала обратиться к религии. Пыталась воспитать в себе смирение. Всеми заброшенная, безропотно обживала кутерьму своих чувств. Человеком, который ей тогда помог больше других – хотя из-за собственных забот этого даже не заметил, – стал Остин.
Впервые она встретила его, когда он сразу же после смерти Бетти (Гарс еще был школьником) снимал комнатушки в том же доме-гостинке, что и она, в Холланд-Парк. Это было до того, как она решила вложить свой капитал в покупку дома. Остин тогда как раз продал свой и искал подходящее жилье. Он находился в самой черной меланхолии. И его депрессия подбодрила ее: часто бывает, что горе ближнего улучшает наше собственное самочувствие. С ней рядом оказался кто-то, кажется, еще более несчастный, чем она. И эта его больная рука, что тоже ее тронуло. Он обещал рассказать, что с ним произошло, но так и не рассказал. Они часто встречались в кафе. Она только начинала привыкать к алкоголю, в котором он уже какое-то время топил свое горе. Однако в гости друг к другу заходили очень редко. Ему в его скорби в общем-то никто не был нужен. И еще потому, что как раз в это время у Митци наступил катастрофический разлад с собственным телом. Когда-то она представляла с ним одно торжествующее целое. Но теперь тело перестало быть летучим, как пламя, невесомым воплощением души, превратилось в неуклюжий обрубок, тяжелый, неповоротливый, не слушающийся ее приказов, обреченный при этом переваливаться, иногда терпя боль, с места на место. Вместе с инвалидностью и превращением в ничто ушла и молодость. Алкоголь и нехватка движения довершили дело. Она начала расплываться. Именно поэтому, находя Остина привлекательным, она и не рассчитывала на сближение.
Он проявил к ней интерес, а может, просто отдал дань вежливости, но Митци восприняла это как нечто необычайное. И Остин помог ей не только тем, что показал – кто-то может быть куда несчастней ее. Сам того не замечая, он учил ее. Рассказывал ей о книгах, картинах, музыке. До нее дошла, хотя и не вполне четко, главная мысль – в искусстве можно найти утешение. Раньше она читала только журналы, а теперь увлеклась книгами. Но не столько даже книжками помог ей Остин, сколько – причем совершенно не осознавая этого – следующим открытием: можно жить исключительно из любви к самому себе. Остин, которому нечем было похвастаться, ничуть не сомневался в важности собственной персоны. Именно потому, что он – это он, мир обязан ему всем, и пусть даже мир платил ему очень скудно, все равно Остин считал себя по отношению к миру суровым кредитором. Отверженность не сломила Остина. Само сознание «Я – Остин» вело его вперед.








