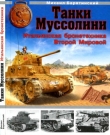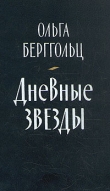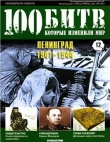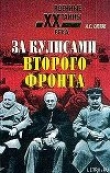Текст книги "Русская жизнь. Секс (июнь 2008)"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 14 страниц)
* МЕЩАНСТВО *
Людмила Сырникова
Возраст победителей
Реклама как афродизиак
В 90-е годы российское телевидение крутило веселый рекламный ролик. И не просто веселый, остроумный даже. Мультяшный такой, анимированный. Сюжет ролика был прост: на диване сидит, уставившись в телевизор, семья. Папа в очках, мама в кофточке, дети с рыжими волосами. Бабушка, седовласая статная дама в треугольном хозяйственном халате, пылесосит ковер. В момент острой производственной необходимости бабушка легким движением приподнимает диван вместе со всем семейством, пылесосит под диваном, после чего опускает диван и исчезает вместе с пылесосом в углу кадра. Слоган: «Человек, который принимает „Юникап“, всегда отличается от других».
От других в первую очередь отличался рекламный ролик. Если отвлечься от эстетических оценок, то можно заметить, что он был, как бы сейчас сказали, политкорректным. 90-е годы в России были годами страшного социального и возрастного противостояния, тогда в моду вошло слово «эйджизм» – поначалу с положительными коннотациями.
Иначе и не могло быть в стране, которая вдруг, отказавшись от советского инфантилизма, стала обнаруживать юношескую пылкость и детскую непосредственность. Хакамада сказала, что капитализм в России не построить до тех пор, покуда не умрут все пенсионеры, и молодежь рукоплескала Хакамаде. Пенсионеры мешали. Злобные, крикливые бабки из очереди, вечно требовавшие свое и отнимавшие чужое, смотревшие пустыми выцветшими глазами с лавочки у подъезда, жаждавшие порядка и марширующие в составе анпиловских колонн, вызывали не просто отвращение – ненависть. Она была не классовой – физиологической. «Мы никогда такими не будем», – думало молодое поколение задолго до появления соответствующей статьи Дмитрия Губина. Какими они будут или какими они должны стать, они знали хорошо: телевизор показывал рекламу мыла, крема для бритья, прокладок, шампуня – и все это была нескончаемая прелюдия. Художественная условность отбрасывалась, МММ принималась за чистую монету, а волосы, вымытые рекламируемым шампунем были неотменяемой реальностью. Во всяком случае, реальностью никак не меньшей, чем железнозубые старухи в ситцевых грязных платьях и стоптанных уродливых туфлях, которые долго строили светлое будущее, да не успели достроить, им осталось до счастливого финала всего ничего – помереть.
И тут – в пику хакамадиной максиме – талантливая реклама. Семейные ценности вместо личностных, молодая духом и телом бабушка, оплывшие родители, дебилоподобные жвачные дети. Реклама не шампуня и не прокладок, реклама не «выглядеть», но «быть». Застывшему гламурному великолепию противопоставлялось активное действие. Старушенция побила молодуху на ее же поле, да как побила. Взяла и легко приподняла диван. А потом опустила. Ой, опустила…
Впрочем, никто не испугался и в бегство не обратился. Пленительная нежность продолжала палить изо всех орудий, настаивая на том, что именно она – полновластная хозяйка «Дома» и «Дома-2». Впрочем, никто и не возражал. Возражать было некому. На один-единственный рекламный ролик препарата «Юникап» приходились такие полчища «нового сильного вкуса» и «струящейся красоты», что сравнивать дискурсы всерьез не имело никакого смысла. Постсоветские мускулы еще не вполне окрепли, а советская инфантильность еще не сменилась буржуазной, с ее социальным пакетом для тридцатилетних оболтусов, не желающих плодиться, размножаться и даже покорять друг друга пленительной свежестью, а желающих лишь сделать карьеру как можно более головокружительную, чтобы получить пенсию как можно более достойную. Российские граждане еще только привыкали к словосочетанию «средний возраст», не вполне осознавая его социально-физиологический смысл.
Понимание пришло позже. Когда в рекламе со всей откровенностью возник секс, а не намек на него. Не струящаяся нежность, распахнутые ресницы, пьянящий взгляд и тот самый импульс, на который реагирует мужчина. А «Виагра» для тех, кому за сорок, чтоб стояло, как у тех, кому нет двадцати. И крем от морщин для таких же, только противоположного пола. Решение мужских проблем и женских сложностей вдруг оказалось на удивление простым. А главное, те, кто был между двадцатилетними, заполонившими весь эфир, и семидесятилетними, существовавшими лишь в формате анимационной шутки и новостного репортажа, вдруг обрели свое место в медиапространстве. Доселе у них этого места не было, а значит, их самих тоже не существовало. А теперь появились.
Что, в общем-то, можно только приветствовать, ибо именно они – от 35 до 55 – и являются главными потребителями в любом цивилизованном обществе, главной ЦА, основной target-group. Их уже не душит прогрессивный налог (зарплата достаточно высока), их дети уже почти стоят на ногах, им уже не надо скакать по служебной лестнице и каждую минуту помнить о том, что презерватив – единственная защита от СПИДа. У них – именно у них, как ни смешно и горько это звучит, – все хорошо. А потребитель – это тот, у кого все хорошо, а вовсе не тот, у кого все плохо. Не тот, у кого много желаний в двадцать, и не тот, у кого мало возможностей в семьдесят.
Европейская (она же американская) цивилизация поняла это первой, как ей и приличествовало. Не в силах отменить эйджизм, она отменила возраст. И сделала это средствами, наиболее доступными. Никакого секрета в этом не было – требовалось, как воды в растворимый кофе, всего лишь добавить секса в рекламу. И он был добавлен. Вот седовласый, но упругий и загорелый господин едет в хорошем автомобиле на свидание. Вот свежая, но солидная дама делает в парикмахерской сложную прическу из пышных все еще волос. Вот они встречаются и сливаются в долгом поцелуе, чтобы в следующем же кадре проснуться утром на белоснежных простынях и с нежностью взглянуть друг на друга. Таков, в общих чертах, сюжет рекламы, с которой делается жизнь. Делается и вполне удается.
Как– то в глубоком отрочестве ехала я в троллейбусе. На одной из остановок вошла бабушка, с клюкой, ссохшаяся, полуживая. Вошла и стоит. Приученная всегда уступать место, я вскочила: садитесь, мол, бабушка. Кроме воспитания, был еще, конечно, страх, результат недолгого жизненного опыта: клюкой сейчас ткнет, крикнет, что совсем распустились-распоясались, в раньшие-то времена порядок был, а сейчас… Стою, жду, сядет ли. А бабушка эта улыбается совсем не по-коммунистически, не по-большевистски, и говорит шамкающим ртом: ничего, мол, деточка, сиди, я постою. Как же можно, бабушка, как же можно, как же? А вот так, деточка, у тебя вся жизнь впереди, тебе уставать нельзя.
Мария Бахарева
Когда негде
Парки, скамейки и гостиницы «на час»
Однажды я решила опросить знакомых, где им доводилось заниматься сексом, помимо собственной постели. Ответы поражали воображение: туалеты клубов, ресторанов и самолетов, подъезды, парки, пляжные кабинки для переодевания, детские площадки, рабочие кабинеты и даже кладбище. На второй вопрос: «А зачем вас туда понесло?» – респонденты отвечали с куда меньшим разнообразием. Собственно говоря, вариантов ответа было всего два: «Из любопытства» и «Больше негде было».
Квартирный вопрос, может, и не испортил бы ни москвичей, ни жителей других городов нашей бескрайней родины, если бы не был тесно связан с вопросом половым. Одна из моих старших подруг как-то рассказывала об обстоятельствах, при которых она потеряла девственность. Она праздновала день рождения. К ней в крошечную двухкомнатную «хрущевку» пришли друзья, и после вечеринки несколько человек (в том числе и ее тогдашний ухажер) остались ночевать. Мама ушла в комнату дочки, а молодежи постелили на полу в гостиной – мальчикам справа, девочкам слева. Два часа она лежала с открытыми глазами и смотрела в потолок, а потом тихонечко-тихонечко подкралась к своему избраннику и увидела, что он тоже не спит. «Я до сих пор помню свои ощущения: мне одновременно очень хотелось и было ужасно страшно, – говорила она. – Вокруг нас были друзья, кто-то из них мог не спать, за стеной была мама, которая могла что-то услышать. Но мы понимали: шанс остаться даже так условно наедине может представиться не скоро». Впрочем, через три года подруга вышла замуж и поселилась в почти такой же двухкомнатной квартире вместе с родителями супруга, так что чувство стыда и страха в итоге притупилось. «Все так живут».
Я появилась на свет почти через десять лет после описанной истории. Пубертатный период моего поколения пришелся на тектонические сдвиги начала девяностых, но в массе своей мои сверстники точно так же были озабочены поисками «места», как и те, кто родился задолго до нас. Впрочем, нам было чуточку легче – спасибо за это Коммунистической партии Советского Союза, наделившей граждан СССР шестисоточными дачными участками. По весне родители каждые выходные уезжали пропалывать грядки, а мы оставались дома под предлогом подготовки к экзаменам и наслаждались свободой. Летом диспозиция менялась – дети безвыездно жили на даче, часто с друзьями, и на каждые два дня под родительским крылом приходилось пять дней вседозволенности. Дачи даже вошли в подростковый эротический фольклор – до сих пор помню в чьем-то девичьем альбоме потрясающий по наивности рассказ, в котором после развеселой дачной вечеринки влюбленная парочка совершенно случайно оказалась в тихой мансарде, и -«„Леша, не надо, прошу тебя, не надо!“ – но было уже поздно. И потянулись долгие минуты счастья».
Еще у нас были общежития. Сексуальная жизнь многих моих одноклассниц началась через дорогу от школы, в общежитии для иностранных студентов – там жили учившиеся на медиков и инженеров дивно красивые сирийцы и палестинцы. Общежитие было чистым и уютным, а его комендантша была приветлива и снисходительна. Впрочем, нас было не напугать и обычными общагами. Но и без этого можно обойтись: летом в каждом парке можно было встретить целующиеся парочки, и чем дальше вы отходили от центрального входа, тем откровеннее становились объятья.
Если задуматься, то получается, что мест для уединения у нас было не так уж и мало. Но мы смотрели американские подростковые b-movies восьмидесятых годов, в которых были огромные автомобили в темном открытом кинотеатре, были большие дома, в которых у каждого была своя комната с запирающейся дверью, были гостиницы, в которые можно провести любого гостя, не предъявляя документов, – и мечтали о том, что когда-нибудь и у нас будет так же.
О том, что когда-нибудь мы вырастем и все наши проблемы решатся сами собой, мы почему-то не думали – наверное, потому, что наши родители продолжали жить с бабушками и дедушками. У нас не было иллюзий, мы точно знали, что родители тоже «делают это» – и им это нравится. Да что там – первое в жизни порно я увидела в гостях у одноклассницы, которая нашла на антресолях спрятанные родителями видеокассеты. Эта находка нас очень обрадовала, – но в то же время напомнила о том, что и родителям приходится таиться и скрываться. Неужели нас ждало то же самое – на всю жизнь?
С тех пор прошло уже пятнадцать лет. Просторные дома с отдельными комнатами есть далеко не у всех. Просторные автомобили перестали быть диковиной, но drive-inn кинотеатров нет. Однако сексуально-территориальная революция все же произошла. Во-первых, исчезла традиция жить несколькими поко-лениями на одной территории – практически все мои сверстники снимают квартиры, а не живут с родителями. Во-вторых, появились гостиницы с почасовой оплатой. Идет сюда и молодежь, еще не успевшая обзавестись собственным жильем, и родители, которые хотят провести пару часов вдали от детских глаз, и ветреные любители адюльтеров. Только тинейджерам не повезло – гостиницы «на час» были бы по карману и им (скромный номер стоит около двадцати долларов в час – как два обеда в «Макдональдсе»), да не пускают. Как и в «настоящих» гостиницах, здесь надо предъявлять паспорт, и у несовершеннолетних нет ни одного шанса. Но теперь-то я понимаю, что так и надо. В конце концов, все самое интересное в тех самых b-movies начиналось именно тогда, когда родители все-таки открывали дверь в детскую комнату и обнаруживали, что ребенок там вовсе не задачки решал. Все эти лавочки, общаги и «у-друзей-пока-родители-на-даче» кажутся кошмаром только тогда, когда ты уверен, что такая жизнь будет продолжаться всегда. А если проблем с тем, где заняться сексом, давно нет, их так приятно вспоминать. И тогда начинает казаться, что настоящая жизнь была тогда, когда в ней было место приключениям и подвигам, а сейчас все хорошо, спокойно, но немного скучно, и тебе уже 30 лет, а ты никогда не занималась сексом в самолете, и… «надо же хоть раз в жизни попробовать!»
* ПАЛОМНИЧЕСТВО *
Алексей Митрофанов
Под куполом
Тбилиси как он есть

Нынешний Тбилиси, мягко говоря, мифологичен. Чего только о нем не говорят. А если быть точнее, то не говорят и вовсе ничего. Просто считается, что Грузия сейчас – чуть ли не враг России. А дальше каждый сам домысливает в меру своего таланта.
А уж поездка в Тбилиси – почти как поездка на Марс.
В действительности, все довольно банально до обидного. Покупается в обычной кассе авиабилет. Целых три авиакомпании на выбор – «Сибирь», «Аэрофлот» и «Грузинские авиалинии». Бронируется по телефону гостиница (это, в принципе, факультативно). Два с лишнем часа в полупустом самолете. Покупка визы в аэропорту «Лочини».
Главная сложность при приобретении визы – ручка. Вдруг оказывается, что больше чем у половины россиян нет ручек, чтобы заполнять анкеты. Не удивительно – практически у каждого в портфеле ноутбук, а в пиджаке коммуникатор. Ручка при всем при этом как-то неформатна.
Грузины быстренько проходят паспортный контроль, а россияне окружают офицера-пограничника с внушительного вида пистолетом на ремне. Тот отмахивается (добро, что не отстреливается) и рекомендует добывать ручки друг у друга. Россияне долго и растерянно бродят по залу и, в конце концов, находят помощь у девушки из валютного обменника.
Но анкета, наконец, заполнена, виза наклеена и пограничный контроль пройден. Тут-то и начинаются самые чудеса.
***
Второй час ночи. Я спускаюсь вниз по эскалатору аэропорта и спрашиваю у носильщика, где можно прикупить грузинскую сим-карту к телефону.
Носильщик улыбается. Носильщик спрашивает:
– А вы из Москвы?
– Да, – отвечаю, – из Москвы.
Тут же оказывается еще один аэропортовский сотрудник с бейджиком на поясе.
– Ара, посмотри, это товарищ из Москвы. Ему нужна сим-карта. Ты проводишь?
– Ара-ара, да, конечно.
Мы идем через аэропорт к малюсенькому продуктовому киоску. Я говорю, что, в принципе, могу и сам найти, меня сопровождать совсем не обязательно, я, вероятно, отвлекаю от каких-то важных дел.
– Не волнуйся, дорогой, – радостно улыбается сотрудник. – У меня все срочные дела закончились. А следующий рейс не скоро.
Меня доводят до киоска. Почему-то впихивают внутрь, к ящикам с запрещенными у нас «Боржоми», «Набеглави» и другими водами. Хотя в ларьке есть амбразурка, и она открыта.
– Этот господин из Москвы! – радостно говорит сотрудник двум приятным дамам-киоскершам. – Ему нужна сим-карта. Сделаете, да?
Меня долго расспрашивают. Адрес, день рождения, какой тарифный план хочу. Что-то переписывают из паспорта. Говорят, что по закону сами должны установить сим-карту мне в трубу. Долго пытаются понять, как открывается эта труба. В конце концов, просят меня проделать это самому. Затем проверка связи. Затем – покупка первой за несколько лет бутылки «Боржоми». Довольно продолжительный рассказ о том, как там у нас, в Москве.
Все это время мой сотрудник стоит рядышком со мной в тесном киоске. Вместе со мной выходит. Спрашивает, нужно ли такси.
Я краем глаза вижу некое подобие буфета. Чтобы не искать в ночном Тбилиси ужин, говорю, что здесь хочу перекусить.
– Когда я понадоблюсь, обращайся, – говорит сотрудник. И уходит.
Буфет оказывается фаст-фудовским. Я думаю, что лучше все-таки побалую себя чем-нибудь в центре города. Тут как тут мужчина в свитере, который слышал, видимо, наш разговор с сотрудником.
– Такси до города не надо?
– Надо. Сколько?
– Тридцать лари.
Хорошо, поехали.
Мужчина в свитере доводит меня до малюсенького старенького фордика. Я сажусь на заднее сиденье. Он садится рядышком со мной. Я спрашиваю:
– А вы тоже едете?
– Да, – говорит он. – У нас же тут такси.
И почему– то мне не страшно.
***
Радушие моих аэропортовских опекунов медленно, но верно превращалось в то, что называют словом «разводилово». По дороге в город мне пытались навязать какое-то «свое» кафе рядом с аэропортом. Когда подъехали к гостинице – пытались не дать сдачу с сорока лари. Сначала говорили, что нет сдачи. Потом – что нынче «День благодарения» (кого и за что – не сумели ответить). В конце концов сдача нашлась – ее все это время на всякий случай держали, зажав в кулачок.
Отель же произвел странное впечатление. Старый, облезлый дом. Тесная комнатенка-прихожая. Крутая скрипучая лестница, покрытая вытертой ковровой дорожкой. Вместо простыни – какие-то три небольшие тряпочки. Покосившийся маленький шкафчик. Дырка в раковине (не та, которая необходима для стекания воды – другая, рядышком, чем-то пробитая). Два маленьких вафельных полотенца. Кусок мыла, весь обсыпанный какой-то синей крошкой. И противный холод – градусов пятнадцать.
Решив, что в это время в незнакомом городе мне больше все равно ничего не найти, я вышел на одну из главных магистралей города – улицу Леселидзе.
Мои мечты о позднем ужине стали стремительно развеиваться. Улица была пустынной. Лишь возле двери с нарисованными игровыми автоматами стоял человек и ел шаурму.
– Где здесь можно поужинать? – спросил я у него.
– О, это надо подумать. А вы из России, да? Из Москвы? Как там, в Москве? А где остановились? О, это замечательная гостиница! Мой хороший друг ее хозяин. А вы, если что, обращайтесь всегда! Нас тут много таких безработных с самого утра стоит.
Мой собеседник переложил шаурму в левую руку, и мы скрепили знакомство сердечным рукопожатием.
– А поужинать вас сейчас отвезут. Если вам не жалко заплатить три лари.
Любитель шаурмы куда-то позвонил, и через полторы минуты к нам подъехал старенький автомобильчик. И уже через пять минут я входил в круглосуточную очень симпатичную хинкальную.
***
В ней– то меня и поджидало главное открытие. Девушки -официантки, поварихи и барменши – были подуставшие, расслабленные и склонные к откровениям. Три национальности объединились в этом заведении – грузинская, армянская и русская. Их представительницы были единодушны во многом.
Девушки уселись за соседним столиком и наперебой жаловались мне на жизнь.
– Я за вчерашний день всего семнадцать лари заработала! У нас безработица и нищета!
– Нас в НАТО затаскивают, а мы не хотим! Если мы в НАТО вступим, вы вообще границу закроете! А нам это не надо! У меня в России брат родной, вот у нее – мать. Сейчас хоть как-то можно визу получить.
– Мы не хотим воевать с Ираном! Они наши соседи! А если в НАТО вступим – нас заставят!
– И с Россией не хотим!
– И не будем!
– Не будем!
Странная, однако, ситуация. Излагая примитивно, Грузия, стремясь в Европу, в результате оказалась как бы в изоляции. И россияне, и американцы, и западные европейцы могут въехать в Грузию, однако не слишком рвутся. Россияне обижены – за дружбу грузинского народа с Бушем (ее на самом деле ее вроде как нет, но нам-то кажется, что она есть). Американцы же и западные европейцы побаиваются (Абхазия и Южная Осетия). Да и не раскручена Грузия как туристический брэнд – ни в Лиссабоне, ни в Техасе.
И получается, что по Тбилиси ходят только гости из Азербайджана и Армении. От былой популярности города и следа не осталось. Ни советской, ни, тем паче, досоветской.
***
Девушки в кафе все продолжали жаловаться. Они прекрасно понимали, что от меня мало что зависит, а если быть точнее, то и вовсе ничего. Я не могу утихомирить НАТО, создать рабочие места, поднять зарплаты и открыть границы. Но очень уж хотелось выговориться. А кому, как не мне, приехавшему из Москвы – далекой, манящей, предавшей, прощенной?
За соседним столом между тем пьянствовали два грузина. Время от времени их разговор вклинивался в жалобы. Разговор был, в общем-то, понятен, хотя велся на грузинском языке.
– Ара-ара…
– А-а-а-ара?
– Ара!
Поначалу меня это забавляло. Потом подумалось – а разве русские аналоги таких застолий более содержательные?
– Ну, будем!
– Будем!
Пауза.
– Ну, давай!
– Давай!
Я почувствовал себя как дома. Решил, что все-таки смогу найти приличную гостиницу. Вызвал такси – и, действительно, нашел. В самом центре города, с большой кроватью, кондиционером, мини-баром, ежедневной сменой чего пожелаешь, и при этом за 35 евро в сутки.
А выспавшись, приступил к поискам книжного магазина.
Поиски эти заняли ровно два дня. Полученные на ресепшн адреса не дали результата – все места, некогда популярные, заполненные новенькими книгами на грузинском, русском и английском языках, сегодня заняты либо какими-нибудь дорогими шопами-салонами, либо представляют из себя полуразвалины. Я выпрашивал новые адреса – у встреченных на улице людей интеллигентной внешности, у газетных киоскеров, у таксистов – радостно бежал туда (или же ехал на такси, оно в Тбилиси удивительно дешевое, приблизительно 15 лари в час), и понимал, что снова припозднился на год-другой.
В конце концов, пришлось признать – в Тбилиси нет нормальных книжных магазинов. То есть их нет вообще, так же, как магазинов, например, торгующих едой для космонавтов. Есть букинистические развалы (там торгуют чем-то вроде собрания сочинений критика Белинского), есть отдельчики в канцелярских магазинах (там можно купить краткий путеводитель на английском языке или же карту города), есть что-то случайное в киосках. А специально выделенного просторного помещения с книгами, рассортированными по различным разделам, здесь нет.
Москва, в которой существуют трехэтажные книжные супермаркеты, показалась мне гуманитарной столицей Европы.
На протяжении всего этого времени я то и дело видел высоченный купол, увенчанный громаднейшим грузинским флагом.
– Что это такое? – спросил я, наконец, у таксиста.
– Саакашвили дворец себе строит. Людям есть нечего, а он шикует.
– А зачем такой купол? Это что – домовый храм? Может быть, планетарий?
– Ничего не знаю. Знаю, что когда он ездит по стране, его микроавтобус с девками сопровождает.
Да, не пользуется Михаил Николозович всенародной любовью. Впрочем, за одно его все хвалят, не нахвалят. Ужесточение законов почти полностью избавило страну от воровства и взяточничества. Тбилисский житель может запросто оставить на сидении своей машины дорогой ноутбук или же фотоаппарат – с ним не случится ровным счетом ничего.
– Воровать? Да вы что! У нас это не принято, – гордо заявляли мне тбилисцы.
Не удивительно – раз в несколько минут по каждой улице медленно проезжает полицейская патрульная машина, а за кражу можно получить немалый и, главное, вполне реальный срок – ведь взятки судьям здесь давать тоже «не принято».
А вот аналогов нашей ГАИ и вправду нет. Другое дело, что патрульная машина в любой момент может остановить любой автомобиль, так что дорожный беспредел тоже отсутствует.
Отсутствуют, кстати сказать, практически везде меню на русском языке. И даже на английском. Только грузинская вязь. Правда, решается эта проблема просто – официантка берет меню, и все подряд читает, сразу же переводя на русский.
Удивительно, но русским здесь владеют все, за редким исключением. Даже молодежь, которая не помнит никакого там СССР. Но и русские знают грузинский. Так что русской диаспоры как таковой нет в Тбилиси.
Я, правда, все равно предпринял несколько попыток ее отыскать. К примеру, съездил в русский ресторан «Матрешка». В интерьере обнаружилось огромное количество матрешек, самоваров и иной экзотики. Стулья были расписаны под палех. Играла музыка – русская песня:
Икра, икра, черная икра,
Любовь, любовь – опасная игра.
Икра, икра, икра красная,
Любовь, любовь – игра опасная.
И черная, и красная икра в меню присутствовали. Меню, кстати, там было трехъязычным – на грузинском, английском и русском. Квас в меню значился, но его не оказалось в наличии. Морс принесли, только он оказался вишневым компотом – освежающим, холодненьким, с кислинкой. Вяленая оленина – нечто вроде бастурмы, только очищенной. Чача, «Боржоми», «Набеглави».
Я спросил официантку-грузинку, что это за блюдо такое – ягненок, приготовленный на огне? Оказалось, бараний шашлык.
За соседним столом распивала грузинский коньяк веселая русско-грузинская компания. Счет был, ясное дело, на грузинском.
А еще я посетил в Тбилиси русский храм. Он был пустынный и неряшливый. В углу кого-то отпевали. Возле входа, по российскому обычаю, переругивались русские старухи-нищенки. Увидев меня, дружно запросили милостыню. Перейдя зачем-то на грузинский.
Я понял, что диаспору мне не найти. Так же, как книжный магазин.