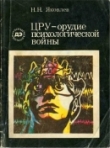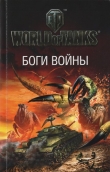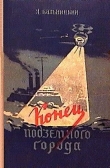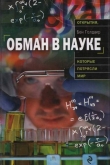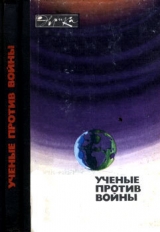
Текст книги "Ученые против войны (с илл.)"
Автор книги: авторов Коллектив
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 14 страниц)
Быть космосу мирным!
(Член-корреспондент АН СССР Раушенбах Борис Викторович)

Извечная мечта человечества о проникновении в космическое пространство, во все времена и у всех народов олицетворявшая творческие возможности людей, всегда ассоциировалась в их сознании с миром на земле. Как же случилось, что злокачественная опухоль милитаризации космоса все же смогла прорасти за последние два десятилетия?
Должен сказать, что идея военного использования космоса не нова. Однако уже после того, как американские космические ядерные взрывы в 1962 году нанесли серьезные повреждения ряду спутников, большинство стран, включая СССР и США, заключили соглашение об ограничении ядерных испытаний в космосе, океанах и атмосфере. И за прошедшее с тех пор (с 1963 года) время это соглашение не было нарушено. А в 1967 году большинство стран, также включая СССР и США, подписали договор, запрещающий выведение в космос всех видов оружия массового уничтожения и особенно ядерного. Но писатели-фантасты и научные стратеги еще долгое время романтизировали неизбежность войны в космосе. И в частности, применение неядерного оружия с более ограниченным масштабом воздействия, нежели «массовое уничтожение», то есть оружия, не запрещавшегося договором 1967 года для использования в ближнем космосе. Это и послужило своеобразной лазейкой для идеи милитаризации космического пространства. А в июне 1982 года американскому народу уже официально объявили директиву президента о новой политике в исследовании и использовании космического пространства. Смысл ее однозначен: США начали готовиться к войне в космосе.
Что же представляют собой милитаристские идеи Белого дома? По сути дела, все они – извращенные, поставленные на службу смерти выдающиеся достижения науки. Взять хотя бы лазерную технику и зеркала, с помощью которых ученые некоторых стран предлагают улавливать солнечную энергию. Как известно, ничего милитаристского, несущего смерть и разрушение в этих исследованиях нет. Напротив, лазерный луч, например, «владеет» десятками мирных профессий. А решение энергетической проблемы на земле с помощью солнечной энергии означало бы для человечества успешное решение и многих экономических проблем.
Как же трансформировались эти самые мирные идеи в умах и «творческой» лаборатории советников Рейгана по науке? На какой основе строится будущая космическая «оборона» США?
Речь идет преимущественно о потенциальном использовании размещаемых в околоземном космическом пространстве (полностью или в отдельных компонентах) различных видов оружия направленной энергии, находящихся на различных стадиях разработки, – о создании широкомасштабной космической противоракетной системы (КПС). И хотя представители администрации Рейгана отмечают, что милитаризация космоса рассчитана на весьма отдаленное будущее (начало XXI века), многое говорит за то, что наращивание темпов исследований и разработок в соответствующих областях может означать важнейший поворот военного курса США уже в ближайшее время.
Примерно с конца 50-х годов одной из важнейших предпосылок американской стратегии была невозможность сокращения разрушительных последствий тотальной ядерной войны для США до приемлемого уровня. Эта предпосылка была обусловлена созданием в СССР межконтинентальных средств доставки ядерных боеприпасов и ростом абсолютных запасов последних у обеих сторон. После весьма кратковременных стратегических экспериментов с концепциями «контрсилы» и «ограничения ущерба» в начале 60-х годов (они предусматривали сокращение потерь США путем нанесения ударов по части стратегических средств СССР на стартовых позициях) декларируемая американская стратегия остановилась на концепции «гарантированного уничтожения». Последняя с теми или иными коррективами (в виде концепций «избирательных ударов», «ограниченной ядерной войны» и др.) оставалась основой ядерной стратегии США с конца 60-х до начала 80-х годов. Она предусматривала, что безопасность США при наличии накопленных у обеих сторон термоядерных потенциалов обеспечивается не возможностью сократить американский ущерб в случае всеобщей войны до сколько-нибудь приемлемого уровня, а возможностью сдерживать вероятного противника от применения ядерного оружия угрозой нанесения ущерба в соответствующих или превосходящих масштабах. Радикальное изменение указанных основополагающих концепций декларируемой военно-политической стратегии США ведет свой отсчет с выступления Рейгана 23 марта 1983 года, в котором сдерживание, связанное со способностью двух великих держав уничтожить друг друга даже в ответном ударе, объявляется злом, а в качестве альтернативы выдвигается идея прямой защиты территории США от ядерного оружия всеми средствами, включая и создание в отдаленном будущем систем КПС. Именно эта переориентация официальной линии США, если она будет закреплена, способна создать Америке принципиально новые стратегические, политические и психологические условия для принятия решений по военным программам как наступательного, так и оборонительного характера.
Основной принцип, заложенный в космическую противоракетную систему США, можно сформулировать следующим образом: система должна обладать способностью уничтожать путем единичного поражения межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) и баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ) противника с помощью оружия космического базирования, основанного на системах направленной передачи энергии электромагнитных волн или пучков частиц на большие расстояния.
Среди всех экзотических способов реализации КПС наиболее естественной для неискушенной публики кажется модель КПС, предлагаемая в программе «Высокий рубеж», подготовленной по инициативе общественной организации крайне правой ориентации «Фонд наследия».
Что же представляет собой эта программа? Создание на низкой околоземной орбите обширной сети станций – около 500, каждая из которых несет до 50 небольших ракет-перехватчиков с неядерным зарядом, способным к самонаведению на ракеты потенциального противника благодаря регистрации инфракрасного излучения от факелов ракеты.
Именно эта сеть станций, служащая для уничтожения межконтинентальных ракет противника на активном участке полета, и составляет первое звено КПС. Вторым звеном станет оружие нового типа (лучевое или пучковое), размещаемое на других космических станциях. И наконец, третьим звеном явятся системы индивидуальной защиты отдельных наземных объектов.
Авторы предложения оценивают стоимость создания первого звена в несколько десятков миллиардов долларов при сроках его развертывания в 5–6 лет.
Как сообщает американская печать, проект «Бэмби» аналогичного содержания рассматривался еще более двадцати лет тому назад, но был отложен по той причине, что технические средства того времени не могли обеспечить поставленные задачи. Сейчас же, как утверждает руководитель программы «Высокий рубеж» отставной генерал-лейтенант Дэниэл Грем – бывший руководитель военной разведки, – необходимая технология существует, образно говоря, достаточно протянуть руку и взять ее с полки.
Однако представители администрации Рейгана и, в частности, высокопоставленные сотрудники министерства обороны выразили большое сомнение как раз по поводу реальности технических предпосылок для реализации в ближайшие годы подобной системы. По мнению многих официальных представителей министерства обороны, сроки и средства, называемые в проекте «Высокий рубеж», сильно преуменьшены – по оценкам критиков проекта, речь должна идти о сотнях миллиардов долларов.
И хотя, как видите, налицо некоторые расхождения в оценке авторов «Высокого рубежа» и его критиков, многое подсчитано и взвешено. Намечены уже и непосредственные исполнители пентагоновской воли – 1000 человек, обслуживающих орбитальную станцию, на которой разместятся перехватчики, космические и транспортные корабли и корабли-разведчики. Станцию оборудуют высокомощным химическим лазером (проект «Альфа»), оптической системой прицеливания (план «Лодэ») и системой обнаружения целей (проект «Талон голд»).
Министр обороны США К. Уайнбергер предполагает принять на вооружение противоспутниковую систему уже в ближайшие пять лет. Причем известны и места размещения противоспутниковых эскадрилий: штаты Вирджиния и Вашингтон. Управлять же всеми средствами космической обороны будет оперативный центр, который войдет в строй в будущем, 1985 году.
«Отсчет выживания» – так назван специальный пропагандистский фильм, вышедший недавно на экраны США. Главная его идея прозрачна до цинизма: «битва за космос» – один из реальных путей достижения военного превосходства США над СССР. А именно такое превосходство, по мнению военных специалистов, и способно принести победу в будущей ядерной войне, которой, как всем очевидно, просто не может быть, ибо она будет стоить нашей планете жизни.
Как видите, перспектива весьма устрашающая. Но реален ли сам «Высокий рубеж»? Вот в чем вопрос. Многие американские ученые, например, берут его под сомнение. Дело в том, что для претворения данной программы в жизнь необходимо разрешить, по мнению Делауере, по меньшей мере восемь технических задач, каждая из которых по сложности и объему всех затрат превосходит программу «Аполло».
Мирный космос, умножающий силы и возможности людей всей земли, а не космос, несущий смерть, – вот чего ждут народы всех стран и континентов от современной науки. И, создавая первый искусственный спутник Земли, советские ученые думали только о мире. Разве с мыслями о войне выходил на космическую орбиту наш Юрий Гагарин?
Торжествуя свою победу, мы всегда думали о людях всей земли. И они искренне разделяли с нами и радость и надежды. А надежды и планы у нас большие. И именно с космическими исследованиями, ведущимися планово, советский народ связывает решение самых злободневных, самых актуальных проблем своей экономики.
Недаром одной из важнейших задач в области естественных и технических наук названо в «Основных направлениях экономического и социального развития СССР на 1981–1985 годы и на период до 1990 года» дальнейшее изучение и освоение космического пространства в интересах развития науки, техники и народного хозяйства.
Успехи, достигнутые советской космонавтикой за годы, прошедшие с момента первого космического полета Ю. Гагарина, позволяют нам уже сегодня сказать, что эта многотрудная задача успешно решается.
Благодаря успехам советской науки и техники создан целый комплекс средств, обеспечивающий освоение космического пространства: проведение прямых измерений на Луне и планетах солнечной системы, управляемые с Земли или пилотируемые корабли и станции, способы слежения за ними, передача информации и т. д. Все это позволило сделать многие открытия. Еще больших достижений мы вправе ожидать в будущем. Для реализации таких надежд есть все необходимое.
Так, одним из важных звеньев советской космонавтики стали крупные пилотируемые комплексы на околоземных орбитах; пример тому – исследовательская деятельность орбитальной станции «Салют».
Целый комплекс конструкторских и технологических решений позволил обеспечить высокую надежность аппаратов, используемых при реализации программы. Бесперебойно действовал космический мост Земля – «Салют» – Земля. За этим успехом – хорошо скоординированные усилия научных, конструкторских и производственных коллективов, специалистов Центра управления полетом, коллективов космодрома, командно-измерительного и поисково-спасательного комплексов. А их оперативное взаимодействие, своевременное выполнение промежуточных этапов работы стало возможным благодаря применению новых, более современных методов управления наукой, исследованиями и производством. Уже и сейчас подобные методы и в других областях техники оказывают влияние на развитие многих глобальных информационно-управляющих систем.
Можно привести много примеров эффективности и целесообразности исследований, выполненных на борту орбитальной станции. Среди них – астрономические и геофизические эксперименты и исследования в области медицины, биологии, космической технологии, наук о Земле.
Но задача орбитальных полетов не только в получении этих несомненно важных для нас данных. Идет интенсивная разведка космоса. И одно из основных назначений орбитальных станций, на наш взгляд, – давать путевку в жизнь все новым и новым научным исследованиям в космосе.
Однако реализовать все свои удивительные возможности современная наука способна при единственном условии – мир на земле. И Советский Союз делает все возможное для его сохранения и, в частности, для пресечения гонки вооружений в космосе. Об этом свидетельствует решение нашего государства о введении одностороннего моратория на запуск противоспутникового оружия. Однако в противовес мирным инициативам СССР администрация Рейгана предпринимает самые энергичные меры к милитаризации космического пространства.
«Космическое пространство – это не миссия, это место, театр военных операций. Пора относиться к нему как к театру таких операций» – так беззастенчиво комментирует политику Белого дома один из руководителей космического командования СЩА, Р. Генри.
Как видите, военные в Америке уже получили полное право во всеуслышание заявить о том, каким именно образом собираются они использовать космос.
Что же им развязало руки? Прежде всего директива президента о новой политике в исследовании и использовании космического пространства.
«Тот, кто имеет возможность контролировать космос, сможет держать под прицелом весь земной шар. Мы никогда не должны забывать об этом», – откровенничает Р. Стиверс, помощник заместителя министра обороны по политическим вопросам. Кто же стоит за местоимением «мы»? Только ли военные, беспрекословно исполняющие приказы Белого дома? Отнюдь. В числе тех, кто сегодня работает на милитаризацию космоса, и некоторые американские ученые. Пентагон все решительней подчиняет своим целям программы национального управления по исследованию космического пространства (НАСА). Недаром командир корабля «Колумбия» полковник Джек Лусма, оценивая «перераспределение» сил в НАСА, сложившееся за последнее время, говорит, что «порой люди путают НАСА с военными». Да и военные не всегда информированы о действиях администрации. Так, «Сайенс» утверждает, к примеру, что Джон Гарднер и Роберт Купер были явно удивлены, когда слушали речь президента Рейгана о «звездной войне» вечером 23 марта 1983 года. Между тем Гарднер – директор оборонительных систем в Пентагоне, а Купер руководит Агентством по перспективным исследовательским проектам для оборонных целей (ДАРПА).
«Вряд ли, – продолжает «Сайенс», – это успешное начало того, что президент величественно охарактеризовал как «усилия, обещающие изменить направление истории человечества».
Этим заявлением Рейган явно намеревался успокоить опасения, возникшие вследствие его милитаристских предложений.
«До сих пор, – заявил он, – мы все в большей мере базировали нашу стратегию на угрозе ответного удара. Ну а если бы свободные люди могли бы жить в безопасности, зная, что их безопасность не основана на угрозе немедленного возмездия?» Эта мысль оказалась гораздо менее успокоительной, нежели он ожидал. Демократическая партия в своем официальном заявлении обвинила Рейгана в создании фантастического сценария для «звездной войны».
…Хотя Рейган и мог бы ожидать заявления такого рода из политических кругов, он, без сомнения, был поражен реакцией научной общественности. В своей речи он недвусмысленно обращался к тем, «кто дал нам ядерное оружие, чтобы они обратили свои таланты на благо человечества и мира во всем мире, чтобы они дали нам средства сделать ядерное оружие неспособным и устаревшим» путем разработки противоракетной техники. Одобрение высказали лишь некоторые члены существующего в настоящее время научного совета при Белом доме, которым руководит Киуорт. Но около десятка других известных ученых приняли идею в штыки. Вольфганг Пановский – директор Стэнфордского линейного ускорителя, сказал, что это заявление является «тревожащим по своему духу». Джером Визнер – бывший научный советник в Белом доме и недавний президент Массачусетского технологического института, – что «это фактически объявление новой гонки вооружений». А Ричард Гарвин – физик из Ай-би-эм, ограничился репликой, что «это не пройдет».
Киуорт и другие сотрудники Белого дома так восстанавливают в памяти историю подготовки этого предложения. С тех пор как Рейган был введен на свой пост, его навестил ряд консервативных военных аналитиков, полагавших, что Соединенным Штатам следовало бы создать стратегический щит. Одним из них был Эдвард Теллер, который разговаривал с Рейганом прошлой осенью о возможности создания лазеров с ядерной накачкой с целью разрушения советских ракет вскоре после их запуска.
Киуорт, который с энтузиазмом поддерживает идею президента, искал совета по поводу речи у Соломона Бухсбаума и Уильяма О. Бейкера – двух ученых из лаборатории Белл, которые состоят в научном совете при Белом доме. В конечном итоге он включил их в группу из 13 ученых, приглашенных в Белый дом на обед как раз в тот вечер, когда шло выступление по телевидению. «Нам сказали, что президент объявит о новой важной инициативе и что он нуждается в поддержке научной общественности», – вспоминает Бартон Рихтер – технический директор Стэнфордского линейного ускорителя. Среди других приглашенных были Харолд Эгню, Ганс Бете, Джон Фостер, Эдуард Фримэн, Уильям Ниренберг, Франк Пресс, Чарльз Таунс, Виктор Вайскопф, Саймон Рамо и Теллер.
Предложение президента встретило разнообразную реакцию у присутствующих.
Эгню: «Моя единственная оговорка заключается в том, что будущие борцы за мир убьют это предложение, прежде чем оно получит возможность начаться».
Бухсбаум; «Хотя ни на научном, ни на техническом фронте не выкристаллизовалось ничего, что могло бы оправдать разработку противоракетной защитной системы, день 23 марта так же хорош, как и остальные, для объявления программы увеличения исследований».
Рамо: «Нельзя быть уверенным, что нападение не усилится вместе с усилением защиты».
Ганс Бете: «Чрезвычайно встревожен тем, что мы идем прямо к космической войне. Мы попадем в серьезную беду, если такая система заработает». Он сказал, что обладание одновременно и наступательным и оборонительным оружием даст возможность Соединенным Штатам нанести первый удар без страха получить возмездие, а это в высочайшей степени дестабилизирующая перспектива. «Мы не можем день ото дня менять наступательное оружие на оборонительное – должно быть какое-то перекрытие». Бете сказал также, отмечает «Сайенс», что, когда он выдвинул это возражение в Белом доме, «то получил практически нулевой ответ, настолько пустой, что я его не запомнил».
Герберт Иорк, Ли Дюбридж, Джеймс Ван Аллен, Уильям Пикеринг, Карл Саган и Виктор Вайскопф согласились с ним. Но не похоже, констатирует «Сайенс», чтобы их советы проникли в Белый дом.
Между тем еще не поздно устранить нависшую над миром угрозу. И в первую очередь прекратить милитаризацию космоса. А что для этого нужно сделать? Отказаться от использования спутников, орбитальных станций и кораблей многоразового использования в военных целях. Вот тогда, возвращаясь к свидетельству того же Джека Лусмы, люди в Америке перестанут «путать» Национальное управление по исследованию космического пространства с военным ведомством.
Да и такая ли уж это надежная «защита от нападения русских» – пресловутая система противоракетной обороны, столь активно пропагандируемая президентом Рейганом? По крайней мере, многие американские ученые сомневаются в абсолютной ее эффективности. Так, по их расчетам, если даже создание системы противоракетной обороны, несмотря на многочисленные технические и научные трудности, станет реальностью и с ее помощью США установят антиракетный заслон над всей своей территорией, одна из каждых 20 ракет противника все равно достигнет цели. К тому же противник вряд ли будет ожидать в бездействии завершения работ над американской системой противоракетной обороны и придумает что-то свое, какие-то собственные контрсистемы. И хотя «стопроцентно надежная» система противоракетной обороны в космосе, как утверждает Рейган, представляет «новую надежду для наших детей в XXI веке», американские ученые относятся к ней с недоверием, характеризуя как «наиболее рискованную затею», нарушающую военное равновесие между США и СССР.
Так, в случае начала испытаний КПС (не говоря уже о начале развертывания) под вопросом окажется бессрочный Договор между СССР и США об ограничении систем противоракетной обороны (подписанный 26 мая 1972 года в Москве), пункт 1 статьи V которого гласит: «Каждая из сторон обязуется не создавать, не испытывать и не развертывать системы или компоненты ПРО морского, воздушного, космического или мобильно-наземного базирования». Между тем значение советско-американского Договора о ПРО в настоящее время особенно велико, поскольку он остается единственным ратифицированным и действующим соглашением по ограничению стратегических вооружений.
Если даже в обозримой перспективе советско-американские отношения улучшатся настолько, что американская сторона будет готова политически пойти на достижение взаимоприемлемых и равноправных соглашений по ограничению и сокращению стратегических вооружений, то наличие даже в ограниченных масштабах испытанных и развернутых элементов космической противоракетной системы может намного усложнить прогресс переговоров и значительно уменьшить шансы на современное достижение советско-американской договоренности.
Введение в структуру стратегических сил одной или обеих сторон еще одного (качественно нового) компонента намного усложнит, запутает всю систему оценки стратегического баланса, создаст дополнительные сложности в оценке соотношения сил партнеров по переговорам. К тому же, вероятнее всего, развитие КПС, как это имело место в случае со стратегическими наступательными вооружениями, у двух ведущих ядерных держав пойдет различными путями, что еще больше увеличит асимметрию стратегических сил сторон, сделает их еще более трудносравнимыми. Асимметрия может оказаться еще более значительной, если принимать во внимание потенциальные средства противодействия (контр-КПС) и те системы, которые, в свою очередь, могут быть созданы для поражения средств контр-КПС.
С учетом космической противоракетной системы и контр-КПС будет значительно труднее достичь договоренности об ограничении и сокращении стратегических сил СССР и США, необходимость ее сделать понятной для широких общественных кругов, справедливо играющих все более важную роль в решении вопросов войны и мира.
В числе международно-политических последствий развертывания космической противоракетной системы США нельзя не отметить то, что ее создание поставит практически барьер на пути советско-американского сотрудничества по использованию космического пространства в мирных целях. Потенциальная же ценность такого сотрудничества представляется очень значительной в экономическом и научно-техническом плане, поскольку космические программы СССР и США по многим своим параметрам являются взаимодополняющими. Велика была бы значимость такого сотрудничества и в политико-психологическом плане – с точки зрения улучшения всей атмосферы советско-американских отношений, обеспечения доверия между народами и лидерами двух великих держав.
Оценивая потенциальное воздействие широкомасштабной космической противоракетной системы на стратегический баланс, можно с весьма большой степенью уверенности заключить, что в результате ее создания заметно увеличится опасность первого (упреждающего) удара, возрастет вероятность принятия ошибочных решений в кризисной обстановке. Следовательно, стратегическая стабильность будет уменьшена, несмотря на сохранение у сторон примерного равенства (паритета) в стратегических вооружениях.
Развертывание стратегического «оборонительного оружия» наверняка послужит и началом цепной реакции создания все новых и новых систем оружия, которые приведут к сверхусложнению стратегического баланса и увеличат степень неопределенности в процессе принятия военно-политических решений. Вопрос о создании космической противоракетной системы в силу наличия диалектической связи между стратегическими наступательными и оборонительными вооружениями во многом определяет возможность достижения советско-американских (а в перспективе и многосторонних) соглашений по ограничению и сокращению стратегических наступательных вооружений, проведения мероприятий по их перестройке в направлении повышения стратегической стабильности. Аннулирование бессрочного Договора между СССР и США об ограничении системы противоракетной обороны, несомненно, в свою очередь, уменьшит шансы на достижение взаимоприемлемых соглашений об ограничении и сокращении стратегических наступательных вооружений на обозримую перспективу.
Стабилизирующий режим, созданный Договором о ПРО от 1972 года, может быть значительно усилен заключением соглашений по неразмещению в космосе оружия любого рода, по запрещению применения военной силы как в космическом пространстве, так и из космоса в отношении Земли, а также по запрещению противоспутникового оружия.
Огромные средства, которые должны пойти на создание космической противоракетной системы, научно-технические возможности, уже имеющиеся в этой области, могут быть эффективно использованы для широкомасштабных международных, двусторонних и национальных программ мирного назначения, призванных способствовать ускорению решения все более острых глобальных проблем – экономических, энергетических, сырьевых, экологических, а также создавать заделы для успешной деятельности в космосе будущих поколений землян. При этом могут быть загружены в значительной мере те же отрасли промышленности, которые предполагается использовать для создания космической противоракетной системы США.
А научных и практических проблем, требующих объединенных усилий ученых многих стран, более чем достаточно. Взять хотя бы очередное возвращение кометы Галлея. Оно, вероятно, станет одним из важнейших космических событий ближайших лет. Между тем геометрия наблюдения кометы с Земли в 1986 году довольно неблагоприятна. Поэтому и появилось несколько проектов, цель которых – изучение кометы с помощью космических аппаратов. Один из них – создание межпланетной автоматической станции «Венера-Галлей» (или, сокращенно, «Вега»).
Межпланетная автоматическая станция «Венера-Галлей» будет выведена на траекторию полета к Венере уже в этом, 1984 году. В начале следующего года она пролетит около Венеры, и от нее отделится спускаемый аппарат, который совершит посадку на поверхность планеты. Затем траекторию межпланетной станции при помощи корректирующего импульса изменят, и в марте 1986 года она пройдет сквозь голову кометы Галлея вблизи нисходящего узла ее орбиты. При этом окажутся возможными оптические исследования внутренней комы (включая получение ТВ-изображения, спектроскопические исследования в диапазоне от 1200 ангстрем (А) до 12 микрометров (мкм) и поляриметрию), а также ядра, потоков пылевых частиц и их химического состава, физических характеристик плазмы, магнитного поля. В экспериментах на кометном зонде и венерианском спускаемом аппарате принимают широкое участие ученые Франции. А в исследованиях кометы – Болгарии, Венгрии, Польши, Чехословакии, Австрии и ФРГ.
«Вега» предусматривает выполнение двух задач: во-первых, исследования Венеры и, во-вторых, – кометы Галлея. Основная часть станции несет на себе большой комплекс аппаратуры для исследования кометы и встретится с последней примерно через 7 месяцев.
Нужно сказать, что кометный зонд разрабатывается на базе станции, много раз доставлявшей советские спускаемые аппараты на Венеру. На трассе перелета и раньше проводились исследования межпланетной плазмы и астрономические эксперименты, но это было своего рода дополнительной частью программы. В миссии же «Вега» впервые «невенерианская» часть программы станет важнейшей.
Несколько слов о международном статуте проекта. Вся работа по созданию самого космического аппарата ложится на Советский Союз, однако, учитывая большой интерес международной общественности к исследованиям кометы Галлея, Академия наук СССР привлекла к участию в нем ученых разных стран. В разработку научных приборов и систем, предназначенных для обеспечения их работы, большой вклад внесут специалисты не только СССР, но и многих стран Западной и Восточной Европы. Руководство проектом осуществляется международным научно-техническим комитетом (МНТК), в состав которого входят представители девяти государств. Это первый большой космический проект международного характера, проводимый по инициативе нашей страны, и опыт его реализации будет, как мы надеемся, полезен для развития международного сотрудничества в космических исследованиях.
Орбитальные параметры кометы Галлея известны очень хорошо (хотя для целей проекта мы хотели бы знать их еще лучше), однако физическое строение ее (так же, впрочем, как и других комет) изучено плохо. Дело в том, что почти вся масса кометы сосредоточена в ядре, а кометных ядер никто никогда не наблюдал, хотя имеются весьма правдоподобные модели, основанные на анализе тех явлений, которые наблюдаются в коме и хвосте. И мы полагаем, что среди всех комет именно комета Галлея является оптимальной целью для первого космического полета, несмотря на неудобства, связанные с ее обратным движением по орбите. В пользу этой точки зрения говорят два серьезных аргумента: во-первых, комета Галлея является долгопериодической, а только для таких комет орбита достаточно хорошо определена с точки зрения космической навигации, и, во-вторых, среди долгопериодических комет только она имеет физические характеристики молодой активной кометы.
Особенности же научной программы миссии «Вега» определяются балансом между научной значимостью поставленной перед исследователями задачи и реальными возможностями ее решения. При этом серьезной проблемой становится пылевая опасность (при скорости встречи около 80 километров в секунду). Так что, чем ближе к ядру, тем больше масса пылевого экрана, а значит, меньшим должен стать вес научной аппаратуры. Кроме того, возрастает риск «промахнуться», пролететь около ядра с темной, а не светлой его стороны. После взвешивания всех «за» и «против» было решено, что номинальное расстояние пролета – 10 тысяч километров – является оптимальным, так как оно достаточно мало, чтобы «увидеть» ядро при помощи ТВ-камеры и других оптических приборов, и достаточно велико, чтобы космический аппарат имел шанс выжить при полете через кому. Вот какие замечательные исследования возможны при мирном космосе.