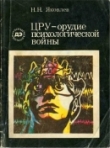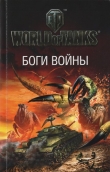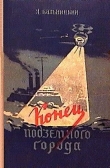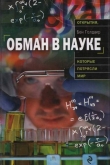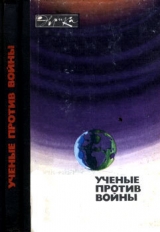
Текст книги "Ученые против войны (с илл.)"
Автор книги: авторов Коллектив
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 14 страниц)
Но здесь пришла пора сказать о «новейших» направлениях в политике экоцида, избранного американским империализмом. Их несколько. Назовём всего два.
Во-первых, это направленное изменение погоды и климата. Это не зловещее предзнаменование (вспомните знаменитое затмение солнца, описанное в «Слове о полку Игореве», предсказывающее поражение русских войск) природных явлений, а специальное конструирование, создание их. Так, в 1963 году в том же Индокитае американские агрессоры, стремясь вызвать наводнение в долинных, низменных районах страны (что повлекло бы за собой непроходимость дорог), «засевали» облака йодистым серебром, стимулируя обильные ливни, превращавшие землю в непроходимые топи, смывавшие почву. И это еще не все. Агрессоры с помощью химических веществ вызывали искусственное образование тумана, штормовой погоды. Они создавали (с помощью ракет) «окна» в озоновом экране, многократно усиливая ультрафиолетовую радиацию, запыляя верхние слои атмосферы.
Какие же цели преследовала при этом военщина? Только ли тактические, обусловливающие наиболее благоприятные условия для проведения тех или иных ее планов? Отнюдь. Разрушая природу Индокитая, империалисты преследовали куда более далеко идущие цели: создать долговременный, а значит, и непредсказуемый эффект «экологического взрыва», чрезвычайно осложняющего жизнь современного человека в этом регионе. И не только современного, а многих последующих поколений.
Во-вторых, существует проект, весьма серьезно обсуждаемый сегодня на Западе. Это так называемый проект «географического оружия». Да, есть и такое. Оно воссоздает естественные явления природы, обладающие гигантской разрушительной силой: землетрясения, грозы, гигантские приливные волны.
Таковы факты. Их без прикрас приводят аполитичные исследователи западных стран. И за ними – правда без прикрас, без пропагандистских румян. Экологическая война, даже в локальном, отдельном регионе земли, – страшное бедствие, катастрофический урон, наносимый всей ее природе. Потому что нет, не существует изолированных экологических систем, а все они связаны, пронизаны сложнейшими взаимопроникающими и взаимообусловливающими «службами» жизнеобеспечения. Ибо природа планеты Земля – единый живой организм, очень легко уязвимый. Сегодня он уже ранен. Но рана еще не смертельна. Еще сильны восстановительные силы природы, и стоит ли человечеству рисковать, столь безрассудно экспериментируя с ними?
Ученые планеты это отлично понимают, как понимают все здравомыслящие люди Земли – не такой уж большой нашей планеты, космический корабль облетает которую за каких-то 90 минут. И, продолжая мысль У. Фолкнера, высказанную им при получении Нобелевской премии («Я отказываюсь принять конец человека. Я верю, что человек не только выживет, но и восторжествует. Человек бессмертен не только потому, что он один во всей природе обладает неистощимым даром речи, но и потому, что обладает духом, способным сострадать, жертвовать и выживать»), мы выражаем твердую уверенность в том, что выживет и восторжествует природа, создавшая человека, давшая ему творческие и духовные силы.
Что же ждет, в свою очередь, природа от своего детища? Ну если не сострадания, то хотя бы понимания законов ее развития. Без этого при дальнейшей всевозрастающей индустриализации и технизации общества природе не обойтись. Уже сегодня нашей планете не хватает чистой питьевой воды. Ее голубые артерии загрязнены 160 кубическими километрами ежегодных промышленных стоков. А в будущем? Увы, прогнозы более чем пессимистичны: к 2000 году потребуется весь речной сток земного шара, чтобы хотя бы шестикратно разбавить промышленные, сельскохозяйственные и бытовые стоки. Шестикратно! А сегодня их разбавляют в тринадцать раз.
Лозунг «Нужна вода!» стал одним из самых актуальных. Особенно для густонаселенных стран Европы. В том числе и для ФРГ, экологическое прогнозирование в которой (и в первую очередь проблемы водопользования) началось еще в 60-е годы. Именно в эти годы по объему промышленного производства она выходит на второе место в капиталистическом мире (после США). Это место ФРГ сохраняет и в наши дни. Разумеется, экологические проблемы ФРГ в силу ее географического положения не могли оставаться только собственными проблемами этой страны, так как отравленный промышленными сбросами заводов Западной Германии Рейн был и остается поныне основным источником водоснабжения населения Бельгии и Нидерландов. Между тем спрос на воду все возрастает. Вот какие цифры называют ученые ФРГ: согласно их прогнозам потребление воды в стране к 2000 году резко увеличится за счет развития электроэнергетики. Эти прогнозы основываются на таких фактах: уже к 1985 году количество ТЭС и АЭС по сравнению с 1980 годом возрастет в полтора раза. Гигантских размеров достигнет к 2000 году и количество потребляемой воды населением ФРГ – почти четырех кубических километров в год, только коммунально-бытовое потребление воды составит в этой стране к 2000 году более семидесяти кубических километров в год в расчете на одного жителя.
А что же делать другим странам, «пьющим» воду из того же источника? Но вернемся к фактам и цифрам, называемым самими западногерманскими учеными, занимающимися экологическим прогнозированием. Дефицит чистой воды особенно заметен в земле Северный Рейн-Вестфалия, где питьевое водоснабжение на 25 процентов осуществляется из Рейна. Между тем воды Рейна в этом районе на протяжении 160 километров принимают такое же количество сточных вод, как и с прирейнской территории ФРГ, расположенной выше по течению, то есть на расстоянии 700 километров. Всего в Рейн в ФРГ сбрасывается до 12 миллиардов кубических метров сточных вод, что составляет 17 процентов поверхностного стока страны. Основные загрязнители рейнских вод – химическая (51 процент объема сточных вод) и целлюлозно-бумажная (31 процент) отрасли промышленности. С 1949 по 1975 год загрязнение реки увеличилось в 20 раз.
На 2000 год в ФРГ прогнозируется дальнейшее увеличение объема сточных вод: в промышленном секторе – до 19,2 миллиарда кубических метров (против 8,2 миллиарда кубических метров в 1965 году), в сельскохозяйственном – до 1,2 миллиарда (против 0,5 миллиарда), в коммунально-бытовом – до 5,5 миллиарда кубических метров (против 2,0 миллиарда кубических метров). Всего же в реки ФРГ в 2000 году будет сброшено 25,9 миллиарда кубических метров стоков. Это в 2,4 раза больше, чем в 1965 году. Общий же уровень загрязнения природных вод в 2000 году в шесть раз превзойдет уровень 1960 года. И хотя специально разработанная экологическая программа правительства ФРГ предусматривает на очистные сооружения в стране весьма внушительные цифры (уже в следующем, 1985 году они составят 65 миллиардов марок), а к 2000 году по сравнению с 1960-м увеличатся в шесть раз, вряд ли природа этой страны окажется в более выгодных для восстановления экологических сил условиях. Оно и понятно: темпы развития индустрии здесь столь быстры, что даже с помощью человека природе им не противостоять. И ученые ФРГ, равно как и их коллеги из соседних государств, все настойчивее высказывают тревогу по поводу того, не станут ли воды западногерманских рек к 2000 году попросту мертвыми, отравленными?
Человечество, которому далеко не безразлично состояние природы его отчего дома – земли – и собственное здоровье, обязано следить за тем, чтобы нерукотворные ее силы не оказались подорванными. И прежде всего двумя самыми опасными факторами: его собственным техногенным воздействием на природу и повышенными дозами радиоактивности. Способов для осуществления такого контроля существует много. В разных странах они разные. Но, несмотря на относительную точность показаний контролирующих приборов, они остаются все же приборами. А вот живой организм способен не только фиксировать количество радиоактивных элементов в нем, но и реагировать на их избыток соответствующим образом. Так наш организм постоянно усваивает радиоактивные вещества из окружающей среды. К примеру, радиоактивный изотоп калия-40 (один из трех изотопов природного калия). Но в мягких тканях человека содержится до 0,2 процента калия, что в переводе на язык облучения соответствует 19 миллиардам в год. Прибавьте сюда еще облучение от радиоактивного углерода-14 (1,6 миллиарда в год), образующегося непрерывно под действием космических лучей в атмосфере, да воздействие урана, радия, тория земных недр, облучающих того же человека обходным путем (то есть сначала проникая в почву, из нее – в растения, затем – в организм травоядных, и не в малых дозах: наши костные ткани получают от них «подарок» в 6 миллиардов в год), и получится, что самые разные естественные источники радиоактивности, постоянно функционирующие на земле, дают в совокупности общую весьма солидную цифру – 100 миллиардов, или 0,1 рад в год. Это, так сказать усредненная цифра. В некоторых регионах планеты она гораздо выше – до 4 рад. Но с появлением искусственных радионуклидов появилось и огромное количество радиоактивных изотопов самых различных атомов. А значит, и радиационная опасность для жизни неизмеримо возросла. Но «для жизни» не означает только для человека, а и для окружающей среды, обеспечивающей ему эту жизнь. И здесь выясняется интереснейшая особенность: одни живые организмы погибают даже при весьма незначительных дозах радиации, другие живут, размножаются и стимулируют свою деятельность при ее повышенных дозах. Больше того, они по-разному аккумулируют в себе различные радионуклиды. А это значит, что они могут стать биоиндикаторами, помогающими контролировать радиоактивную загрязненность биосферы. Применение такого биологического метода контроля за радиоактивной безопасностью планеты дало удивительные результаты. Так, к примеру, оказалось, что радионуклиды цезия-137 и стронция-90, появившиеся в биосфере планеты после серии испытаний атомного оружия в атмосфере, накапливаются в организме разных животных и, главное, обитающих в разных экологических системах. Выяснилось, что все животные, питающиеся грибами и лишайниками, концентрируют цезий-137. Вот почему у людей, питающихся мясом северных оленей на Крайнем Севере, отмечено повышенное содержание цезия-137.
Повышено содержание стронция-90 и в организме животных, имеющих кальциевые скелеты, – у наземных позвоночных, моллюсков, многоножек-кивсяков. Но из-за малой общей биомассы этих животных в наземных экосистемах невелико и общее количество связываемого ими радионуклида. Например, количество стронция-90, проходящее через пищевые цепи животных в лесостепной дубраве, составляет всего около 0,6 процента общего количества стронция, ежегодно распадающегося на той же территории за счет естественного радиоактивного распада. Сравнительно невелика и степень концентрирования радионуклидов животными на суше. А концентрация радионуклидов в почве почти всегда больше, чем в организме животных.
Один из путей контроля за действием излучений и излучателей на живую природу – всесторонний анализ структуры и динамики сообщества живых организмов. Они исключительно благодарный объект радиоэкологических исследований, ибо их видовая насыщенность велика, разнообразны экологические связи, а сами животные наиболее чувствительны к действию радиации, ведь они конечные звенья в пищевых цепях и концентрируют в своих организмах многие радионуклиды. Роль наземных животных в перераспределении искусственных радионуклидов в биогеоценозах количественно сравнима с переносом их ветром или атмосферными осадками. А если учесть, что на долю животных приходится основная часть видового разнообразия живой природы и именно среди них находятся наиболее чувствительные к действию ионизирующей радиации формы живых организмов, то станет понятным, почему в некоторых случаях охрана окружающей среды в условиях повышенного фона ионизирующих излучений в первую очередь предусматривает охрану животного мира.
Биологическая опасность радионуклидов, находящихся в биосфере, зависит, как мы уже отмечали, от их количества, характера излучения, периода полураспада, физического состояния и химических соединений, в которых они заключены, способности организмов накапливать и выводить эти радионуклиды.
А свойства радиоактивных изотопов определяет распределение их по органам и тканям животных. Например, до 90 процентов аккумулированных организмом радиоактивных изотопов стронция и кальция накапливается в скелете. Цезий-137 откладывается главным образом в мышцах и внутренних органах. Радиоактивные фосфор и сера распределяются в организме относительно равномерно. В печени и почках локализуется кобальт-60, а радиоактивный йод-131 депонируется исключительно в щитовидной железе, в мягких тканях значительно больше, чем в скелете животных урана-238.
При воздействии ионизирующих излучений изменяется продолжительность жизни, плодовитость и другие жизненно важные функции животных. Даже сравнительно небольшие дозы стронция-90 значительно увеличивают смертность в популяции многих оседло живущих животных, насекомых, моллюсков, лесных грызунов и обитателей почвы. Те же дождевые черви, например, погибают в массе.
Конечно, эффект действия радионуклидов зависит и от размера загрязненного ими участка. Подвижные крупные животные с большими индивидуальными участками обитания (лоси, медведи, волки, орлы и т. д.) относительно мало контактируют с малыми изолированными пораженными участками, а значит, и потребляют не так уж много загрязненного радионуклидами корма. Мелкие животные (грызуны, насекомоядные, некоторые птицы, многие насекомые), постоянно обитающие на загрязненных территориях, вынуждены и постоянно находиться в биоценозе, а значит, и потреблять загрязненную пищу, во всяком случае, в период выведения потомства. Однако из-за неравномерности выпадения радионуклидов на суше даже перечисленные животные в пределах своего индивидуального участка сталкиваются с разными уровнями загрязнения.
Вот почему различают три группы животных, контактирующих с загрязнением: случайно, временно или постоянно. Однако у животных, обитающих на одной и той же территории, степень контакта с радиоактивными веществами может быть также неодинакова. Достаточно одного примера: дождевые черви заглатывают почву, содержащую радионуклиды, в том числе и те, которые не поглощаются корневыми системами. Именно поэтому они так сильно и облучаются от пищевого комка.
Конечно, для экологического прогнозирования последствий действия ионизирующих излучений на зооценоз необходимо точное знание распределения дозовых нагрузок в окружающей среде. Неравномерность распределения излучателей, а значит, и доз облучения, например, при повышенном содержании в среде естественных и искусственных радионуклидов приводит к избирательному поражению только отдельных экологических групп животных. Поэтому наблюдаемые в естественных зооценозах эффекты действия ионизирущей радиации не всегда непосредственно связаны с радиочувствительностью, а осуществляются через очень неравномерные в пределах биогеоценоза дозовые нагрузки. Обусловлено это ярусным строением ценоза, обитанием организмов в определенных местах, а также их способностью к вертикальной и горизонтальной миграции. Высокая численность почвенных животных, их видовое разнообразие, продолжительный период развития у многих форм и тесный контакт с загрязненной радионуклидами средой позволяет успешнее всего использовать их для целей биоиндикации. А состояние среды, как известно, служит одним из показателей условий жизни населения. И оценивать условия жизни, безусловно, надежнее всего с помощью системы экологического контроля, системы глобальных масштабов, охватывающей если не все регионы, то хотя бы основные, наиболее уязвимые.
Идея такой системы не нова: английский эколог Чарлз Элтон ратовал за специальную экологическую службу еще в 1942 году, И нужно сказать, что кое-что для ее реализации в мире уже делается. Так, многие десятилетия существует, в том числе и в нашей стране, служба контроля за численностью и распространением сельскохозяйственных и лесных вредителей. Давно отлажен контроль за динамикой численности видов животных, имеющих эпидемиологическое значение, например за грызунами в очагах чумы, птицами – распространителями арбовирусов и т. д. Собираются и систематизируются сведения о численности и распространении охотничье-промысловых зверей и птиц. Подобные данные накапливались многими десятилетиями. Так что предпосылки для создания системы экологического контроля за состоянием окружающей человека среды и ее биологическими ресурсами сейчас имеются.
Что же касается работ по биоиндикации, то они влились естественной составной частью в исследования, проводимые в биосферных заповедниках, экологической кооперацией в рамках СЭВ (моделирование видов животных в ареале, составление списков сохраняемых животных и мероприятий по осуществлению такой охраны, исследования по биомониторингу, не говоря уже о чисто прикладных работах).
А поскольку ионизирующее излучение – один из очень многих физических факторов, воздействующих сегодня на животных, их дифференцированный анализ, установление не только итогового суммарного эффекта, но и вклада в этот эффект каждого фактора в отдельности представляется сегодня одной из насущных задач науки, стоящей на службе здоровья и жизни на планете Земля.
К сожалению, прогнозы не обнадеживают. По крайней мере, как считают ученые западных стран, индустриальная нагрузка на природную среду уже к 2000 году возрастет в 2,5–3 раза. Оно и понятно: какие суперочистные сооружения могут защитить ее от индустриального воздействия, если каждые 12–15 лет энергетические мощности земли удваиваются. Если в густонаселенных районах земного шара с высокой концентрацией промышленности и населения (например, ФРГ) количество вырабатываемой энергии уже сегодня соизмеримо с энергией радиационного баланса, если атмосфера планеты постоянно засоряется углекислым газом. Причем с удивительной быстротой наращивая темпы: в 1980 году концентрация углекислого газа в атмосфере возросла на 5 процентов по сравнению с 1958 годом. Это чревато возникновением так называемого «парникового эффекта». А он, по расчетам советских исследователей, при удвоении количества углекислого газа в атмосфере может повысить среднюю планетарную температуру на полтора-два градуса.
Биосфера в опасности! – это очевидно. И это без ядерных войн – глобальных или локальных, просто вследствие неразумного хозяйствования, губительного отношения к своей матери-природе.
Где искать выход из создавшегося положения, чем и как лечить израненную природу? Выявлением очагов опасности? Созданием службы контроля? Безусловно. Но, пишет Э. Экхольм, сотрудник американского «Института всемирной вахты» (есть в США такая исследовательская организация, анализирующая различные глобальные проблемы современности), «выявить опасности, таящиеся в окружающей среде, разумеется, значительно легче, чем устранить их… Ключ к решению вопроса о влиянии окружающей среды на здоровье – в недрах экономики, политики, образа жизни и взаимоотношений людей с их естественным окружением». И хотя, работая над книгой, сам Э. Экхольм считал главным своим будущим читателем ученых (экологов и медиков), директор-распорядитель Программы ООН по окружающей среде Мостфа К. Толба, рекомендуя эту работу общественности, особо подчеркнул в предисловии, что она «представляет интерес для государственных деятелей».
Что ж, нельзя не разделить этой точки зрения: политика экологическая – неотъемлемая часть общей политики конкретного государства. Так, еще 13 лет назад, когда проблема загрязнения окружающей среды была уже в Соединенных Штатах достаточно острой, бывший президент США Р. Никсон заявил, что не допустит, чтобы забота о сохранении среды могла повлиять на стабильность существующей системы. И это было сказано всего год спустя после принятия закона о государственной политике в области охраны окружающей среды. А современный американский президент поступил еще более «решительно», рекомендовав государственному департаменту прекратить выделение средств на реализацию Программы ООН по окружающй среде. Между тем природоохранные меры (их разработка и реализация) должны стать в наши дни не только заботой отдельного государства, но и межгосударственной проблемой.
Взять хотя бы атомные предприятия. Они (и с этим предложением наша страна входила в ООН) должны стать предметом особой заботы правительств, государств и международных организаций, а всякие попытки их разрушения должны рассматриваться как тягчайшее преступление против человечества и сравниваться с использованием ядерного оружия, независимо от того, каким способом это делает агрессор, и со всеми вытекающими из этого положения ответными мерами.
Развитие мирной атомной промышленности несовместимо с военными целями: нельзя допустить, чтобы действия, направленные на благо человека, обратились в свою противоположность.
Приведенные выше соображения в определенной степени могут быть распространены и на другие виды промышленности, и прежде всего на такие, как химическая, медицинская, биологическая. Они имеют сугубо мирную направленность: изготовление лекарственных препаратов, химикатов для борьбы с вредителями сельского хозяйства и тому подобное. Такие предприятия в своих технологических цепочках содержат и яды, и бактерии, опасные для человека. При внезапном разрушении они могут отравить окружающую среду. А выбор цели атомного взрыва способен многократно усилить их пагубное воздействие.
Ядерной войны не должно быть: ни глобальной, ни ограниченной, ибо разумно использовать такое смертоносное оружие, как ядерное, невозможно. Оно несет гибель и человеку и природе. Борьба за разоружение – это действие, обращенное не только в будущее, а вопрос, обращенный непосредственно в день сегодняшний.
Сокращение военных бюджетов – шаг осязаемый, а не абстрактный, каким являются общие рассуждения о преимуществах того или иного вооружения. Это настолько важный шаг, что от того, сделаем мы его сегодня или нет, зависит будущее людей, земли, природы. В самом деле, смешно было бы думать, что экстремистская концепция «первого удара», основывающаяся на том, что одна сторона настолько сильней другой, что, начав войну, избежит возмездия, не лжива в своей основе. Ну, предположим, противник и в самом деле не будет в состоянии ответить ударом на удар. Но разве ветрам запретишь дуть в сторону «победителя», разве реки, нередко берущие истоки с территории «покоренных», потекут от этого вспять, чтобы не занести радиацию на территорию агрессора? Зараженные радионуклидами воды отравят почву, растения, животных, людей и страны-агрессора. «Пепел смерти» выпадет на города, отстоящие на тысячи километров от тех, над которыми поднимутся атомные грибы. Мы можем только прогнозировать, предполагать, моделировать те страшные последствия, которыми чревата катастрофа. А они способны оказаться многократно губительней, чем мы их себе представляем. Примеров такого «расхождения» между прогнозированием и реальностью знает в великом множестве и история и современность. Предполагала ли, скажем, Япония, совершавшая в послевоенные годы «экономический скачок», что, заняв ведущее место в капиталистическом мире, она в те же сроки обретет печальную славу «наиболее загрязненной страны мира»? Причем ущерб, наносимый загрязнением той же экономике страны, растет поражающими темпами. Уже в 1970 году он составлял более шести триллионов иен. Как образно выразился японский ученый Ю. Ивати, «в начале 60-70-х годов загрязнение в стране изменило характер распространения от точечного к линейному и к концу 60-х годов – к площадному». И это неудивительно. Потому что именно в капиталистических странах деградация окружающей среды проявляется особенно страшно. Так, на долю США, Японии, ФРГ приходится сегодня около 40 процентов всемирного загрязнения. И, разумеется, оно не скапливается только в этих странах, а «экспортируется» во многие страны мира ветрами, осадками, реками и морями. То есть уже сегодня наблюдается некоторая аналогия тому, что произойдет с агрессором в случае нанесения им «первого удара» в атомной войне. Разбуженный гнев природы бумерангом вернется к тому, кто его «бросит» в противника.
Защита биосферы от загрязнений – часть общечеловеческой, глобальной проблемы борьбы за мир и счастье родной планеты.