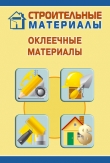Текст книги "Итальянская новелла. XXI век. Начало"
Автор книги: авторов Коллектив
Соавторы: Франко Арминио
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 8 страниц)
Педро тихо заплакал. Антонио и дети еще доставали свои вещи из машины, а Ева была уже далеко. Она забежала в дом и стала искать тетради пса. Но их не было, нигде. Быстро и яростно спустившись по лестнице, она подбежала к Антонио, который копался с урной и все никак не мог решить, что с ней делать: оставить в саду или отнести в дом, как трофей. С безудержным бешенством она закричала ему:
– Где тетради?
– Какие? Собачьи?
– Да, именно эти.
– Я их сжег, со всеми его вещами, и книги тоже. Ты что, хотела, чтобы все это так и осталось везде валяться. Теперь мы чисты, абсолютно чисты. Мы похоронили собаку, а собаки не читают и не пишут. Или может быть, это был не пес? Жил как пес – значит пес, – заорал ей в ответ Антонио. Стелла сказала: «Какие книги? Наш пес умел читать?»
Ева резко оттолкнула Стеллу, которая встала между родителями, и, шагнув к Антонио, попыталась его ударить. А он заорал на всю улицу, что она сучка, просто сучка, а потом – бросившись за руль – что теперь-то уж он сделает свой поворот, и посмотрим еще на стоянку или, мать твою, в другую сторону – на свободу. Со всей этой злобой он резко обогнул угол, за которым в последний раз встретил пса, и не заметил, что Педро в это время подошел к тому месту, где лежал Дэни, чтобы найти его следы и доказать себе и другим, что пса убил его отец. И в этот раз Антонио мог заметить с высокой палубы своего флагманского корабля, что одна маленькая волна, нарушила олимпийское спокойствие лазурной и гладкой поверхности мира, по которой он вел свое судно. Всего лишь тонкая морщинка на глади вселенной. Флагман был специально сконструирован так, чтобы оставлять незаметными все неровности дороги. С технической точки зрения Антонио припарковался отлично, может быть, как никогда прежде, точно поставив машину в белый прямоугольник, который он сам для себя начертил, так, чтобы его размеры точно совпадали с габаритами автомобиля. «Прямо в точку», – сказал Антонио.
Злоба его утихла. В конце концов, он всегда знал, что Ева – истеричка. Надо оставить ее в покое, чтобы она могла дать волю своим чувствам, и тогда завтра будет обычная среда, день, когда уже позади остались и воскресное восхождение, и скачок понедельника и ровная гладь вторника, и неделя уже постепенно начинает идти на убыль, чтобы потом пойти вхолостую.
Флавия Гандзенуа
Анестезия
Мы едем уже несколько часов. Машина движется то быстро, то медленно, как мне захочется. Мелькание трассы уничтожает, разрушает все вокруг. Городов не существует, они невидимы, всего лишь названия на полустертых табличках. Деревушки, разбросанные вдоль дороги, приближаются и удаляются. Целая вереница, рой огоньков, мельтешащих перед глазами.
Я торможу, останавливаюсь около въезда на платную автостраду, расплачиваюсь. В ожидании сдачи смотрю на тебя. Ты сидишь рядом со мной, уставившись куда-то вдаль. Смотришь, не отрываясь, даже когда я закрываю тебе глаза рукой.
Это так с момента аварии. Конец июля, прекрасный день, палящее солнце, слипшиеся леденцы. Прекрасный день для прыжка в воду, синхронно, с одного и того же места. Выныриваю только я.
Сегодня вечером я осознала, что случилось. Как будто, пока мы спали, кто-то чужой пробрался в дом и все переставил. В первое время мне часто это снилось: сколько бы я ни старалась, я никак не могла ничего найти.
Контролер поднимает шлагбаум. Машет рукой – можно ехать. Я беру чек, выезжаю на дорогу к побережью. До него еще десятки и десятки километров, моря пока не видно, но я слышу его запах и шум – этот безутешный плач, который до сих пор будит меня по ночам.
Сейчас я уже не помню, как назывался тот пляж. С тех пор, как все случилось, я делаю вид, что этого места не существует. Но вот вчера у меня был день рождения, и на сдачу мне дали билет на автобус. Я подумала, что это знак, знак от тебя. Так что, когда медсестра ушла разговаривать с главным врачом, я схватила тебя и отнесла в машину.
Я остановилась у первого автогриля, припарковалась между грузовиками – они впечатляют, даже когда стоят на месте. Они похожи на огромных морских чудовищ, выброшенных на берег, которые тяжело дышат, раздувая брюхо.
Глушу мотор, выхожу из машины и иду в кафе. Машинально заказываю два кофе. Кроме меня у стойки больше никого нет, время – глубокая ночь, но официантка и бровью не ведет. Быстро пью и выхожу. Я сажусь на ступеньки, закуриваю сигарету, смотрю на тебя. Издалека ты кажешься просто женщиной, сидящей в машине и ждущей, но это всего лишь обман зрения. Я наблюдаю за реакцией людей, проходящих мимо тебя. Обычно никто не обращает на тебя внимания. Они оборачиваются только в последний момент, когда замечают, что что-то не так, что-то не в порядке. Я вижу мужчину, он проходит мимо тебя, потом останавливается и возвращается. Он стучит в окно. Спрашивает, все ли у тебя в порядке, и только открыв дверцу, замечает, что ремень безопасности перетянут через твой рот. Он вздрагивает, делает шаг назад и быстро удаляется.
Я тушу сигарету, возвращаюсь в машину. Смотрю на дорогу, по которой автомобили проносятся мимо нас и исчезают один за другим за горизонтом. Я блокирую двери. Открываю бардачок, достаю мазь. Ты вся в синяках. Я спрашиваю себя, больно ли тебе, больно ли хотя бы твоему телу. Втираю в твои руки арнику легкими круговыми движениями, повторяя их снова и снова, в одну и ту же сторону. Говорю себе, что если я хорошо это сделаю, если я буду считать до десяти и на счет семь ты скажешь хватит, то все будет, как раньше.
Я едва касаюсь тебя. Рисую ногтем маленькие кружки. Кожа белеет. Я пишу свое имя, обвожу его снова, но оно тут же исчезает. Закрываю глаза. Где-то далеко кто-то настойчиво сигналит.
* * *
Вчера я спала в нашей комнате. Впервые за много месяцев. Я заходила туда только чтобы взять какую-нибудь необходимую вещь, всегда украдкой, всегда второпях. Это из-за запаха. Я убрала всю твою одежду – она попадалась под руку каждый раз, как я открывала ящик. Я стирала и перестирывала, но это не помогло. Этот запах чувствуется даже в коридоре, сочится из матраса.
Я проснулась со следами твоей подушки на лице. Разделась, залезла в ванну. Я побрилась налысо. Я посмотрела на себя. Посмотрела на свое вздутое, огромное тело, занимавшее собой всю ванну – нечто инертное, лежащее на дне, покрытое крошечными пузырьками. Оно пугало меня, как будто было чужим. Ноги казались длиннее, руки больше, бедра – шире. Я села повыше. В висках стучало, на коже выступил холодный пот. Мне нужно было услышать твой голос. Я прикурила сигарету. Выбрала то же место, что и ты, на запястье, медленно затушила сигарету, и все встало на свои места.
Прошло уже шесть месяцев.
В прошлый раз я сказала тебе: «Трахни меня, сделай мне больно!» – и ты повиновалась. Мы были у тебя, как и в нашу первую ночь, когда ты спросила, хочу ли я этого на самом деле, уверена ли я.
Я вышла из ванной, села на кровать. Пускай тело высохнет само по себе. Я прислонила руку к стене и направила свет на обгрызенные до крови ногти. Тебя раздражало то, как я облизывала пальцы, до какого состояния доводила их. Ты все время отдергивала мне руки ото рта.
Мне нужно было сделать то же самое, нужно было выдернуть тебя из своих мыслей. Твои следы повсюду. Я иду в магазин и всегда покупаю что-то лишнее – твои энергетические напитки, твой сыр, твои мюсли. Я пишу список того, что нужно купить, строго следую ему, но в итоге все равно все путаю. Я обнаруживаю твои кольца, твой аспирин в сумке, в карманах брюк и пальто. Сначала я убирала их в ящики, вглубь шкафа, но потом перестала. Что бы я ни делала, твои вещи перемешивались с моими и то и дело попадались мне на глаза. Я сказала себе, что если держать их на виду и долго смотреть на них, то они исчезнут, растворятся.
Я купила книги, которые ты любила, подчеркнула строки, которые ты читала мне. Я носила только ту одежду, которую ты мне подарила. Я попросила консьержа снова повесить табличку с твоим именем у двери – он посмотрел на меня, как на человека, который так ничего и не понял. Которому нужно все снова рассказать с самого начала, потратив еще кучу времени. Я достала из шкафа твою чашку, пила и ела из нее, но это не помогло. Ты не исчезла, не растворилась.
Я свернулась калачиком на полу и подумала, что не могу выкинуть твои вещи, но и держать их у себя тоже не могу. Первый раз с тех пор, как все случилось, я не знала, что делать с тобой, с собой, с постелью, в которой я не спала уже несколько месяцев. Я думала, что, казалось, эти месяцы не кончатся никогда, и что они пролетели как один миг. Улетели в пропасть. И на дне этой пропасти – ты. А я сидела на краешке, болтая ногами. Я только это и делала целыми днями. Сидела и болтала ногами.
* * *
Меня ослепляет свет фонаря. Он то приближается, то отдаляется за мутным стеклом. Проникает в машину, шарит по салону. Обыскивает. Я выпрямляюсь на сидении. Это патруль. Наверное, мы выглядим подозрительно, уже несколько часов стоим на площадке. Мужчина стучит по капоту, что-то кричит. Пытается понять, есть ли в машине кто-нибудь. Пробует открыть дверь, злится, он похож на раненого зверя. Я сигналю. Стук стихает, свет фонаря растворяется вдали.
Мне нужно просто завести мотор и уехать, но я не могу пошевелиться, не могу говорить, дыхание насекомым застряло у меня в горле. Я беру твою руку и просовываю себе между ног, думаю о том, что мне хотелось бы почувствовать на себе твой взгляд, прямо сейчас, чтобы ты смотрела на меня – вот чего мне больше всего не хватает. Я закрываю большим пальцем обручальное кольцо, пытаюсь понять, что я чувствую, сколько я без этого продержусь.
Очень холодно, у тебя окоченели пальцы. Я беру их в свои, подношу к губам и засовываю в рот. Сижу так, с твоими пальцами во рту, долго, потом с силой отталкиваю тебя. Я не могу прикасаться к тебе, смотреть на тебя, я чувствую почти отторжение. Я хотела бы, чтобы ты исчезла. Чтобы твое имя было всего лишь именем, просто словом, чем-то безобидным. Чтобы больше никто не спрашивал меня о тебе, чтобы меня оставили в покое матери, отцы, друзья, родственники. Как дела? Тебе нужно выкинуть всю эту историю из головы. Дела – как? Дела – дела – дела.
Я резким движением отстегиваю ремень безопасности. Хватаю тебя за рубашку и грубо разворачиваю к себе.
– Посмотри на меня, черт возьми, посмотри на меня! – кричу я.
Ты не двигаешься, даже не шевелишься, потом возвращаешься в прежнее положение, прямая, как бревно.
Я отпихиваю, отталкиваю тебя от себя. Завожу мотор и трогаюсь. Поворачиваю. Давлю на газ, выезжаю на встречную полосу, направляю машину в первую же машину, едущую мне в лицо. Я еду прямо на нее, не пропускаю, но она уворачивается и проскакивает мимо. Даю по тормозам. Машина наклоняется, переворачивается несколько раз, перескакивает через ограждения и останавливается.
Только открыв глаза, я понимаю, что мы на эстакаде. Внизу, под нами – несколько полуразрушенных коровников и пейзаж, рассыпающийся на горизонте. Я роняю голову на руль, и меня выворачивает наизнанку, хотя я не ела много часов. Меня рвет на себя, на рубашку, на руки, из меня выходит все: меня рвет тобой.
Только сейчас начинает существовать внешний мир, и он настоящий. Он плотно прилегает к лицу, как маска. Я различаю каждый звук, каждый шум. У меня тончайшая кожа, как мембрана. Как будто надеваешь на голову пакет, и он то наполняется воздухом, то снова сдувается. Он прилипает к небу, к губам. Я смотрю на тебя. Дышу. Я – рыба в целлофановом пакете.
Другого цвета
Лео внимательно смотрит на поворот в конце улицы, из-за которого каждый день появляется машина его матери. Он не знает, что там, за углом, потому что ему строго запрещено выходить за калитку школы.
На улице холодно, и Лео примостился на школьном крыльце, в единственном на много километров вокруг островке солнца.
С ранцем под ногами, прижав мячик к груди, он начинает считать. Два, два с половиной, два и три четверти… на счет три из-за угла выезжает машина – но она не та, она другого цвета. Лео встает, снова садится, потом снова встает и подкрадывается к ржавой калитке. Выглядывает. Теперь переулок кажется ему длиннее и еще темнее. Он делает маленький шажок вперед, но тут же бегом возвращается на крыльцо. Он утыкается носом в коленки и думает о том, что если за ним до сих пор никто не приехал, значит случилось что-то ужасное. Машина улетела в кювет, или маму сбил автобус, или дом взорвался. Он думает, что все умерли и в живых остался он один. Он чувствует себя очень, очень уставшим, у него кружится голова. Он пытается быть сильным, но не может унять дрожь.
– Ты Лео, да?
Лео приподнимает голову. Трет глаза тыльной стороной ладони. Он уже знает, что ему собирается сказать школьный сторож, но хочет быть взрослее своих шести с половиной лет, поэтому собирается с силами и шепчет:
– Я знаю, мама умерла.
Сторож молчит, смотрит на него с серьезным видом, как это обычно бывает в кино, а потом улыбается ему.
– Как это – умерла? Она придет, не волнуйся. Просто опаздывает. Ты же знаешь, какие эти женщины.
Лео не понимает смысла этих слов, в них есть что-то недоброе, не имеющее ничего общего с его ухоженными волосами, которые мама заботливо расчесывает ему утром и вечером, с тетрадками, аккуратно разложенными в папке по предметам и цветам, с домашним обедом и всегда вовремя готовым ужином. Это совсем другая история. Не про него и не для него.
Сторож наклоняется к нему, берет его ранец.
– Вставай, тут холодно, пошли со мной.
Лео смотрит на островок солнца, который теперь стал просто пятном, почти точкой под его ногами. За оградой все понемногу начинает выцветать. Лео встает, бросает последний взгляд на дорогу и бежит в школу.
– Откуда ты знаешь, как меня зовут? Я вот не знаю, как тебя зовут.
Сторож, не оборачиваясь, кладет ранец на стол.
– Ты правда меня не помнишь?
Лео молча качает головой, а сторож думает, что должен бы чувствовать облегчение, что такое с каждым может случиться, и его это все вообще не касается, но у него не получается. Он снимает теплую шерстяную куртку.
– Не стой столбом в дверях, заходи.
Лео подходит к холодильнику, рассматривает разноцветные магниты.
– Красивые, да? Можешь взять один, какой тебе больше всего нравится.
Лео еще сильнее прижимает к груди мячик и делает шаг назад.
– Слушай, ты, наверное, голодный? Я могу сделать тебе бутерброд, если хочешь. Еще у меня есть кексы.
– Мне нельзя. Мама сердится, когда я ем что-нибудь не дома.
– Мама права.
Лео знает, что так нельзя, что невежливо задавать слишком много вопросов, но ему страшно, а когда страшно, он не любит быть один.
– Почему ты живешь тут? Твоя мама тоже умерла?
– Твоя мама не умерла, Лео, говорю же тебе.
– А почему тогда она не едет? Я хочу домой.
– Понимаю.
– Может, ты меня отвезешь?
– Это ты плохо придумал.
– Я близко живу.
– Не уговаривай меня, Лео.
– Тут всего две минутки ехать.
– Я же сказал, нет!
Лео смотрит на него и понимает, что сделал что-то плохое, но не может понять, что именно. Он садится на краешек дивана.
– Сейчас я не могу. Мне нужно сделать обход школы. Я тебя попозже провожу, ладно?
Лео кивает, глядя в пол. Сторож садится рядом с ним.
– Может, сходишь со мной? Видел когда-нибудь пустую школу?
– Тебе не страшно здесь одному?
– А я тут не один, Лео, я с тобой.
Лео чувствует, что это неправильный ответ, что в нем есть какая-то фальшь, но ему все равно приятно это слышать.
– А тебе страшно?
Лео качает головой, но знает, что это неправда. Ему страшно, так же, как в то утро, когда он перелез через школьную ограду, чтобы взять мяч, улетевший со двора.
Сторож наклоняется, поднимает с пола какую-то бумажку и кладет в полиэтиленовый пакет.
– Ты знаешь, что на Рождество я сильно заболел? Мама очень испугалась.
Сторож замирает, сжав пакет в руке, и думает о том, что зря он все это сделал. Не нужно было ему выходить на крыльцо, брать этот ранец, нужно было просто закрыть двери и вернуться домой, как обычно.
Лео подходит к нему ближе.
– Если я расскажу тебе один секрет, ты мне обещаешь, что никому не скажешь?
– Обещаю.
Лео колеблется, но потом набирается смелости.
– Я знаю, что это неправильно, что такие вещи не говорят, но, когда я заболел и мама плакала, я радовался.
Сторож молчит. Смотрит на него тяжелым и очень грустным взглядом, как в кино, когда случилось что-то ужасное, и Лео чувствует, что заслужил этот взгляд. Бывает, кто-нибудь смотрит на тебя и ничего не говорит, потому что тут ничего и не скажешь.
– Ты уезжаешь?
– Да, завтра утром.
– Почему?
– Сегодня мой последний день. Завтра я ухожу на пенсию.
Лео не знает, что такое «пенсия», но знает зато, что когда пакуют так много коробок, значит, уезжают далеко-далеко и никогда больше не вернутся, как его мама, когда они переезжали в другой город.
– Я ушел на пенсию в прошлом году, знаешь? Мы раньше жили в другом месте, но потом папа нашел другую работу и мы приехали сюда. Я не хотел на пенсию, и мне было грустно. А тебе?
Сторож улыбнулся.
– Это немножко другое, но мне тоже грустно.
– Тогда почему ты не останешься здесь?
– Не могу. Это не от меня зависит.
Лео молчит. Сторож отрывает зубами кусок клейкой ленты и начинает запечатывать коробки.
– Но ведь даже если ты уедешь, ты же все равно придешь на мое выступление? Учительница говорит, я самый лучший в классе.
Сторож замирает со скотчем во рту и думает о том, что нужно так мало, чтобы все изменить. Если бы только он не отвлекся, если бы остался во дворе, если бы не был в то время так молод и всегда уверен в себе, если бы его маленький мир не был таким ограниченным, Лео был бы сейчас в другом месте, как, впрочем, и все остальные.
– Ну так что, придешь на выступление? Обещаешь?
– Это потому что я плохо себя вел?
Сторож закрывает холодильник. Он подходит к Лео, склонившемуся над учебником.
– Что ты такое говоришь?
Лео пожимает плечами. Сторож смотрит на него, на его лопатки, поднимающиеся при каждом вдохе. Они дрожат и двигаются, как будто он вот-вот взлетит. Он смотрит на него и думает, что Лео гораздо меньше, чем он его помнит. Все эти годы он видел его только со спины, сидящим на школьном крыльце с прижатым к груди мячом. Он сотни раз проходил мимо, но ни разу не разговаривал с ним. Он наклоняется к Лео.
– Когда это ты себя плохо вел?
Лео качает головой, трет глаза. Он хочет есть и спать, и он устал ждать маму, которая никогда не приедет, потому что, он знает, она умерла, и вообще, он не понимает смысла всего этого.
– Не хочешь мне говорить? Что это, еще один секрет?
Лео закрывает глаза и знает, что ему надо быть взрослее и что надо перестать шмыгать носом, но у него не получается.
– Ну ладно, не важно. Скажешь, когда захочешь. Давай, заканчивай с домашним заданием.
Лео сидит, подпирая подбородок рукой и болтая ногами, потому что не достает до пола, даже если вытянет мыски, и ждет не дождется, когда подрастет; набравшись смелости, он шепчет:
– Это потому что я плохо себя вел? Потому что я перелез через ограду, поэтому мама не приезжает? Это я виноват, да?
Сторож молчит и думает, что он все время задает себе тот же самый вопрос, каждый день с тех пор, как все случилось. Он хотел бы сказать, что до сих пор слышит визг тормозов у себя за спиной, смешанный с его словами и со словами всех остальных. Сказать, что он пытался, но не успел. Что ему казалось, что ступенек мало, всего несколько штук, но их было бесконечно много. Всего шесть ступенек, слишком высоких для школы, когда их перепрыгиваешь через одну. Шесть ступенек, шесть лет, Лео; машина, выезжающая из-за поворота, но это не та машина, она другого цвета. Он хотел бы сказать ему, но ничего не говорит. Он садится на коробку и смотрит вдаль, в окно. Смотрит на лестницу и на Лео с ранцем под ногами и мячом, прижатым к груди, и видит, как все понемногу начинает выцветать.
Джорджо Фалько
Происхождение бульона
После стартовой точки покоя на соединении двух окружных дорог при въезде на платную магистраль асфальт превращается в четырехполосную автостраду. Лучи света давят на нас с двадцатиметровой высоты, мы смещаем взгляд на несколько градусов влево, туда, где ветровое стекло переходит в окно, чтобы понять, откуда идет запах. Запах опережает зрительный образ. В других машинах происходит то же самое. В австрийском грузовике, управляемом словаком-дальнобойщиком; в скорой помощи с миланскими номерами, где за рулем – волонтер, полгода назад потерявший работу; в желтом фургоне с логотипом, в котором частник перуанец доставляет двадцатый за день заказ; в белом фургончике, где ссорятся два электрика-кокаиномана; в седане служащего, разочарованного тем, что он не вошел в новый руководящий состав фирмы; в малолитражке, которую ведет Ивания, женщина сорока двух лет. Все мы едем закупоренные, отгороженные закрытыми окнами, если в машине есть кондиционер, либо опускаем стекла, чтобы нюхнуть горячих выхлопов над асфальтом, – и в том, и в другом случае мы чувствуем вездесущий промышленный аромат. Он переступает невидимый порог в ноздрях, пробирается в отдаленный уголок мозга и превращается в зрительный образ.
Итак, Ивании восемнадцать лет. Без четверти восемь вечера, она смотрит с родителями телевизор. В памяти Ивании возникает отец, рабочий пищевого комбината, чьи корпуса вытянулись вдоль дороги. Семья живет в двух километрах от предприятия. Когда отец рассказывает о своей работе, он все время повторяет слово «комбинат». Основанный сразу после Второй мировой войны, комбинат (теперь собственность испанского холдинга) стал известнейшей в Италии производственной компанией, изменившей стратегические подходы с целью предложить потребителю качественную продукцию, опираясь на постоянные инновационные исследования при сохранении вкуса традиционной итальянской кухни. Пищекомбинат славится своими бульонными кубиками, но также производит консервированные помидоры, рагу, соусы, блюда быстрого приготовления (ризотто, пюре, супы), растительные масла, песто, тунец, чай и ромашку в пакетиках – в общем, весь ассортимент, который наполняет фантазии и быт итальянских семей. Предприятие площадью двести двадцать тысяч квадратных метров было построено на средства городка, на основании деклараций о доходах причисленного к десяти самым богатым коммунам Италии.
В памяти Ивании свет от вечерней желтой лампы падает на стол. Семья только что закончила ужинать. Мать вытряхивает во двор крошки со скатерти, на несколько секунд оставив балконную дверь открытой, а когда возвращается на кухню, запах комбината уже наполняет дом, но Ивания почти не слышит его слабой нотки, постоянно звучащей в складках скатерти. И так же пахнет ее отец, когда возвращается домой в рабочем комбинезоне, а Ивания в это время что-то подчеркивает в школьном учебнике. Семья только закончила ужинать, по телевизору идет реклама комбината. На актере костюм иллюзиониста: черный фрак, белая рубашка, черный цилиндр, белые перчатки. Он снимает правую перчатку и использует ее как прихватку, чтобы снять с кастрюли раскаленную крышку. Вода кипит, актер вдыхает пар и произносит: «Бульонный кубик делает жизнь вкуснее!» Потом актер облизывается, трет большой палец об указательный, намекая и на нечто аппетитное и на деньги. Для участия в большом конкурсе достаточно купить кубик, заполнить и отправить почтовую открытку. Каждый понедельник после вечернего фильма у отца Ивании есть шанс стать миллионером с помощью бульонного кубика, который он сам делает и сам же фасует в двух километрах от дома. Бульонный кубик – вечный спутник их семьи. Отец трудится над ним в три смены, и благодаря конкурсу может стать миллионером прямо во время вечерней смены; мать готовит с кубиком ужины, главным образом, зимой; дочка играет с пустой упаковкой для десяти кубиков. В детстве Ивания часто разглядывала коробку из-под кубиков и представляла, что это домик: крыша из красной черепицы, труба, клубы дыма и птицы в гнездах. Ей хотелось быть женщиной, нарисованной на левой стороне коробки и будто застывшей во времени: волнистые волосы только-только уложены парикмахером по последней моде, и вся она – воплощение порядка и деловитости, образцовая миланка или представительница всех других итальянок с претензиями на буржуазность, хоть и нарисована она рядом с самым что ни на есть простым бульонным кубиком. У нее каштановые волосы с рыжиной, золотистые блики на них возвращают мысли к бульонному кубику, и кажется, будто волосы сделаны из того же сырья, что и кубик, они – его продолжение. Раньше женщина на упаковках в левой руке держала ложку, а в правой – тарелку с бульоном. Несколько легких штрихов обозначали вермишель, а одиннадцать красных пятнышек на поверхности создавали иллюзию глубины тарелки. Женщина подносила ложку ко рту – красный лак на ногтях, белозубая улыбка в обрамлении губной помады. Загорелая тонкая шея облагорожена жемчужным ожерельем. Восемнадцатилетняя Ивания на кухне. Желтый свет стремительно поглощен пустыми тарелками, в которых еще недавно был бульон, рядом лежит кожура от фруктов, мать убирает со стола, а отец ищет по телевизору что-нибудь интересное. Женщина на упаковке вдруг кажется немного другой по сравнению с той, из детства.
Ивания съезжает с автострады, долго едет вдоль здания комбината. Серый километровый забор на этом отрезке пути сливается с дорожными ограждениями, а потом становится зеленым, как упаковка бульонных кубиков. Сквозь чахлые деревца видны конторы, склады, производственные цеха, поддоны, сложенные штабелем по десять штук под большим цементным навесом – те, что наверху кучи, почти всегда в тени, а нижние поджариваются на солнце. Ивания едет домой. Она живет всего в десяти километрах от забора в небольшом городке недалеко от предприятия, а работает она в тридцати пяти километрах отсюда. Во время обеденного перерыва вместе с коллегой Микелой Ивания ест что-нибудь принесенное из дома и разогретое в микроволновке. Служащие обедают в небольшом помещении, где всегда стоит запах автострады и спецовки отца Ивании. Этот запах впитывается в фотографии детей возле компьютера, проникает в туалеты и даже за стойку ресепшн. Такое ощущение, что каждый объект окружающего мира проходит через процесс лиофилизации, вакуумной сушки при температуре ниже нуля, с целью сохранения его исходных свойств. И только доля рынка бульонного кубика превышает пятьдесят процентов от общего объема. За последние несколько лет предприятие уволило тысячи работников, и может быть, продаст большую часть из двухсот двадцати тысяч квадратных метров под строительство квартир, офисов, магазинов. Бульонный кубик будут производить где-то в другом месте, за неизвестной восточной границей, которая однажды материализуется в оживленном движении товаров по автостраде. Напротив входа опустевшая парковка с двумя низкими шлагбаумами и желтыми бетонными тумбами. Над площадкой круглые часы на зеленом железном столбе. Столб укреплен на беленом прямоугольнике с ярким логотипом комбината из четырех красных букв в зеленом эллипсе. В целом эмблема напоминает итальянский флаг. Сегодняшняя женщина с упаковки для бульонных кубиков очень похожа на ту, из детских игр Ивании. Та же прическа и желтая кофта, то же жемчужное ожерелье, те же красный лак и губная помада, и улыбка в предвкушении ложки с бульоном. Только теперь у нее бледное лицо, покрытое светящимися белилами, похожее на маску, припорошенную снегом, но белый цвет делает глаза более лиофилизированными, так как взгляд призван передать искушение предстоящим ботулимическим угощением. Женщина держит в руке ложку с бульоном, тарелка исчезла. Теперь кажется, что женщина и есть продукт, рекламирующий самого себя, она превратилась в абстракцию, в канон, после того, как с маленькой картонной поверхности стограммовой коробочки, вмещающей десять кубиков, исчезла тарелка. В каждом десятиграммовом бульонном кубике содержится йодированная соль, на пятьдесят процентов он состоит из нее; есть в нем растительные белки; сахар, петрушка и ничтожно маленькая капля рафинированного оливкового масла; есть в нем ароматизаторы и растительные жиры (гидрированные и негидрированные); есть соль глютаминовой кислоты для усиления вкуса; есть в нем и мясо, или лучше сказать, экстракт мяса, процентное содержание которого не указано. В бульонном кубике Ивании предположительно ноль целых и четыре сотых процента экстракта мяса. Чтобы стать этим нулем целых и четырьмя сотыми процента, крошечный кусочек говядины был в свою очередь размельчен, очищен от костей и обезжирен. Чтобы получить один килограмм экстракта, требуются тридцать пять килограмм мяса. Мясо для бульонного кубика Ивании выращено и забито где-то в Южной Америке. Ноль целых и четыре сотых процента экстракта мяса содержится в десятиграммовом бульонном кубике Ивании и во всех остальных миллионах уложенных бок о бок кубиков. Неизвестно, принадлежит ли ноль целых и четыре сотых процента говяжьего мяса, размельченного, очищенного от костей и обезжиренного, одному животному, и сделаны ли из него же другие девять кубиков в упаковке Ивании. Возможно, тот ноль целых и четыре сотых процента мясного экстракта получен из двух разных животных, соединившихся в этом маленьком количестве товароведческого концентрата.
Опустив бульонный кубик в кастрюлю, Ивания ждет, пока закипит вода и кубик растворится, лишь тогда она заглядывает в кастрюлю, вдыхает запах воды, ставшей бульоном, и чувствует, как пар поднимается к лицу.