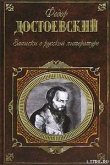Текст книги "От сентиментализма к романтизму и реализму"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 49 (всего у книги 56 страниц)
6
Хлестаков и Осип, Городничий и унтер-офицерская жена и пр. – характеры социально дифференцированные и в разной мере индивидуализированные, но сверх того и единосущные в том «дурном» и «смешном», что руководит их желаниями и поступками, что и находит свое непосредственное художественное воплощение в их калейдоскопическом взаимоотражении. Оно нужно Гоголю для того, чтобы «вывести на чистую воду» незримого и главного антигероя комедии – общесословного и общечеловеческого «подлеца» (5, 387), закравшегося в душу «русского человека». Общесословного и общечеловеческого потому, что он таится во всех гражданах крепостнического общества, одержимого в той или иной мере низменными и подлыми, но довольно-таки заурядными человеческими страстями и страстишками. Соответственно каждый из зримых антигероев комедии сверх своего конкретного социально-обличительного содержания и при его посредстве представляет типовую модель одного из многообразных социально-психологических «платьев», в которые рядится этот «сборный подлец» современной писателю русской жизни.
В силу своей «сборности» он безличен, но копошится не только в каждом из действующих лиц, но и во многих и многих зрителях комедии, толкая тех и других на всякого рода злоупотребления, сообразно чину, званию, полу и возрасту каждого. Обнажить общий нравственно-психологический корень и механизм повсеместного и повседневного пренебрежения людьми всех сословий крепостнического общества своим высоким званием русского Человека и Гражданина – такова истинная и новаторская суть «идеи» «Ревизора».
В ее основе лежит просветительское представление о прямой зависимости неразумного общественного бытия от неразумности общественного сознания, согласно творческой интерпретации Гоголя – сознания современного ему русского общества, не осознающего подлости своего крепостнического бытия, т. е. лишенного нравственного и гражданского самосознания. В сущности, только это и хотел сказать Гоголь в «Развязке „Ревизора“» (1846), пытаясь убедить своих врагов и приверженцев в том, что «сборный город», изображенный в комедии, – это «душевный город», его обитатели – олицетворенные человеческие страсти, а «настоящий» ревизор – карающая сила совести, рано или поздно настигающая всякого человека, преступившего ее законы. Здесь явно звучит голос Гоголя-проповедника. Но он прорывается уже в самых ранних автокомментариях к «Ревизору», явившихся непосредственным откликом на его первую театральную постановку. Поэтому общепринятая трактовка «Развязки» как авторского переосмысления комедии «в духе консервативного морализма», перечеркивающего ее социально-обличительное содержание и значение, столь же неправомерна, как и мистическое истолкование «душевного города» некоторыми критиками начала XX в.
В первой редакции «Театрального разъезда», написанной за десять лет до «Развязки „Ревизора“» по поводу его первой постановки, реплика «простого человека» о заключительной «немой» сцене комедии – «небось побледнели, когда приехал настоящий», – имеет следующее пояснение: «Да, простой человек такими мудрыми словами [определил] цель его (т. е. автора, – Е. К.). Он слышит гнев и великодушие закона, как при одном приближении уже смутились всеобщим страхом все неверные его исполнители, как скрыл этот могучий страх очевидную истину из [их] глаз, как отнял бог разум у тех, у которых его достало на то, чтобы превратно толковать [закон], как омраченные испугом, произвели они тысячи глупостей и как всё наконец побледнело и потряслось, когда предстал наконец этот грозный закон, завершивший пьесу, равно взирающий на сильных и бессильных» (5, 387). О каком «законе» идет речь? Если только о юридическом, то это противоречило бы идее комедии, действие которой развертывается в «сборном городе», обнимающем «всю темную сторону» русской жизни (а отнюдь не только «уездной»), вся темнота которой и состоит в сплошной беззаконности. Гоголь не мог именовать никем не исполняемый (даже самим правительством) государственный закон «грозным», «равно взирающим на сильных и бессильных». Бессильные – это те, которые не обладают административной властью и, следовательно, злоупотреблять ею не могут. Таковы унтер-офицерская жена, слесарша Пошлепкина, Бобчинский и Добчинский, Марья Антоновна и Анна Андреевна, Осип, да и Хлестаков тоже. Зато о Хлестакове в том же 1836 г. сказано, что исполняющий его роль актер должен «выразить наивно и простодушно ту пустую светскою ветренность, которая несет человека во все стороны поверх всего, которая в таком значительном количестве досталась Хлестакову» (4, 118). Через десять лет в «Развязке „Ревизора“» Гоголь скажет то же самое, но более энергично: «Хлестаков – ветренная светская совесть, продажная, обманчивая совесть» (4, 131). Если так, то «настоящий» ревизор не может быть ничем иным, как голосом «настоящей» же совести, одинаково грозной для сильных и бессильных своей неподкупностью. Но следует добавить: «закон» и суд совести не только в «Развязке „Ревизора“», но и в первой редакции «Театрального разъезда», и в самой комедии отождествляется с законом и судом божьим. Тем не менее «аллегорическое» (8, 348), по выражению Гоголя, уподобление «сборного города» «душевному» не противоречит социально-обличительному содержанию комедии, а только подчеркивает ее «практическую», воспитательную цель. И Гоголь не кривил душой, не вступал в противоречие со сказанным в «Развязке», когда в ответ на несогласие с ней М. С. Щепкина, С. Т. Аксакова и многих других разъяснял, что делом автора «Ревизора» «было изобразить просто ужас от беспорядков вещественных, не в идеальном городе, а в том, который на земле», но изобразить так, чтобы каждый зритель «применил» изображенное к себе и «испугался сам себя» (4, 134). Испугался – узнав в отвратительных и вполне «земных» лицах комедийного действия зеркальное отражение нечистой души всего крепостнического общества, а тем самым и в той или иной мере и своей собственной.
Суть всего вышесказанного сводится к тому, что основным предметом художественного анализа является в «Ревизоре» общественное сознание как активный, действенный, а по логике мысли Гоголя – и решающий фактор общественного бытия. Невиданное до того по своей художественной целостности и выразительности совмещение в «Ревизоре» крепостнического бытия и крепостнического сознания, «земного» города с «душевным» принадлежит к числу величайших реалистических открытий и завоеваний творчества Гоголя.
Общественное сознание – явление хотя и не обладающее «вещественностью» Городничего или Держиморды, но столь же «земное», как они, и в них овеществленное. Но термина «общественное сознание» в эпоху Гоголя не существовало. Его заменяли понятия «дух», «душа». В 1851 г. Герцен сказал об авторе «Ревизора» так: «Никто и никогда до него не написал такого полного курса патологической анатомии русского чиновника. Смеясь, он безжалостно проникает в самые сокровенные уголки этой нечистой, зловредной души».[545545
Герцен А. И. Собр. соч., в 30-ти т., т. 7. М., 1956, с. 228–229.
[Закрыть]] Значит ли это, что Герцен полагает причины коррупции чиновного аппарата «не в общественной системе», а в «отдельном человеке», в чем усматривается «консервативный морализм» поздних автокомментариев Гоголя к «Ревизору» (см. 4, 549, комментарии)? Конечно, нет. Говоря о «русском чиновнике» и его «нечистой, зловредной душе», Герцен разумеет не «отдельного» чиновника и его индивидуальную «душу», а русское чиновничество в целом и его нравственную патологию, опять же как явление социальное, а не индивидуальное. Совершенно тот же смысл, но еще более широкий, имеет уподобление Гоголем «уездного», сугубо «земного» города в комедии «Ревизор» «душевному городу». Но сверх того оно означает, что идея или цель «Ревизора» далеко не исчерпывается обличением одних только уездных чиновников, что их изображение является зеркалом «свиного рыла» всей николаевской бюрократии, что в этом зеркале в свою очередь отражается нравственная физиономия крепостнического общества в целом.
Оно и представлено в последних сценах «Ревизора» множеством гостей Городничего «в сюртуках и фраках». К сюртучно-фрачному, безмундирному обществу адресован возглас потрясенного Городничего: «Ничего не вижу. Вижу какие-то свиные рылы, вместо лиц» (4, 93).
Несмотря на многократные разъяснения Гоголя, идея «Ревизора» так и не была понята в полном объеме современниками, даже такими, как Герцен. Потрясенные силою политического, антиправительственного звучания комедии, все они, кроме одного Белинского, недооценили ее глубочайшее социально-психологическое и общечеловеческое содержание, на котором также настаивал Гоголь.
В «Предуведомлении для тех, которые пожелали бы сыграть как следует „Ревизора“» (1846) Гоголь писал: «Больше всего надобно опасаться, чтобы не впасть в карикатуру… Чем меньше будет думать актер о том, чтобы смешить и быть смешным, тем более обнаружится смешное взятой им роли». «Смешное» в том высоком смысле, что вызывает общественное порицание, «осмеяние», а не бездумный веселый смех. «Смешное, – продолжает Гоголь, – обнаружится само собою, в той сурьезности, с какою занято своим делом каждое из лиц, выводимых в комедии. Все они заняты хлопотливо, суетливо, даже жарко своим делом, как бы важнейшею задачей своей жизни. Зрителю только со стороны виден пустяк их забот. Но сами они совсем не шутят и уж никак не думают о том, что над ними кто-нибудь смеется. Умный актер, прежде чем схватить мелкие причуды и мелкие особенности внешние доставшегося ему лица, должен стараться поймать общечеловеческое выражение роли» (4, 112).
В каком смысле общечеловеческое? В самом широком, относящемся ко всему человечеству и ко всему русскому обществу, и в самом конкретном, касающемся каждого человека, по принципу уподобления одного другому. Именно этот принцип лежит в основе художественного метода Гоголя и отражает отличительную черту современной ему философско-исторической мысли, присущее ей метафорическое, но вместе и логическое уподобление человечества некоей «идеальной» человеческой личности, нации – личности также идеальной, но уже меньшего объема, и, наконец, уподобление закономерностей и стадий всемирно-исторического и национального развития «естественным» закономерностям и возрастным периодам духовного и физического развития отдельной человеческой личности, личности в собственном смысле этого слова.
В рецензии на «Исторические афоризмы» М. П. Погодина Гоголь следующим образом охарактеризовал его наибольшую заслугу перед русской наукой и общественной мыслью: «Он первый у нас сказал, что „история должна из всего рода человеческого сотворить одну единицу, одного человека и представить биографию этого человека через все степени его возраста“; что „многочисленные народы, жившие и действовавшие в продолжение тысячелетий, доставят в такую биографию, может быть, по одной черте. Черту сию узнают великие историки“» (8, 191).
Предугадать «черту», которую призван внести в «биографию» всего человечества русский народ (русская нация), открыть «русскому человеку» глаза на его великое всемирно-историческое предназначение и, таким образом пробудив в нем национальное самосознание, вывести его на «прямую дорогу» всемирно-исторического прогресса – такова единая и неизменная «цель» зрелого творчества Гоголя, первым опытом реализации которой и явился «Ревизор». Но «идея» «Ревизора» непосредственно вытекает из философско-исторических и критических очерков «Арабесок». Примечательно, что сказанное в одном из таких очерков («Шлецер, Миллер и Гердер») о Гердере предвосхищает только что приведенное высказывание писателя о Погодине и во многом совпадает с мнением Гоголя о Пушкине как национальном поэте, при всем своем величии и значении оставшемся чуждым насущным задачам и потребностям русской жизни.
Гердер, считает Гоголь, велик тем, что «везде он видит одного человека как представителя человечества». Его мысли «все высоки, глубоки и всемирны», но «являются мало соединенными с видимою природою и как будто извлеченными из одного только ее чистого горнила» и оттого «не имеют исторической осязательности и видимости» (8, 88). Речь идет о достоверности художественного изображения действительности, без которой невозможно его обратное и результативное воздействие на действительность. Поэтому Гердер как никто до него постигает мировую сущность, «идею» великих исторических событий, но когда то или иное из них или менее значительное «слишком коснулось жизни и практического, оно у него не получает определенного колорита». Это относится и к обрисовке Гердером «частных лиц и деятелей истории», которые «принимают слишком общую физиогномию; они у него или добрые, или злые, все бесчисленные оттенки характеров, все смешение и разнообразие качеств, познание которых достается в удел взирающему с недоверчивостью на других, все эти оттенки у него исчезли. Он мудрец в познании идеального человека… и человечества, но младенец в познании человека… как всегда мудрец бывает велик в своих мыслях и невежа в мелочных занятиях жизни» (8, 88). Поэтому Гердер «как поэт» значительнее других современных ему историков (Шлецера и Миллера), «избирая только одно прекрасное и высокое», находя его в собственной «возвышенной и чистой душе». Но в этом же и его ограниченность, так как «высокое и прекрасное вырываются часто из низкой презренной жизни или же вызываются натиском тех бесчисленных и разнохарактерных явлений, которые беспрестанно пестрят жизнь человеческую и которых познание редко дается отвлеченному от жизни мудрецу» (8, 88–89).
Таким же «поэтом» возвышенного и прекрасного, парящим над низкой, презренной жизнью, но только поэтом не мирового, а национального масштаба, предстает у Гоголя и Пушкин. Пушкину же и Гердеру незримо противопоставляется Гоголь – поэт-историк, у которого знание идеального человека, по идее, совмещается с практическим знанием и изображением конкретного человека, а тем самым и действительной жизни во всей ее презренной ничтожности и высоких, прекрасных возможностях одновременно.
Этому важнейшему вопросу эстетики Гоголя посвящена и одна из его предназначавшихся для «Современника» рецензий, сохранившаяся в рукописи и известная под редакторским заглавием «Картины мира».
Основная тема рецензии – соотношение теории и практики и под этим углом зрения критика просветительской дидактики «питательных сочинений, являвшихся в виде длинных рассуждений и трактатов». Несмотря на их популярность в XVIII в., они не оказали на его «нравственность» никакого влияния, и она как была, так и осталась «не очень чиста». В XIX в., в противоположность XVIII-му, «почти общим сочувствием была признана необходимость воплощения всякой мысли практически» (8, 203–204).
Это стало возможным благодаря Канту, Шеллингу, Гегелю, Окену. Они, «как художники, обрабатывали науку, облекая ее точными определительными терминами, анатомически дробя, разделяя и соединяя в единство всякую область мышления». Но «их мнения распространялись только в кругу небольшом их слушателей, понимавших трудный, немногословный, почти математический язык их». Говоря так, Гоголь, вероятно, имел в виду и русских приверженцев немецкого «любомудрия». А дальше он выражает уверенность в том, что «это начинающееся соединение теории с практикою» восторжествует, «следуя великой, но простой истине, что дела более значат, нежели слова». В каком смысле больше? Только в том – и для Гоголя наиважнейшем, – что художественное воплощение великих философских идей является необходимым условием их широкого общественного воздействия, которое и мыслится Гоголем как претворение теории в практику. «Живой пример сильнее рассуждения, и никогда мысль не кажется нам так высока, так поразительно высока, так оглушительна своим величием, как когда облечена она [видимой формою], когда разрешается пред нами живым, знакомым миром, когда она, можно сказать, читается духовными нашими глазами из целого создания поэта» (8, 204–205).
Благотворность уже осуществившегося соединения истории с философией в трудах немецких мыслителей и еще только начинающегося соединения теоретической мысли с художественной Гоголь аргументирует ссылкой на Христа, уподобленного тем самым величайшему поэту-мыслителю: он «первый открыл эту высокую тайну, облекши святые божественные мысли свои в притчи, которые слушали и понимали тысячи народов» (8, 205). Дерзостное с религиозной точки зрения уподобление Христа поэту (а себя Христу!) открывает сокровеннейшую тайну зрелого творчества Гоголя – его притчеобразность, символическую многозначность его анатомически дробных, сугубо вещественных, житейски ничтожных, но художественно бессмертных характеров. Потому и бессмертных, что их национальная и социально-историческая конкретность сочетается с общечеловеческой значимостью их нравственно-психологической проблематики.
«Раздробленные» характеры «Ревизора», как и «Мертвых душ», собраны из множества подмеченных их создателем – и подмеченных впервые – психологических «мелочей». И каждая из них в ее художественном выражении, по определению самого Гоголя, – плод «глубокого логического вывода ума» (8, 477), а каждый из его характеров – обобщение этих выводов, воплощение многого в одном. Воплощение посредством внутренней соотнесенности отличительных черт индивидуальной «души» каждого характера с современным автору «состоянием души русского человека», т. е. русской нации, а того и другого – с состоянием души «современного человека» вообще, т. е. всего цивилизованного человечества. В соотнесенности этих различных уровней художественного обобщения – каждый нижестоящий, помимо своего прямого значения (уездный чиновник), имеет подразумеваемое и более широкое значение (начальствующая особа), посредством которого, в свою очередь, вырисовывается еще более общее (существователь), – и заключается притчеобразность всех зрелых произведений Гоголя, начиная с «Ревизора».
В переводе на современный язык притчеобразность означает одну из малоизученных форм или разновидностей художественной символики. Такого рода символика характерна для той стадии развития реалистического сознания, на которой происходит его философское самоопределение. Соответствующая этой стадии обобщенно-философская же интерпретация еще не до конца определившихся противоречий буржуазного развития требует ее последующей социальной конкретизации. Последняя и станет общим делом и новым словом писателей «натуральной школы», непосредственно «вышедших» из Гоголя и столь непохожих на него.
Символическая образность реалистического мышления в пору его философского самоопределения находит в творчестве Гоголя свое наиболее последовательное, органическое выражение. Но одновременно она заявляет о себе «Медным всадником» Пушкина и «Философскими этюдами» Бальзака, с «Шагреневой кожей» в первую очередь.
7
Плодом глубокого, не только философского, но и гражданского «соображения» является в «Ревизоре» все, вплоть до служебной спецификации его чиновных героев. Существует мнение, что в этом отношении «структура уездного города воспроизведена в комедии не совсем точно», что, по свидетельству сына городничего г. Устюжны, в таких городах «никакого попечителя богоугодных заведений не было… потому что не было самих богоугодных заведений».[546546
Манн Ю. Комедия Гоголя «Ревизор». М., 1966, с. 19–20.
[Закрыть]] Вряд ли это так. Некоторые из них безусловно были, но иначе назывались, числясь по ведомству «Приказа общественного призрения». И вот что примечательно: вместе с также представленными в «Ревизоре» ведомствами просвещения и юстиции этот Приказ отнесен в «Зеленой книге» «Союза Благоденствия» к тем «отраслям государственного управления, от которых прежде всего зависит народное благосостояние» и которые поэтому должны находиться под пристальным надзором членов Союза. Во введении к «Зеленой книге» Приказ общественного призрения именуется отраслью «человеколюбия», которой подлежат «больницы, сиротские дома… темницы, остроги» и прочие места, «где страждет человечество». Вторая отрасль, именуемая «Образование», имеет своей основной задачей «распространение правил нравственности» и «просвещения».[547547
Цит. по кн.: Пыпин А. Н. Общественное движение при Александре I. СПб., 1900, с. 550. Приложения. (Ниже ссылки в тексте даются по этому изданию).
[Закрыть]] Третья – «Правосудие» – «одна из главных отраслей народного благосостояния» и потому требует наистрожайшего надзора со стороны контролирующих ее членов Союза. Они «особенно нападают на дух раболепствия и властолюбия многих сограждан; обращают общее мнение против чиновников, кои, нарушав священные обязанности, истребляют то, сохранение чего поручено их попечению, и теснят и разоряют тех, которых долг повелевает им хранить и покоить» (572–573). Если применить эти слова к «Ревизору», то лучшего определения идейного прицела его комизма не найти. Нетрудно также заметить, что наименование функций судопроизводства относится в «Зеленой книге» к тому, чем оно должно быть по своему прямому назначению, а перечисление обязанностей членов Союза Благоденствия, надзирающих за этой «отраслью», характеризует ее прямо противоположную практику. Противоположность действий чиновников «Ревизора» своему служебному назначению и долгу – общий комический стержень их характеров.
В «Зеленой книге» упоминается и еще одна, четвертая и последняя отрасль народного благоденствия – «Общественное хозяйство», – обнимающая «хлебопашество», «промышленность» и «торговлю». Она также представлена в «Ревизоре», но только «бесчестными», по терминологии «Зеленой книги», купцами, которых должно «стараться обратить к обязанностям» (553).
Таким образом, в «Ревизоре» отражено главное, против чего и к чему была обращена легальная программа «Союза Благоденствия». Что это – случайное совпадение? Вряд ли, скорее сознательная ориентация Гоголя на программный документ одного из первых декабристских объединений. В пользу этого говорит тот факт, что в «Ревизоре» без единого пропуска «собраны» все отмеченные в «Зеленой книге» злоупотребления. И объяснены они там, как и в «Ревизоре», «падением добродетели», «вкравшимся в сердца наши развратом». Им «посеяна вражда между всеми состояниями», равнодушие и пренебрежение «общей пользою», «предпочитание личных выгод всем другим, невежество, лихоимство, суеверие (крысы, приснившиеся Городничему накануне получения „пренеприятного известия“, – Е. К.), безбожие (до которого дошел „своим умом“ Ляпкин-Тяпкин, – Е. К.), презрение к отечеству и равнодушие к несчастию ближнего», «занявшие… место любви к пользе общей, праводушия, чести… и искренней к ближнему привязанности» (549).
Введение к «Зеленой книге» открывается следующей теоретической декларацией: «Добродетель, т. е. добрые нравы народов, всегда были и будут опорою государства: не станет добродетели, и никакое правительство, никакие благие законы не удержат его от падения». Несколько ниже та же мысль развивается так: «Тщетно малое число благомыслящих людей будет терзаться сим зрелищем (падением добродетели, – Е. К.) и возлагать вину всего на правительство: ропот и укоризны их будут совершенно несправедливы; причиною толикого зла всегда будут управляемые» (549). Сказано надвое и звучит оправданием правительства, но по существу в осторожной форме предполагает, что история народа творится самим народом, а не правительством.
Бессилие негодования немногих благомыслящих людей по-своему засвидетельствовал Грибоедов, создав Чацкого. Гоголь пошел дальше, пытаясь своей общественной комедией возбудить негодование большинства против его же собственного «разврата». «Зеленая книга» проясняет идейный генезис этой важнейшей новации «Ревизора» как комедии общественных нравов и одновременно острополитической.
Значительное место уделено в «Зеленой книге» воспитанию юношества. Членам Союза вменяется в обязанность «стараться убеждать… сколь мало теперь пекутся об истинном воспитании и как бедно заменяет его наружный блеск, коим стараются прикрыть ничтожность молодых людей» (570). Кроме того, предлагается «осмеивать слишком обыкновенную теперь искательность удовольствий и те предметы, в коих оного ищут» (572). Осмеяние того и другого – один из существенных оттенков «роли» Хлестакова. Вместе с тем изложенная в «Зеленой книге» программа общественного надзора и гражданского воспитания перерастает в общественной комедии Гоголя в программу самовоспитания всеми и каждым в самих себе Человека и Гражданина. Это – та добавка, которая была внесена в просветительские, родственные декабристским представления Гоголя демократическим пафосом философско-исторических воззрений его эпохи, проникнутых идеей исторической и нравственной самодеятельности «духа человеческого» на всех его уровнях: общечеловеческом, национальном, социальном и индивидуальном.