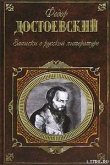Текст книги "От сентиментализма к романтизму и реализму"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 39 (всего у книги 56 страниц)
5
Интонационная подвижность стиха, сочетающего в себе сарказм, иронию, отчаяние, идеальные устремления, горечь и злость, – следствие тех особенностей художественного метода писателя, которые базировались на диалектическом восприятии явлений жизни: в движении, в противоречиях, в зависимости от времени и обстоятельств.
Стихотворения «Кинжал» (1837–1838), «Поэт» (1838), «Не верь себе» (1839), «Журналист, читатель и писатель» (1840), «Пророк» (1841) объединены темой поэта и представляют собой еще один большой смысловой «куст» в лирике Лермонтова. Сквозная для них мысль о предназначении искусства, о высокой социальной миссии художника последовательно усложняется и видоизменяется: от декабристского по духу осмысления этой миссии происходит поворот к трагическому осознанию утраты гражданственного идеала, от поэтизации обличительной, разрушительной силы слова к уяснению того, что эта сила животворна. Справедливо утверждает Н. И. Мордовченко: «Идея отрицания, признанная Лермонтовым в ее общественной функции… прояснялась и осмыслялась у него как идея созидания и творчества. Таков был один из существеннейших факторов в развитии Лермонтова последних лет его жизни».[408408
Мордовченко Н. В. Белинский и русская литература его времени. М. – Л., 1950, с. 109.
[Закрыть]]
В стихотворении «Не верь себе» выделяется особенно рельефно гуманистическое содержание лермонтовского отрицания. В мир поэзии введен человек не только со своими высокими страстями, но и с «тайниками» души. При этом «молодой мечтатель», поэт, на первый взгляд противопоставленный толпе, на самом деле несет в себе ее скрытые заботы. Можно откликаться на людские страдания плачем, или укорами, или песнью, полной простых и сладких звуков. Всему свое время – лишь бы слово не было ледяным, а напевы заученными. Такова мысль Лермонтова, скрытая за иронией монолога, обращенного к молодому мечтателю.
В стихотворении «Журналист, читатель и писатель» вопрос, каким должно быть искусство, отвечающее требованиям века, решается с той же гуманностью и широтой, но истина открывается не авторским словом, а как бы рождается в споре. Этой цели служит и драматизованная форма стихотворения.
Споры, полемики были распространенным явлением эпохи, отражавшим ее конфликтный характер. Они велись в литературных салонах, на страницах газет и журналов. В стихотворении воспроизведен один из таких споров, и таким образом основная коллизия представлена в формах самой жизни. Пафос стихотворения – в утверждении высокой общественной миссии поэта, недоступной пониманию «толпы неблагодарной».
Именно с этих реалистических позиций рассматривается центральный конфликт в стихотворении «Пророк» (1841) – трагический конфликт между поэтом, проповедующим «любви и правды чистые ученья», и презирающим его обществом.
В литературе было справедливо указано на идейную связь, существующую между стихотворением «Пророк» и предисловием автора к «Герою нашего времени». Речь идет о «гордой мечте» писателя исправлять людские пороки – чаще всего путем иронического осмеяния. Б. М. Эйхенбаум отмечает, что природа такой иронии, имеющей некоторое сходство с иронией Гоголя, в основе диалектична: она «при известных обстоятельствах и условиях может превратиться в свою противоположность – в моральную проповедь, в позицию учителя жизни».[409409
Эйхенбаум Б. О поэзии. Л., 1969, с. 205.
[Закрыть]]
Многопредметность, многотональность поэзии Лермонтова, которые так очевидны в рассмотренных выше стихотворениях, объясняются большой интеллектуальной насыщенностью эпохи. «Кратковременная, но изумительная своей огромностию деятельность Лермонтова на поэтическом поприще» (Белинский, 8, 63) вместила в себя многое, сгустив художественное обобщение до плотности символов. Насквозь символичен демонизм поэта, вобравший в себя вековые проблемы развития человеческого духа. Символичны классические лермонтовские образы паруса, утеса, чаши жизни, кинжала, листка, получившие отзвук и развитие в последующей русской поэзии.
В стихотворении «Пленный рыцарь» (1840) символизируется самый бег «летучего времени»; трагическая его остановка (узник в темнице) лишь подчеркивает момент движения. Диалектическое восприятие категорий развивающегося времени в единстве и борьбе мгновенного и вечного нашло отражение не только в образах, но и в языке поэзии Лермонтова, его грамматическом строе, синтаксисе.
Можно посвятить стихотворение прямому размышлению о том, как преходяща молодость Нэеры, видениям смерти, «грядущему в тумане» и т. д.; можно воссоздать, как об этом говорилось выше, ощущение времени в метафоре; но можно и самим характером повествования дать представление о сиюминутности происходящего в его отношении к прошлому и будущему. Речь от первого лица, насыщенная глагольными формами, дает ощущение энергичности и достоверности действия. Переход форм от будущего к настоящему времени создает иллюзию движения времени, происходящего на наших глазах.[410410
См. об этом: Слащева Л. Е. Категория времени в художественном содержании. (На материале лирики М. Ю. Лермонтова). – В кн.: Филологический сборник, вып. 6–7. Алма-Ата, 1967, с. 322–325.
[Закрыть]] Именно на этом эффекте основано стихотворение-новелла «Свиданье» (1841), где обращает на себя внимание акцентное положение глаголов, начинающих почти каждый стих или образующих конечную рифму:
Возьму винтовку длинную.
Пойду я из ворот:
Там под скалой пустынною
Есть узкий поворот.
До полдня за могильного
Часовней подожду
И на дорогу пыльную
Винтовку наведу.
Напрасно грудь колышется!
Я лег между камней;
Чу! близкий топот слышится…
А! это ты злодей!
(2, 206)
Закономерна «временна́я» мотивировка и в психологической новелле «Завещание» (1840), где речь ведется также от первого лица. Ощущение интенсивности жизни в виду ее скорого конца предопределяет повышенную энергию фраз умирающего; глаголы, как частое дыхание, организуют ритм стихотворения и рифменную его конструкцию, между тем как прилагательные в функции эпитетов почти совершенно отсутствуют (один случай на все стихотворение – метафора «пустое сердце»).
Эта особенность стиля делается еще более очевидной при сопоставлении названных стихотворений, например, с «Молитвой» («Я, матерь божия, ныне с молитвою», 1837), где на 16 стихов – всего 6 глаголов, ни одного из них нет в рифме, но зато фразы изобилуют прилагательными, чаще всего инверсивными, акцентными, рифмующими.
Заслуживают внимания способы, которыми поэт вводит читателя в «запредельные миры» внутренней жизни человека. Иногда это прием описательный: о таинственной магии побуждающего слова говорится в «Молитве» 1839 г. («В минуту жизни трудную») и в стихотворениях 1840 г. «Есть речи – значенье», «Журналист, читатель и писатель» (монолог «О чем писать? – бывает время…»). Как уже отмечалось выше, побуждающий к действию смысл имело в восприятии Горького стихотворение «Ангел». Поэтизация таинственной силы слова или стиха, которые, как заветный ключ, способны открывать человеческие сердца, содержится в стихотворении «Не верь себе» (1839), но в форме свойственного этому стихотворению непрямого, негативного утверждения истины:
Случится ли тебе в заветный, чудный миг
Отрыть в душе давно безмолвной
Еще неведомый и девственный родник,
Простых и сладких звуков полный, –
Не вслушивайся в них, не предавайся им,
Набрось на них покров забвенья:
Стихом размеренным и словом ледяным
Не передашь ты их значенья.
(2, 122)
Именно музыка размеренного стиха – одно из основных средств «колдовской» (по слову Н. С. Тихонова[411411
Тихонов Н. С. Заметки писателя (1939). – В кн.: М. Ю. Лермонтов в русской критике. М., 1955, с. 280–283.
[Закрыть]]) поэзии Лермонтова, но это тема для специального рассмотрения.
Остановимся еще на одном специфически лермонтовском приеме «введения во храм»: речь идет о проникновении во внутренний мир через материализованную деталь. Уже говорилось выше о проселочном пути, который в «Родине» лег в основу образов большой обобщающей силы. В стихотворении «Выхожу один я на дорогу» (1841), напоенном высочайшей поэзией единения человека с природой, к звездному символическому миру «свободы и покоя» также приводит реальный путь – одна из кремнистых дорог Кавказа. Как это нередко бывает, Лермонтов почерпнул метафорическую силу образа из ранней своей поэзии. В стихотворении «Мой дом» («Мой дом везде, где есть небесный свод», 1830–1831) есть строки, несущие сходное со зрелым стихотворением мироощущение («До самых звезд он кровлей досягает, И от одной стены к другой Далекий путь, который измеряет Жилец не взором, но душой»; 1, 291). Но метафора раннего стихотворения лишена реальных пейзажных черт.
Сходная творческая последовательность – в создании внутренней интимной атмосферы стихотворения «Ветка Палестины» (1837). Здесь предметом большой поэзии стала пыльная ветка пальмы на киоте, освещенном неверным, колеблющимся светом лампады. От этой ветки духовный взор автора силой мечты простирается через времена и пространства и рождает образы людей, тоже зыбкие, призрачные, как мираж, по одну сторону которого – Восток, по другую – автор, ищущий покоя в восточном мироощущении.[412412
И здесь возможна лирическая трансформация образа из запасников ранней поэзии. В строфе XIV поэмы «Сашка» тоже фигурирует ветка на киоте, освещенном лампадой, по-своему настраивающая героиню на мечтательный лад.
[Закрыть]]
Созидательная сила мечты обнажается автором также в стихотворениях «Как часто, пестрою толпою окружен» (1840), «Из-под таинственной холодной полумаски» (1841), где «по легким признакам» воображение поэта создает «бесплотные виденья» живых образов действительности.
Проникая в глубинные слои психической жизни, автор из мира грез делает следующий шаг – в мир снов. Это не уход в ирреальность от действительности с ее противоречиями, не пассивная форма неприятия действительности, свойственная позднейшему неоромантизму, искусству декаданса. Обращение к «темным волнениям» души, как и к фантастическому миру снов, носит у Лермонтова прогрессивный, исследовательский характер. Оно самим поэтом осознавалось как экскурс в недра человеческой личности и истории человеческого духа.[413413
В письме к М. А. Лопухиной от 2 сентября 1832 г., значительную часть которого составляет самоанализ, Лермонтов говорит и о снах: «Удивительная вещь – сны! – изнанка жизни, которая подчас приятнее действительности! Я ведь не разделяю мнение тех, кто говорит, будто жизнь только сон; я очень сильно чувствую ее реальность, ее завлекающую пустоту! Я никогда не сумею отрешиться от нее в такой степени, чтобы добровольно презирать ее…» (6, 705).
[Закрыть]]
Стихотворение «Сон» (1841), сюжет которого – сон в сне, многоступенчатый сон, вызвало большую критическую литературу, послужило образцом для множества подражаний, но так и не получило достаточно вразумительного эстетического толкования как одно из сложных явлений психологической лирики поэта.
Но есть у самого Лермонтова, в «Герое нашего времени», страницы, поэтический смысл которых поражает аналогией со стихотворением «Сон» и некоторыми другими лирическими образами-идеями того же периода. Речь идет о тех страницах дневника Печорина, где после известного рассуждения о смысле жизни говорится о любви как о «странной» потребности сердца жадно поглощать встречные чувства – нежность, радость, страданья безответной любви. Вслед за этой мыслью следует сравнение: «Так томимый голодом в изнеможении засыпает и видит перед собою роскошные кушанья и шипучие вины; он пожирает с восторгом воздушные дары воображенья, и ему кажется легче…» (6, 321). Подобно этому и «томимый духовной жаждою», жаждою любви лирический герой стихотворения видит во сне встречный образ любви, любовь, также отраженную в «грустном сне».
Здесь обращают на себя внимание несколько обстоятельств. Во-первых, гуманистический идеал автора. Во-вторых, реально-бытовая мотивировка «воздушных даров воображения», как это было и в других случаях (психологическая достоверность, конкретность «вещной» детали, точность географических реалий).[414414
Несколькими строками ниже приведенного из романа текста следует полушуточная философская сентенция: «После этого говорите, что душа не зависит от тела!» (6, 323).
[Закрыть]] В-третьих, тесная многоканальная идейно-образная связь зрелой лирики Лермонтова с «Героем нашего времени».
6
Взаимосвязь зрелой лирики Лермонтова с его зрелой прозой достаточно наглядно иллюстрируется приведенными выше примерами. «Герой нашего времени» насквозь пронизан лирической стихией, как это наблюдалось ранее по отношению к «Вадиму» и ранней лирике. Но безусловно имела место и другая, обратная связь: роман свой Лермонтов писал в 1837–1839 гг., и мысли этого произведения, итогового для всего последнего периода творчества писателя, оплодотворяли его лирику. Во всяком случае, по отношению к «Думе» это несомненно так: трудно выделить начала и концы общего для обоих произведений идейного замысла.[415415
В романе усматриваются, кроме исходных мыслей, пунктирные черты образов, а иногда и словесные сочетания, «тезисы» текста стихотворений «Пленный рыцарь», «Отчего», «И скучно, и грустно», «Из-под таинственной холодной полумаски», «Выхожу один я на дорогу» и др. Чаще всего из романа в качестве поэтических мотивов извлекаются психологические миниатюры, мгновенно схваченные состояния души. Например, в главе «Княжна Мери», в описании танцующей девушки, Печорина особенно трогает локон, «отделившийся в вихре вальса от своих товарищей». Тот же «локон своевольный, Родных кудрей покинувший волну» в стихотворении о минуте душевной близости («Из-под таинственной холодной полумаски», 1841).
[Закрыть]]
Резкий сдвиг «времен», о котором постоянно размышлял Лермонтов в своих произведениях начиная с середины 30-х гг., поставил перед литературой задачу поисков нового героя, воплощающего новые тенденции общественного развития. Лермонтов стоял в это время перед лицом уже иного общества, чем то, которое запечатлено в «Евгении Онегине» Пушкина. Белинский писал об этом во вступительной статье к сборнику «Физиология Петербурга» (1845): «В „Онегине“ вы изучите русское общество в одном из моментов его развития, в „Герое нашего времени“ вы увидите то же самое общество, но уже в новом виде» (8, 378). Сравнительная характеристика «пушкинского» и «лермонтовского» периодов содержится, как известно, и в статьях Белинского о Пушкине. В первой из них чрезвычайно важно выделение категории поколения как вехи отсчета времени в историческом развитии: «…общество движется, идет вперед через свой вечный процесс обновления поколений… На Руси все растет не по годам, а по часам, и пять лет[416416
Имеются в виду пять лет, отделяющие гибель Пушкина от гибели Лермонтова, – расцвет творческой деятельности последнего.
[Закрыть]] для нее – почти век» (7, 100–101). В пятой статье о Пушкине характеризуется духовный облик героя лермонтовского поколения в отличие от пушкинского: «Дух анализа, неукротимое стремление исследования, страстное, полное вражды и любви мышление сделались теперь жизнию всякой истинной поэзии. Вот в чем время опередило поэзию Пушкина и бо́льшую часть его произведений лишило того животрепещущего интереса, который возможен только как удовлетворительный ответ на тревожные болезненные вопросы настоящего. Эту мысль мы полнее и яснее разовьем в статье о Лермонтове…» (7, 344).
То, чего не успел сделать Белинский, сделал Герцен в «думах» о былом, отметив духовное и историческое сродство собственной личности, Белинского, Огарева, а также и многих других людей своего поколения «странному» герою Лермонтова. В одной из своих дневниковых записей 1842 г. он пишет: «…я вяну, во мне бродит какая-то неупотребленная масса возможностей, которая, не находя истока, поднимает со дна души всякую дрянь, мелочи, нечистые страсти… Моя натура по превосходству социабельная. Я назначен собственно для трибуны, форума, так, как рыба для воды» (2, 213).
Знаменательно, что приведенная автохарактеристика Герцена, повторяя почти дословно одно из откровений Печорина, созвучна «социабельному» критицизму героя стихотворений Лермонтова, например «Думы». Такое созвучие закономерно, так как Печорин – образ «героя времени» – и появился на стыке самонаблюдений Лермонтова, отраженных в его лирике, отчасти в ранней прозе и драматургии, и наблюдений над плохо устроенной жизнью («зло порождает зло»). Как представитель «больного поколения», автор почувствовал ответственность за него, и этот акт осознания недуга высоко поднял поэта над обществом.
В тексте романа («Княжна Мери»), там, где идет речь о соотношении нравственных качеств Печорина и других людей – даже «самых добрых, самых умных», как Вернер, – выделяется именно эта черта главного героя: умение «взять на себя всю тягость ответственности» (6, 335).
После перипетий военно-судного дела в Петербурге, ссылки в действующий отряд на Кавказ, наблюдений над пошлым «водяным обществом» Кислых вод (1837) у Лермонтова появилась новая потребность решительного действия – на этот раз потребность вторгнуться в жизнь аналитическим словом, распознать дремлющие силы современников, исследовать, какими путями, откуда может выдвинуть печальное равнодушное поколение деятеля, обращенного к будущей лучшей жизни. Какими качествами должен обладать и по неизбежности обладает этот герой, находясь в среде нравственного рабства и во взаимодействии с торжествующим злом? Эти вопросы поставлены в «Думе», в абстрагированной философской форме в «Демоне» и «Мцыри» и полнее всего в романе «Герой нашего времени», где вопрос рассматривается наиболее широко, трезво и психологически углубленно.
Первая особенность, обращающая на себя внимание в постановке вопроса, – это постоянная соотнесенность всех проблем, которые заключает в себе образ героя, с потребностями «действительной жизни», как об этом прямо и говорится в повести «Фаталист». Фатализм, астрология, нравственные достоинства человека – все это соизмеряется, оценивается прежде всего с точки зрения соотношения воли человека и его действия, практического смысла его поступков, истинного, деятельного вольнолюбия, умения приносить жертвы чувствам (дважды в тексте романа – в «Княжне Мери» и в «Фаталисте» – варьируются соответствующие строки «Думы»). О «премудрых», веривших, что светила небесные принимают участие в земных битвах, в «Фаталисте» говорится: «…зато какую силу воли придавала им уверенность, что целое небо… на них смотрит с участием», в то время как «мы, их жалкие потомки, скитающиеся по земле без убеждений и гордости… неспособны более к великим жертвам ни для блага человечества, ни даже для собственного нашего счастия, потому что знаем его невозможность, и равнодушно переходим от сомнения к сомнению» (6, 343). О мечтательстве сказано, что оно истощает «и жар души и постоянство воли, необходимое для действительной жизни» (6, 343). Однако, и с той же точки зрения, расположение ума «сомневаться во всем» аттестуется как свойство, которое «не мешает решительности характера» (6, 347). Концовка повести «Княжна Мери» в этом русле воспринимается как клятва верности автора старому, исполненному энергии символу – парусу, ищущему бури. Идеал «тихих радостей и спокойствия душевного» остается неприемлемым для него, как он неприемлем для героя конца 30-х гг. «Нет! я бы не ужился с этой долею! Я, как матрос, рожденный и выросший на палубе разбойничьего брига; его душа сжилась с бурями и битвами, и, выброшенный на берег, он скучает и томится, как ни мани его тенистая роща, как ни свети ему мирное солнце; он… всматривается в туманную даль: не мелькнет ли там на бледной черте, отделяющей синюю пучину от серых тучек, желанный парус…» (6, 338).
И все-таки в чем-то должна была измениться эта первая заповедь «лермонтовского человека», пройдя через опыт «социабельности», о котором говорилось выше и который отозвался на содержании «Сашки», «Маскарада» и более всего «Княгини Лиговской».
Социален ли «Герой нашего времени»? Несомненно, он социален – объективно и субъективно. Объективно потому, что все действия и психология Печорина детерминированы временем, условиями существования его поколения и среды; многие поступки и свойства характера Печорина зависимы – в большей или меньшей степени – от общественных отношений и нравов, как он сам это и признает. Субъективно потому, что социальный вопрос наличествует в романе как один из объектов исследования. Уже в «Сашке» рядом с героем дворянского происхождения стоит героиня из социальных низов, лишенная «людским предубежденьем» классового и семейного престижа. Сопоставление приводит автора к ставшему уже к тому времени традиционным выводу: «… сколько в этом званье Сердец отличных, добрых!». В «Княгине Лиговской» с фигурой Печорина соотносится фигура бедного чиновника, и именно их столкновение составляет центральную проблему повествования, поставленную до того Гоголем в «Записках сумасшедшего», развитую в «Шинели» и подхваченную Достоевским в «Бедных людях» и многих других его произведениях. В романе «Герой нашего времени» рядом с центральной фигурой ставится то «простой человек» Максим Максимыч, то «дети гор», то «честные контрабандисты» – социально-экспериментальный характер этого ряда сопоставлений, казалось бы, несомненен.
И все же им не исчерпывается художественная задача писателя. Глубина замысла произведения в том и состоит, что разные стороны общественной жизни ставятся здесь в прямую зависимость от самого человека, как и судьба каждого отдельного человека – от общественно-исторических обстоятельств.[417417
О тенденции к своеобразному социально-психологическому полифонизму в романе см.: Фридлендер Г. М. Лермонтов и русская повествовательная проза. – Рус. лит., 1965, № 1, с. 45.
[Закрыть]]
Новаторство Лермонтова в «Герое нашего времени» во многом определяется диалектическим подходом к «истории души человеческой», легшим в основу метода психологического реализма.
В тексте «Героя нашего времени» употребляется и сам термин «диалектика» (в отношении женских характеров), но важнее, что автор обнаруживает в ряде мест произведения «механизмы» диалектического подхода к освещению личности, позволявшие ему проникать в глубины, до тех пор неизведанные. Речь идет об известном рассуждении Печорина в разговоре с Вернером («Во мне два человека: один живет в полном смысле этого слова, другой мыслит и судит его…» и т. д.), об эпитафии «погибшей половине души» в разговоре с княжной, о «размене мыслей и чувств», каждое из которых проходит «сквозь тройную оболочку» («Княжна Мери»). Это лишь те зафиксированные «точки», которые позволяют проследить автору трудноуловимые взаимопереходы состояний, константы движения, отсчеты позиций борьбы. Писатель дает образец шутливого анализа женской логики, исходя из «нескольких точек», по выражению самого автора, на которые он опирается, когда наблюдает противоречия языка, рассудка, чувств, речей, выражения глаз своих героинь. Но и весь нешуточный материал психологического портретирования в «Герое нашего времени» выстроен на сопоставлении мгновений, в которых запечатлелись текучие состояния и разнонаправленные чувства персонажей. Конечно, более всего это относится к анализу самого «героя времени» – человека странного по многим своим реакциям: смешное ему часто кажется грустным, грустное – смешным; торжество сменяется неудовлетворенностью; рядом нередко сосуществуют и борются сочувствие и злость, стремление к человечности и попрание ее; идеи, которые «при первом своем явлении» способны вести к действию, оборачиваются лишь мелкими страстями и ведут к равнодушию или злу для окружающих.
Чтобы выявить процесс духовного искажения личности порочной средой, его типичность и неизбежность, писатель оттеняет формирующие характер моменты в жизни других персонажей романа, людей добрых и чистых сердцем. Максим Максимыч до глубины души потрясен жестоким равнодушием Печорина при встрече старых друзей после долгой разлуки. Но жестока была и Бэла, не замечавшая привязанности и преданности штабс-капитана; жестоки были «честные контрабандисты», бросившие на произвол судьбы слепого мальчика. Социальная мотивировка массовых отклонений от человечности, от высших нравственных идеалов акцентируется Лермонтовым при помощи характерного для него композиционного приема. Создавая крупным планом психологический портрет Печорина, писатель в монологах и дневнике ретроспективно набрасывает картину ожесточения души героя, но одновременно он создает образ «простого человека», с одной стороны, корректирующего поведение Печорина, как это справедливо отмечал Д. Е. Максимов, а с другой – олицетворяющего своей судьбой нравственное оправдание Печорина. Простой, естественный русский человек Максим Максимыч постепенно подвергается тому же тлетворному влиянию общества, что и Печорин, – и неважно, что в данном случае с его же помощью. Вспомним окончание главы «Максим Максимыч»: «Добрый Максим Максимыч сделался упрямым, сварливым штабс-капитаном! И отчего? Оттого, что Печорин в рассеянности или от другой причины протянул ему руку, когда тот хотел кинуться ему на шею! Грустно видеть, когда юноша теряет лучшие свои надежды и мечты, когда пред ним отдергивается розовый флёр, сквозь который он смотрел на дела и чувства человеческие, хотя есть надежда, что он заменит старые заблуждения новыми, не менее проходящими, но зато не менее сладкими… Но чем их заменить в лета Максима Максимыча? Поневоле сердце очерствеет и душа закроется…» (6, 248).
Неоднократно на протяжении романа писатель прибегает к подобному композиционному способу «перекрестной» характеристики персонажей, имеющей и частное, индивидуализированное, и обобщающее, групповое значение, причем индивидуальные черты личности оказываются небезразличными для широких социальных наблюдений. Характеры действующих лиц в «Герое нашего времени», как это неоднократно отмечалось, объективированы и индивидуализированы в гораздо большей степени, чем в других произведениях, в частности в одногеройном «Мцыри». И хотя фигура Печорина остается на первом плане как объект исследования определенного типа личности (и в то же время как типаж собирательный), сополагаемые с ним лица – Максим Максимыч, Вернер, Грушницкий, горцы, женские образы – имеют свою самостоятельную жизненную достоверность, будучи наделены чертами не только определенной социальной, но также и национальной психологии. Такая устремленность диктовалась и собственным художническим опытом Лермонтова, и была следствием его все возраставшего внимания к разнообразию и реальной сущности окружавшего его мира. Интересы писателя поддерживались и носившимися в воздухе теориями. Так, в Гегелевой же «Феноменологии духа» стадия самопознания человека в отличие от стадии сознания характеризуется тем, что человек познает свою личность через личность другого. Именно так и построен роман «Герой нашего времени».
Психологизированный портрет Печорина неоднократно обращал на себя внимание исследователей богатством не только выразительных, но и изобразительных средств. Описание лица, фигуры, пластики движений, одежды, эффекты освещения, колористические характеристики, таинственная жизнь взглядов, интонаций – все это определяет индивидуальное мастерство словесных портретов Лермонтова, несомненно зависящее и от умения писателя владеть кистью. Едва начав свою поэтическую деятельность, он создал образцы романтического портрета, обогащенные колористическим и психологическим опытом Рембрандта, пластической выразительностью мастерства Брюллова. Для зрелого портрета Лермонтова, кроме названных выше качеств, приобретает все большее значение, как и вообще для его стиха, игра ритмами изображения, паузами в общей динамической картине. Так, изображая пестро мелькающее перед глазами «водяное общество» Пятигорска, набрасывая подвижные групповые портреты провинциальной «знати», Лермонтов вдруг приостанавливает движение, используя в качестве «паузы» эффектную «живую картину». В «довольно любопытной сцене», как ее характеризует сам автор, Грушницкий роняет свой стакан на песок и «усиливается нагнуться», чтоб его поднять, а княжна Мери подает его ему с движением, «исполненным невыразимой прелести». Смысл сцены в сопоставлении Печорина с фигурой карикатурного его подобия – Грушницкого. По существу, здесь автором сталкиваются вульгарно-романтическая поза и то, что Белинский называл «действительностью» в чувствах и убеждениях, т. е. реализм мышления, олицетворенные в образах, которым вместе на земле «нет места», как об этом сказано в романе (6, 331).
Итак, в образной системе «Героя нашего времени», кроме психологических и живописных характеристик, имеет существенное значение композиционная сторона «портретирования».
Композиция вообще является одним из самых активных элементов поэтики Лермонтова. Архитектоника романа «Герой нашего времени», как известно, основана на циклизации повестей, каждая из которых подводит читателя к герою с какой-либо новой стороны, сочетая внешние биографические обстоятельства (ситуация повышенной сюжетной экспрессии) с течением внутренней жизни (дневник Печорина). Принцип хронологической последовательности событий заменен психологической последовательностью «узнавания» героя рассказчиком: то через восприятие Максима Максимыча (представителя народного сознания), то при непосредственной встрече с героем «путешествующего и записывающего» лица (позиция, приближающаяся к авторской); то через исповедь героя. Во втором издании романа, в предисловии к нему, «объясняет» героя кое в чем и сам Лермонтов. Таким образом, «соположение» персонажей, с одной стороны, все глубже и глубже характеризует Печорина; с другой стороны, характеризует в лицах окружающий его мир. По сравнению с естественными людьми – Бэлой, Казбичем, Азаматом, Максимом Максимычем – все глубже обозначаются «душевные пропасти» цивилизованного Печорина. Но по сравнению с интеллектуальными возможностями, потенциальной активностью, душевными взлетами Печорина всё яснее и яснее рисуется духовное детство народа, призванного в исторической перспективе решать судьбы своей страны.
В целом «Герой нашего времени» сочетал в себе философскую концепцию с живым аналитическим изображением национальной жизни, ее глубоких нравственно-психологических противоречий.
В художественном отношении роман представлял собой синтез романтических средств выразительности, накопивших богатейший опыт отражения духовной жизни человека, со средствами объективного наблюдения действительности.[418418
О художественной природе «Героя нашего времени» в связи с проблемой творческого метода см. в кн.: Удодов Б. Т. М. Ю. Лермонтов. Воронеж, 1973, с. 451–608. – Автор решает вопрос на диалектической основе, но употребляет не всегда удачные термины.
[Закрыть]] Взаимодействие этих двух сфер на стадии, отраженной искусством Лермонтова, представляло картину стилистической неоднородности. Нередко в работах, посвященных соотношению романтической и реалистической «стихий» в творчестве Лермонтова, начиная с исследований Б. М. Эйхенбаума, В. В. Виноградова, А. Н. Соколова и до настоящего времени, можно встретить «количественные» критерии в определении эволюции метода Лермонтова от романтизма к реализму: указания на возрастающую простоту языка писателя, на увеличивающуюся объективность его образов, на уменьшение экспрессивных и элементарно контрастных выразительных средств и т. п. Правомерно ли это?
По законам диалектики противоположность между количеством и качеством снимается в категории меры – в нерасчлененном художественном единстве, если говорить об эстетике. Развитие, как единство количественных и качественных изменений, всегда несет не только элементы новаций, но и элементы сохранения. Вот почему можно без конца улавливать у Лермонтова романтические стилистические элементы при опережающем изменении художественного метода. Поначалу не были ощутимы реальные границы произошедшей эстетической ломки, не было осознания скачка. «Даже большие движения, – как отмечал Ю. Тынянов в одном из своих исторических исследований, – чем они сначала проявляются на поверхности? Там, на глубине, меняются отношения, а на поверхности – рябь или даже – все как было».[419419
Литературная Россия, 1974, 18 окт., № 42, с. 7.
[Закрыть]]
Говоря более конкретно об эпохе первой трети XIX в., можно сформулировать диалектику рождения нового метода словами Герцена: «Пока классицизм и романтизм воевали… возрастало более и более нечто сильное, могучее; оно прошло между ними, и они не узнали властителя по царственному виду его; оно оперлось одним локтем на классиков, другим – на романтиков и стало выше их, – как „власть имущее“; признало тех и других и отреклось от них обоих… Мечтательный романтизм стал ненавидеть новое направление за его реализм» (3, 28).