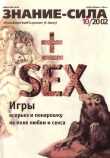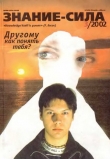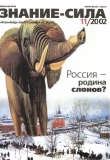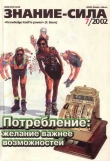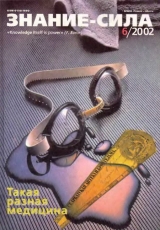
Текст книги "Знание-сила, 2002 №6 (900)"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанры:
Научпоп
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 12 страниц)
Спросите любого школьника, что едят за обедом японцы? И он не задумываясь ответит: «Рис!». И будет прав. Но так было далеко не всегда. Рис «пришел» в Японию из Китая относительно недавно. А до этого 6 – 6,5 тысяч лет назад – то есть задолго до всего остального мира японцы выращивали гречиху. Сеют ее и сейчас. Только не на равнинах, а в горах, куда теплолюбивому рису не добраться. А вот гречневую кашу японцы не варят. Зерна перемалывают в муку, из которой делают длинную лапшу «соба», и очень любят ее.
Около 6500-5500 лет назад климат Японии был на 2-3 градусов теплее современного. Уровень моря также располагался на более высоких отметках. Теплые прибрежные воды были богаты рыбой и раковинами съедобных моллюсков, и древние жители хорошо питались и неплохо жили. Но… ничто не вечно под луной. Похолодание климата и понижение уровня моря сильно осложнили их существование. Тогда их взоры повернулись к орехам и прочим дарам леса. Именно они становятся существенным элементом местной диеты. Об этом рассказывала Дзюнко Китагава из Киото. Известно, что плоды конского каштана имеют горький вкус, поэтому употребление их в пищу без специальной предварительной обработки невозможно. Но голод, он ведь и в Японии – не тетка.
О том, что жизнь аборигенов в тот период была не очень сладкой, свидетельствует тот факт, что в пищу помимо конского каштана шли даже дубовые желуди. Но интересно, что современные японцы, верные своей традиции хранить традиции, продолжают использовать условно съедобные плоды конского каштана для приготовления кондитерских изделий. И после доклада симпатичной Дзюнко все участники конференции имели возможность их попробовать. Попробовал и я. «Не фонтан», конечно, но есть можно.
Пора заканчивать повествование – всего не напишешь. Количество данных, указывающих на нестабильность климата в историческое и в доисторическое время, растет год от года. Совершенствуя методы анализа и интерпретации, можно не только довольно точно реконструировать климат и условия жизни прошлого, но и переосмыслить имеющиеся факты из истории человеческого общества. И сделать предстоит гораздо больше, чем уже сделано.
Хуже нет, когда кидаешься из одной крайности в другую и пытаешься объяснить ход истории одним лишь действием природных факторов. В прошлом и в настоящем есть много примеров того, как деятельность самого человека кардинальным образом изменяла природные системы. В этом ряду и катастрофическое снижение (на 30 метров) уровня Аральского моря, и уничтожение лесов на острове Пасхи. Вопросов накопилось гораздо больше, чем ответов. «Неужели эпоха Возрождения наступила из-за того, что климат Европы стал теплее и влажнее?» – задумчиво произнес в перерыве одного из заседаний Грегори Поссель, директор музея Пенсильванского университета (США). Постоял, подумал и в сомнении покачал головой.
СУДЬБА ГИПОТЕЗЫ


Вселенная: яркая сцена и темное закулисье
Апрель 2000 года. Международная конференция «Наука третьего тысячелетия». Из выступления ректора МГУ академика В.А. Садовничего:
«В фундаментальной науке эпохальные прорывы, ее развитие практически всегда связаны со снятием тех или иных запретов на границы познания, отказом от тех или иных устоявшихся убеждений…
Рассуждая о «науке третьего тысячелетия», полезно задаться вопросом, какой очередной запрет она снимет?
Ответом на него и станет картина науки будущего.
Невозможное сегодня может оказаться достижимым завтра».
Вряд ли два года назад уважаемый докладчик вкладывал в слово «завтра» буквальный смысл, ведь мы находились лишь на заре восходившего тысячелетия. Однако бурное наступление науки на принятые представления пошло столь широким фронтом и столь бешеным темпом, что не впору ли нам вновь готовиться к кардинальной перестройке освоенного видения мира?
И вот – новое направление прорыва: «темная материя».
Выводы космологов отводят «невидимому веществу» принципиально новую решающую роль в устройстве нашего мироздания…
Плотность потока поступающих экспериментальных данных богатство строящихся на их базе теорий/ зачастую исключающих друг друга, нешуточные страсти в ученой среде вокруг апробации и признания этих теорий – по крайней мере, свидетельство точек роста нарождающегося знания. Вряд ли все происходящее окажется бурей в стакане внутринаучной воды, уж слишком высоки ставки – «на кону» картина мира.
Какой же она видится сегодня? Чего ожидать в ближайшем будущем? Слово – тем, кто держит руку «на пульсе» Вселенной.
Михаил Вартбург
Конец прекрасной эпохи?

18 лет назад профессор Мордехай Мильгром из Института имени Вейцмана в Реховоте (Израиль) предложил революционное решение одной из фундаментальнейших загадок космологии.
Почти два десятилетия это решение существовало в науке на правах гипотезы – соблазнительной, но сомнительной гипотезы. Многие ученые утверждали, что она несостоятельна.
Однако им не удалось опровергнуть ее теоретическим путем.
Но вот недавно появились наконец, такие экспериментальные данные, которые позволили проверить гипотезу Мильгрома на соответствие реальности.
О результатах этой проверки – ниже.
Фундаментальная загадка, о которой упоминалось вначале, связана с движением галактик. Эти огромные звездные скопления демонстрируют явные отклонения от законов движения Ньютона. Впервые это было подмечено в середине 1970-х годов. Поразительная загадка допускала два возможных решения: либо движение исследованных космических объектов действительно не подчиняется закону Ньютона, либо неверны прежние данные о массе галактик.
Первую возможность астрофизики в подавляющем своем большинстве отбросили как слишком экстравагантную и радикальную. Так называемый консенсус свелся к тому, что масса галактик чрезмерно занижена: на самом деле, должна существовать еще какая-то невидимая (не излучаюшая свет) часть галактики, и если учесть эту невидимую массу, то общая сила тяготения, действующая на звезды и газовые облака в наружных частях галактики, будет больше, а потому и ускорение этих звезд и облаков тоже будет больше, как и показывают наблюдения.
Все это вместе казалось тем убедительней, что соответствовало давним, сделанным еще в 1933 году предсказаниям крупного американского астронома Фрица Цвикки. Цвикки первым наблюдал группу галактик, обращающихся друг относительно друга, и оценил, какая сила притяжения должна действовать на каждую из них, чтобы группа не разлеталась. По величине этой силы и наблюдаемым размерам группы он смог вычислить, какая масса содержится в группе. Эта масса оказалась в 20 (!) раз больше массы всех наблюдаемых звезд и газовых облаков во всех галактиках этой группы.
На этом основании Цвикки заключил, что в каждой галактике должно существовать еще какое-то невидимое (он назвал его «темным») вещество, суммарная масса которого в 20 раз больше массы видимых звезд и газа. Но Цвикки был человеком малоприятным – он всех подозревал в плагиате – и к тому же эксцентричным, например, предлагал окружать обсерватории артиллерийскими батареями и стрельбой из орудий увеличивать прозрачность воздуха. Поэтому тогда эта гипотеза была воспринята как еще одна его безумная идея. 45 лет спустя ее вспомнили, чтобы подкрепить астрофизический консенсус.
Тут-то впервые и прозвучал одинокий несогласный голос Мильгрома. Из своего израильского далека он известил астрофизическую общественность о своем особом мнении. По мнению Мильгрома, коллеги напрасно отбросили вторую возможность: движение космических объектов действительно не подчиняется закону Ньютона. Мильгром придирчиво исследовал загадку космических ускорений и пришел к выводу, что завышенное ускорение звезд и облаков в наружных частях галактик можно столь же строго объяснить, предположив, что их движение подчиняется не закону Ньютона, а несколько отличному от него, более общему закону, который включает в себя ньютоновскую динамику как частный случай. Для такого объяснения нужно допустить, что на очень больших расстояниях, как, например, от центра галактики до ее наружных слоев или от одной галактики в группе галактик до другой сила тяготения несколько больше, чем предписывает обычный закон Ньютона, а потому и ускорения находящихся на этих расстояниях тел тоже несколько больше.
В силу этой модификации закона Ньютона гипотеза, или теория профессора Мильгрома и по-русски, и по-английски ныне именуется МОНД, что является сокращением слов «Модифицированная Ньютонова динамика». Она является альтернативной к консенсусу, поскольку позволяет решить загадку космических ускорений, не прибегая к гипотезе темного вещества. По словам Энтони Эджвайра из Института высших исследований в Принстоне (прославленном именами Эйнштейна и Геделя), «это весьма простая и ясная гипотеза, которая отлично согласуется с данными наблюдений и дает замечательные результаты».
Но с точки зрения большинства физиков, МОНД – весьма сомнительная гипотеза или, как выразился бывший королевский астроном Великобритании, известный астрофизик Мартин Риз, «худшая из возможностей», потому что она не укладывается в эйнштейновскую теорию тяготения, которая включает в себя ньютоновскую динамику в ее классическом виде и которая сегодня подтверждена с высочайшей точностью. Принять МОНД – значит отбросить не только Ньютона, но и Эйнштейна, а это уже слишком большая плата. Как выразился тот же Риз, «к гипотезе Мильгрома можно будет обратиться лишь в том случае, если все поиски темного вещества окажутся бесплодными и все иные возможности будут исключены». Действительно, «худшая из возможностей». Не «бест бай», а «ворст бай». Наихудшая покупка. Бедный Мильгром.
Если бы дело обстояло так и только так, не о чем было бы рассказывать. Штука, однако, в том, что за все эти годы астрофизикам так и не удалось (как и опасался Риз) обнаружить те объекты (частицы или тела), которые могли бы составлять пресловутое темное вещество. За два десятилетия прежний консенсус распался надвое: появились лагеря сторонников теории «холодного» темного вещества и сторонников теории «горячего» темного вещества, которые, в свою очередь, распались на тех, кто считает темное вещество состоящим из «особых частиц», «холодных массивных объектов», «белых карликов» и т.д., и т.п. Единственным, что еще скрепляет прежнее единство, остается признание всеми самого факта существования темного вещества да еще тот фундаментальный факт, что это вещество ни в каких его видах и разновидностях – в горячих, холодных, особых или массивных – никем и никогда еще не обнаружено. «Факт» его существования есть пока всего лишь следствие гипотезы, принятой всеми для объяснения наблюдаемых космических ускорений.
Всеми, но не Мильгромом. Его МОНД все это время оставалась на заднем плане, как бы выжидая своего часа. Однако эта теория получила болезненный удар с совершенно неожиданной стороны. Как считают многие, удар почти смертельный. Журнал «Сайенс» даже пошутил по этому поводу: «Кажется, конец света (МОНД – по-французски) действительно наступает». Нанес этот удар не кто иной, как весьма благосклонный к Мильгрому Энтони Эджвайр. Вместе со своими коллегами он провел ряд расчетов, и выводы Эджвайра не оставили никаких сомнений в том, что предсказания МОНД не согласуются с характером движения вещества в скоплениях галактик. «Наши данные резко расходятся с предсказаниями МОНД, – заявил Эджвайр, – поэтому МОНД нельзя считать приемлемой альтернативой темному веществу, во всяком случае в скоплениях галактик».
Мильгром признал, что противоречие его теории и данных Эджвайра реально. Как пишет «Сайенс», на данный момент ситуация выглядит так, что «МОНД успешно объясняет движение вещества в отдельных галактиках, но проваливается при попытках применить ее к скоплениям галактик». Правда, впереди еще одна проверка – по остаточному излучению, и многие астрофизики уже говорят, что она решит судьбу мильгромовской гипотезы раз и навсегда. Сам Мильгром относится к этой возможности вполне стоически. «Как создатель этой теории, я, конечно, хотел бы, чтобы она произвела революцию, – говорит он. – Будет очень печально, если решением действительно окажется темное вещество. Очень печально, но, тем не менее, терпимо».
Темная сторона вселенной
Александр Грудинкин

Окружающий мир долго казался мам удивительно знакомым.
Его слагали камень и металл, воздух и вода. Там, за горизонтом, материальный мир продолжался.
В спектрах далеких звезд ученые с умалением обнаруживали все те же химические элементы, что известны нам на Земле. Словно сосуд, наполненный до краев песчинками, космос был наполнен смесью одних и тех же веществ.
За видимым разнообразием скрывался конгломерат электронов, нейтронов, протонов и других знакомых частиц. Позднее расчеты космологов показали, что это не так. «Большая часть мироздания состоит из материи не известного нам происхождения – темной материи» – таково было общее мнение. Но и оно было перечеркнуто. Сейчас мы лучше понимаем, из чего состоит космос. Этому «из чего» и посвящен наш рассказ.
Шапка-невидимка для целой Вселенной
Год назад в Балтиморе, в стенах Университета Джона Хопкинса прошла знаменательная конференция. Девиз ее звучал так: «Темная Вселенная: материя, энергия и гравитаиия». Словно Палата мер и весов заседала здесь! Ученые пересчитывали содержимое Вселенной, вели ее опись, полагаясь на открытия последних лет.
Для участников форума все мироздание будто составилось из черных и белых шаров. Белые шары – видимые части Вселенной, а именно галактики, звезды, планеты – клали в одну корзину; черные шары – в другую. Эти шары были «непонятно чем» – «белыми пятнами» на карте мироздания. Их становилось все больше. Они уже непрерывно сыпались в корзину, тогда как белые пополняли ее тонкой струйкой. Черных шаров было так много, что они забаллотировали все прежние теории космологов. Под их тяжестью картина мира проваливалась, рушилась в тьму. Разводья темной краски захлестнули мир.
Можно подобрать и другое сравнение. Море огромное, как космос. Фигурки на волнах. Катера, яхты… Из окна гостиницы ты глядишь в бинокль, открывая одно «морское тело» за другим. Они словно парят в пространстве. Темная материя воды окружает их, удерживает в равновесии. Если упразднить эту непонятную стихию, то и пловцы, и лодки, и корабли вмиг провалятся, упадут на десятки и сотни метров вниз. Космос моря сожмется. Именно такой странно сжавшейся уже давно предстала перед учеными Вселенная, если оставить в ней только зримое: любые небесные тела.
За последние годы мы свыклись с мыслью о том, что видимая материя составляет меньшую часть Вселенной. Какими бы громадными ни казались нам звезды и галактики, они – песчинки, брошенные в океан тьмы. И облик этого океана стал проясняться только теперь. По последним данным, Вселенная лишь на четыре процента состоит из видимой нам материи – из барионных частиц.
Все остальное – невидимый и неведомый мир, сказочное «то, не знаю что». Оно не искажает свет и не улавливает потоки частиц, не излучает электромагнитные волны и не отражает их. Безмерная шапка-невидимка накинута на весь окружающий космос, и лишь россыпь звезд, разбросанных вокруг этого таинственного Нечто, выдает его очертания. Мы ощущаем неимоверную тяжесть, исходящую от него. Это Нечто «все важнее для астрономов», заявил американский астрофизик Марио Ливио, руководивший конференцией в Балтиморе.
Это Нечто разрослось на наших глазах. Первые сомнения в том, что все видимое нами и есть космический мир, зародились, когда ученые измерили скорость вращения спиральных галактик. По законам Кеплера, их центральная часть должна была вращаться быстрее периферийной. Это не подтвердилось. Очевидно, галактики были окружены массивными, но невидимыми скоплениями материи.
В восьмидесятые годы во Вселенной были обнаружены обширные скопления галактик. Они тоже не вписывались в привычную теорию. Так, в 1989 году на небе Северного полушария была открыта так называемая Великая стена-скопление галактик размерами 500 х 200 х 15 миллионов световых лет. Она напоминала полосу пены, взбитую на небосводе, и содержала тысячи галактик. Подобные структуры могли возникнуть вскоре после Большого Взрыва лишь потому, что в космосе гораздо больше материи, чем можем заметить мы. Иначе бы их не было и по сей день!
Было время, когда ученые говорили, что «во Вселенной есть невидимое вещество», «немалая часть Вселенной сложена из неизвестной для нас материи», «большая ее часть», «90 процентов»… И вот – последний вывод: % процентов! Читатель, подобно автору, живущий в стандартной двухкомнатной квартире, легко поймет астрономов, если представит себе, что все в его обители вдруг растворилось в воздухе, и лишь какой-то клочок, к примеру любимый «обломовский» диван, он еще может разглядеть.
Мир распался. Теперь его составляли отдельные «чистые сущности» – стихии, не соединяемые друг с другом.

Новая дружба Нестиды и Зевса
Современные космологи, подобно античным философам, разделяют мир на несколько разных стихий.
«Мнения его были таковы. Основ существует четыре – огонь, вода, земля, воздух; а также Дружба, которою они соединяются, и Вражла, которою они разъединяются. Вот его слова:
Зевс лучезарный, и Аидоней, и живящая Гера,
Также слезами текущая в смертных потоках Нестида..,
где Зевсом он называет огонь,
Герой – землю, Аидонеем – воздух и Нестидою – воду.
И он говорит.., что такой распорядок вечен»
(пер. М. Гаспарова).
Так видел мироздание греческий философ Эмпедокл (ок. 490 – 430 годов до новой эры). Эти стихии неизменны, не создаваемы и не разрушаемы, писал он в своем трактате «О природе» (цитируется по книге Диогена Лаэртского «О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов»). Они не могут превращаться одна в другую, а могут лишь механически смешиваться друг с другом.
То, влекомое Дружеством, сходится все воедино,
То ненавистной Враждой вновь гонится врозь друг от друга.
Море не превращается в пловцов, черные шары – в белые, и незримое не увидеть воочию; оно воистину недоступно зрению. Его открытие навсегда останется «на кончике пера».
Мир состоит из отдельных стихий. И нет им общей первоосновы! Нам не найти atomos – той неделимой частицы, которая слагает мир зримый и темную материю, поток света и темную энергию. Новая научная картина мира пишется словно по древнему эскизу. В ней, пусть и с поправками, проступают черты, угаданные еще Эмпедоклом. Мир составлен из отдельных стихий, неразрушаемых, но лишь смешиваемых друг с другом.
Немецкие ученые Вольфганг Пристер и Джеймс Овердуин даже соотнесли учение Эмпедокла с выводами современных космологов.
* Земля, «живящая Гера» – это барионная материя (около 4 процентов) в самых разных ее проявлениях: от случайных атомов водорода, снующих в космическом пространстве, до сверхплотных нейтронных звезд.
* Воздух, «Аидоней» – это световое излучение (0,005 процента) и «горячая темная материя» (0,3 процента), состоящая в основном или исключительно из нейтрино.
* Вода, или «текущая в смертных потоках Нестида» – это и есть пресловутая темная материя (около 30 процентов), давно занимающая умы ученых. Теперь ее называют «холодной темной материей». Очевидно, она состоит из не открытых пока элементарных частиц. Им уже подобраны звучные названия: «аксионы», «нейтралино», WIMPs (Weakly Interacting Massive Particles, «слабо взаимодействующие тяжелые частицы»). «Как океан объемлет шар земной», так видимый мир кругом объят темной материей. Подробнее о ее поисках смотрите статью А. Семенова «Астрофизика элементарных частиц»[ * «Знание – сила», 2001, № 4.].
* Большая же часть космоса «охвачена Огнем». Здесь царит «Зевс лучезарный». Это – мир «темной энергии» (почти 66 процентов), открытой недавно косвенным путем. Общая масса этого вида материи должна быть невероятно велика, но поскольку темная энергия разлита по всему мирозданию, ее плотность, как показывают расчеты, не превышает четырех электронвольт на кубический миллиметр. Для сравнения: масса покоя одного электрона равна 511 тысяч электронвольт.
Открытие Огня
Еще в 1917 году, описывая Вселенную, Альберт Эйнштейн ввел в формулу «космологическую константу» – своего рода «антигравитацию». Она уравновешивала действие гравитационных сил, но ее существование удалось доказать лишь в 1998 году.
Космологическая константа и получила теперь наименование «темной энергии». Это определение дал ей в 1998 году Майкл Тернер, астрофизик из Чикагского университета. Вселенная в основном наполнена ей. Планеты, звезды, галактики – это редкие корабли и случайные пловцы, затерянные посреди моря «темной энергии». Поправляя Эмпедокла, скажем: в мире царит Зевс сумеречный.
Открыли эту самую великую и неприметную стихию сразу двумя путями: наблюдая за отдаленными вспышками сверхновых звезд и исследуя космическое фоновое излучение.
Светимость сверхновых звезд определенного типа всегда одинакова. Лишь по мере удаления от них видимая яркость их ослабевает. Однако далекие сверхновые звезды светят слабее, чем требует теория. Эти наблюдения позволили сделать вывод, что Вселенная расширяется все быстрее[* «Знание – сила», 2000, № 1, с. 34.], хотя у критиков остались возражения.
Возможно, нас с этими звездами разделяет неизвестный пока вид космической пыли. Или же миллиарды лет назад их светимость была иной, потому что они содержали меньше тяжелых элементов.
Окончательно сомнения развеяло открытие американского астронома Адама Рисса и его коллег из Space Telescope Science Institute.
Исследуя архивные фотоснимки, сделанные Космическим телескопом имени Хаббла, Рисс обнаружил самую отдаленную из известных нам сверхновых звезд: 1997ff. Расстояние до нее – 10 миллиардов световых лет. Ее светимость точь-в-точь такова, как того требует теория «расширяющейся Вселенной», но иная, нежели допускают гипотезы скептиков.
В ту отдаленную эпоху Вселенная расширялась медленнее, чем теперь. Силы гравитации сдерживали бег видимой материи. «Судя по поведению сверхновой 1997ff, наша Вселенная напоминает обычного автомобилиста: она то тормозит, увидев впереди красный свет, то залихватски мчится, заметив зеленый», – поясняет Рисс.
Роль светофора поочередно выполняли гравитация и антигравитация. Около девяти миллиардов лет назад последняя – то бишь темная энергия – победила. С тех пор Вселенная расширяется все быстрее. Впрочем, это исследование не позволило точно определить содержание темной энергии во Вселенной, хотя и стало ясно, что она преобладает над остальными формами материи.
Параллельно этой работе шли исследования фонового космического излучения. Телескопы «Бумеранг» и «Максима», установленные на аэростатах (смотрите статью Р. Нудельмана «Нечаянное открытие века»[* «Знание – сила», 2001, №11, с. 23.]), доказали, что Вселенная имеет плоскую форму. Телескоп DASI («Degree Angular Scale Interferometer»), размещенный в Антарктиде сотрудниками Чикагского университета и Калифорнийского технологического института, не только подтвердил плоскую форму Вселенной, но и позволил в 2001 году оценить содержание в ней темной энергии.
Итак, две трети мироздания состоят сейчас из темной энергии. Вселенная словно охвачена огнем. Он медленно разгорался, но теперь пылает вовсю. В его темном пламени крупицами пепла разлетаются звезды и галактики. Они летят все дальше, все дальше, отодвигая границы космоса. Как описать этот незримый «пожар» на языке физических формул? Ведь они придуманы давно, когда Вселенная представлялась теоретикам иной.
Когда законы физики запрещают пользоваться компьютером
«Мы живем в странной Вселенной, – заявил Майкл Тернер на конференции в Балтиморе. – Кто ее звал, эту темную энергию?». Она, словно «кость, застрявшая в нашем горле», вторил ему нобелевский лауреат Стивен Уайнберг из Техасского университета. Вина этой непрошеной незнакомки в том, что она не укладывается в традиционные теории физики. Она пришла последней на пир науки. Ее здесь явно не ждали. Все эти теории созданы без нее.
Конечно, используя основные модели физики, можно найти место для темной энергии, но в одной модели она не уместится и в пол царства, в другой – ей с избытком хватит наперстка. Судите сами.
Согласно квантовой теории, вакуум никогда не бывает пустым. В нем непрестанно рождаются и исчезают частицы. Многие ученые полагают, что энергия вакуума и есть темная энергия. Приборы позволяют даже заметить ее и измерить. Я уже упомянул, насколько мала ее плотность. С другой стороны, если обратиться к теории элементарных частиц, то плотность вакуумной энергии должна быть в 10,2 ° (десять в сто двадцатой степени!) раз выше, чем наблюдалось. «Никогда прежде за всю историю физики выводы теории и данные наблюдений не разнились так резко» – подчеркивает Стивен Уайнберг.
В данном случае подводит теория. Если бы она была права и антигравитация в мире, окружающем нас, была так велика, то я ни за что бы не успел дотянуться до клавиши компьютера, собираясь писать эту фразу, ибо за долю секунды, разделившую замысел и исполнение, пространство так стремительно расширилось бы, что я, пожалуй, уже ничего бы не нашел под руками. Да и существовал бы тогда я? Привычный мне мир непременно исчез бы, разлетелся, словно взрываясь и взрываясь каждую секунду.
Итак, две научные теории, давно подтвердившие свою правоту, теперь, соприкоснувшись с темной энергией, тут же невероятно зашкалили. Как приравнять то, что неощутимее электрона, и то, что мощнее любой стихии? Гае истинный портрет нашей незнакомки? Как доктор Лемюэль Гулливер, она чужеродна любой теории, в чье царство попадает, становясь то великаном, то лилипутом. Научный «гардероб» явно не рассчитан на эту запоздавшую гостью. Здесь все скроено и сшито без нее, ей все здесь не по размеру.
И как получилось, что наша незнакомка «проспала» сотворение мира? Это тоже смущает ученых. В первые миллиарды лет динамику становления Вселенной определяли две стихии: барионная и темная материя. «Почему антигравитационное действие темной энергии проявилось лишь в то время, когда стали возникать галактики?» – задавался вопросом Марио Ливио, выступая в Балтиморе.
Оба эти вопроса – «Почему так поздно?» и «Где истинный портрет?» – подводят нас к третьему, главнейшему вопросу; «Кто она?». Каково происхождение темной энергии? Миновать эти вопросы нельзя. Ведь невозможно описать фундаментальные свойства времени, пространства, материи и энергии, игнорируя основной компонент Вселенной.
«Пусть мы не знаем пока, что такое темная энергия, мы убеждены в том, что, изучая ее, поймем, каким образом на ранней стадии Вселенной были взаимосвязаны фундаментальные силы и элементарные частицы, – подчеркивает Майкл Тернер. – Путь к этому пониманию лежит через телескопы, а не через ускорители». Пока же, как показали споры в Балтиморе, физики и астрономы, пытаясь объяснить природу темной энергии, буквально блуждают в потемках.
То, не знаю, что: отражения отражений
Мы уже сказали, что в рамках общей теории относительности можно истолковать темную энергию как антигравитацию. В квантовой теории она готова предстать в обличье вакуумной энергии. Возможно, гравитационное действие почти равно антигравитационному, и потому плотность вакуумной энергии равна микроскопической величине.
Есть и другие объяснения. Американский космолог Александр Виленкин из Tufts University (Медфорд, Массачусетс) предлагает свою гипотезу. Быть может, нет никакой случайности в том, что плотность материи во Вселенной и космологическая константа, то есть темная энергия, – это величины одного порядка. Ведь если бы было иначе, не могли бы возникнуть галактики и где-то в глубине одной из них – по крайней мере, одной из них – не зародилась бы жизнь.
Эта гипотеза побуждает вспомнить «антропный принцип»: мир устроен так гармонично, и все его части так ладно пригнаны друг к другу, что у этого мира не может не быть Творца. В таком случае Бог проделал поистине ювелирную работу, с необычайной точностью подбирая естественные константы. Стоит незначительно изменить любую из них, и Вселенная может превратиться в непригодную для обитания среду.
Чтобы избежать подобного объяснения, продолжает Виленкин, можно предположить следующее: космологическая константа в разных частях космоса принимает различные значения. Только в некоторых районах Вселенной – там, где существуют галактики. – эта константа приняла значение, при котором могла зародиться жизнь. Итак, темная энергия неравномерно распределена в пространстве? Если это так, то незачем веровать в «чудесный случай», «Божественный промысел» и «ювелирную точность», породившие наш обжитой мир.
Есть и другие идеи. В1998 году американские физики Пол Сгейнхардт, Ричард Колдуэлл и Рауль Дэйв предположили, что за темной энергией скрывается неизвестное пока квантовое поле. Оно пронизывает все пространство. «Оно мало напоминает электрическое или магнитное поле и действует как антигравитационная сила». Стейнхардт и коллеги назвали его «квинтэссенцией», вспомнив пятую основу мироздания, придуманную Аристотелем в дополнение к четырем стихиям Эмпедокла: по Аристотелю, «из нее состоят эфирные тела».
В гипотезе Стейнхардта, Колдуэлла и Дейва темная энергия ведет себя, почти как в гипотезе Виленкина. Только не в пространстве она неравномерно распределена, а во времени. В момент возникновения Вселенной плотность темной энергии, в самом деле, была в Ю120 раз выше, чем теперь. Эта идея примиряет разные научные теории, ведущие спор о «незнакомке в чреде космических стихий». Приняв ее, можно не удивляться: «Почему так поздно?».
«Пытаясь объяснить, почему в мироздании содержится так много темной энергии, мы вынуждены предположить, что в момент его возникновения квинтэссенция равнялась строго определенной величине, а это попахивает подтасовкой, – рассуждает Стейнхардт. – Другое дело, если она меняется, взаимодействуя с остальной материей. Тогда она естественным образом может достичь своего нынешнего значения».
Некоторые гипотезы звучат еще радикальнее. Израильский физик М. Мильгром и его нидерландский коллега Б. Сандерс вообще сомневаются в законе всемирного тяготения. Они предложили «модифицированную ньютоновскую динамику», и надо думать, что желающие «подправить старика Ньютона» не переведутся ни на Западе, ни у нас (подробнее об этом – в предыдущей статье).
Жоао Магуэхо из лондонского Imperial College ради новой любимицы физиков готов поступиться даже старой догмой. Он полагает, что на начальной стадии Вселенной скорость света была в миллиард раз выше, чем теперь. Тогда наблюдения за сверхновыми звездами можно истолковать иначе.