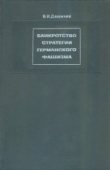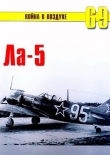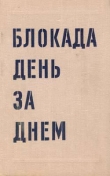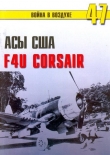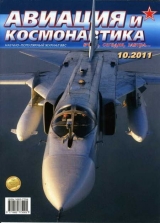
Текст книги "Авиация и космонавтика 2011 10"
Автор книги: Авиация и космонавтика Журнал
Жанр:
Технические науки
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 7 страниц)
Плата за выдающиеся характеристики АЛ-21 Ф-3 была в буквальном смысле высокой: при дорогостоящих конструкционных материалах, сложности устройства и недешевых технологиях он обходился в копеечку, будучи куда дороже аналогичных изделий других типов. В ценах 1976 года двигатель АЛ-21 ФЗ обходился в 600 тыс. рублей, АЛ-7Ф-1 – 180 тыс. рублей и Р-15Б-300 – 360 тыс. рублей. Высокая стоимость и трудоемкость и были причинами, определявшими проблемы с медленно разворачивавшимся производством и дефицитом двигателей (что бы ни говорили о плановой экономике, а считать деньги приходилось и во времена директивных решений).
Помимо установки нового "сердца", на новой модификации Су-17 планировалось увеличить запас топлива, значительно обновить состав прицельного и радиооборудования самолета, подтянув его к возможностям соперника – нового истребителя-бомбардировщика МиГ-23Б, имевшего тот же "двадцать первый" двигатель, комплексы навигации и прицеливания. Не было секретом, что микояновцы, своевременно взявшись за использование современной аппаратуры, добились заметных преимуществ в боевой эффективности ударной машины. Однако разработчики оборудования не успевали к сроку с поставкой новой аппаратуры на суховский самолет и ее отработкой на машине, более того, явным было и то, что предприятия оборонпрома, чьи производственные и технологические возможности были отнюдь не беспредельны, в обозримом будущем вряд ли смогут обеспечить потребности в таком заказе на весь обновляющийся парк ударных самолетов. В связи с этим было принято решение практически в полном объеме сохранить на новой модификации оборудование от Су-17, перенеся установку перспективных систем на более поздний срок. Это предложение ОКБ П.О. Сухого было принято к исполнению совместным решением МАП и ВВС от 17–24 июня 1970 года.
Замена силовой установки повлекла за собой переделку фюзеляжа новой модификации машины, получившей в серии обозначение Су-17M. К слову, с появлением новой модификации возник вопрос с тем, как именовать предшественника; в конце концов, для его отличия за "простым" Су-17 так и закрепилось неофициальное наименование Су-17 "без буквы". Новый двигатель был более компактным изделием: вместе с форкамерой он был короче АЛ-7Ф-1 на 1650 мм, меньше на 220 мм по диаметру, даже вес силовой установки снизился на 400 кг. Из-за меньшего габаритного диаметра АЛ-21 Ф-3 характерная для семейства Су-7Б и первого варианта Су-17 объемистая задняя часть фюзеляжа и "талия" перед форкамерой исчезла, уменьшился диаметр донного среза. Сообразно "ужатию" поперечных размеров фюзеляжа несколько уменьшился размах стабилизатора и на 60 мм "опустился" киль. Обуженная хвостовая часть Су-17М обеспечила выгоды в аэродинамике за счет снижения донного сопротивления самолета.
По сравнению с Су-17 длина канала воздухозаборника самолета увеличилась на 1,5 м, а мидель фюзеляжа уменьшился с 1,63 до 1,55 кв. м. Сообразно меньшему расходу воздуха у нового двигателя сократили ход конуса до 92 мм вместо 230 мм у Су-17 "без буквы", что несколько уменьшило проходное сечение воздухозаборника на полетных режимах и избавило от избытка воздуха (сам воздухозаборник и воздушный канал при этом сохранялись прежними). Изменилась конструкция и расположение выступавших воздухозаборников охлаждения двигателя, на фюзеляже исчезли боковые гаргроты, скрывавшиеся под которыми электрожгуты переместились под центральный обтекатель. Разъем фюзеляжа, предназначенный для его расстыковки при замене двигателя, сдвинули назад на 1500 мм сообразно габаритам и компоновке нового двигателя, переместив его со шпангоута № 28 (на Су-17) на шпангоут № 34. Параллельно облагородили форму контейнера тормозного парашюта (по типу используемого на перехватчике Су-15), с учетом снизившихся посадочных скоростей отказавшись от двух куполов и введя однокупольную тормозную парашютную систему, а также привели расположение эксплуатационных люков в соответствие с новой компоновкой.

Авиационный турбореактивный двигатель AJ1-27 Ф-3
Был доработан и механизм поворота консолей крыла. Вал синхронизации теперь «прошивал» один из фюзеляжных баков-отсеков и, проходя под каналом воздухозаборника, обходился безо всяких карданов. Небольшим доработкам подверглись киль, руль направления и стабилизатор самолета. В связи с повышенной тяговооруженностью и некоторым улучшением взлетных характеристик G/-17M по сравнению с Су-17 отказались от применения сбрасываемых пороховых ускорителей как вызывавших неудобства в эксплуатации.
Новый двигатель был более чем на полтора метра короче прежнего, что высвободило в фюзеляже порядочный объем для размещения дополнительного количества топлива. Топливная система в значительно перекомпонованном фюзеляже теперь включала один резиновый вкладной бак (первый по полету) и три топливных гермоотсека, следовавших друг за другом в районе шпангоутов № 18–28. Топливные отсеки в поворотных консолях остались без изменений. За счет этих нововведений вместимость баков удалось увеличить на целую треть: запас керосина вырос на 1030 л и достиг 4430 л (вырабатываемое количество составляло 4380 л). Переход на гермоотсеки вместо вкладных баков не только увеличил емкость, но и позволил сэкономить вес за счет избавления от вкладных "мешков". Одновременно понадобилось внедрение более совершенных технологий на заводе: прежде для герметизации отсеков-емкостей практиковалось нанесение герметика вручную кистью, что было и не очень производительно, и весьма хлопотно. Работать приходилось в тесноте отсека, в респираторе, куда принудительно подавался воздух для дыхания, из-за чего привязанные к шлангам рабочие походили на водолазов. Ручной техпроцесс в дальнейшем заменили оборудованием спецучастка для герметизации отсеков методом "облива", где механизированным способом готовилась поверхность, наносился герметик, распределявшийся по поверхности ровным слоем. Одновременно был внедрен метод натурной увязки монтажей бортового оборудования с помощью объемного плаза отсеков фюзеляжа, на котором прокладывались и подгонялись электрожгуты, трубопроводы и примерялась установка агрегатов.
Коренные изменения претерпела и гидросистема самолета. Если для Су-17 она была взята с рядом изменений (в основном, касающихся агрегатов привода поворота консолей) с Су-7БКЛ, то на Су-17М гидравлика была иной и состояла из двух полностью автономных подсистем – первой (ПС) и второй (ВС), в отличие от трех на предыдущей модели. Обе системы имели много общего и отличались количеством входящих агрегатов и обслуживаемых гидроприводов. Общими для обеих подсистем являлись гидроусилители управления самолетом и агрегаты системы поворота консолей крыла. Эти агрегаты могли работать как от обеих подсистем, так и от одной из них. Для повышения живучести в боевых условиях коммуникации и агрегаты обеих подсистем по возможности были удалены друг от друга: ПС монтировалась по правому борту фюзеляжа и в правой консоли крыла, ВС – по левому борту и в левой консоли. Источниками энергии в каждой системе являлись ротативно-поршневые насосы переменной производительности, установленные на коробке приводов двигателя.
Несмотря на столь существенную модернизацию самолета, вес пустой машины даже уменьшился на сотню килограммов по сравнению с предшествующей моделью (нечастый случай в конструкторской практике, где, как правило, процесс переоборудования влечет за собой прибавку веса и каждая новая модификация становится тяжелее предыдущей). Правда, в ходе производства доработки и технологические уступки сопровождались обычным при этом набиранием веса, составившим 300 кг. Наиболее весомым в этом отношении оказался переход на механизированное нанесение герметика в баках-отсеках, расход которого при заливке в баки возрастал и слой оказывался куда толще, чем при ручном исполнении.
Взлетный же вес Су-17М без подвесок за счет большего запаса топлива увеличился по сравнению с предшественником почти на тонну. Прочностные испытания, сопровождавшие доводку машины, показали, что конструкция обладает резервами, позволяющими расширить диапазон допустимых нагрузок: так, предельный скоростной напор, разрешенный для G/-17M, по сравнению с машинами "без буквы" удалось повысить на 15 % и довести до уровня, допускаемого для истребителей. Соответственно, и предельная приборная скорость (это значение "расчетное", пропорциональное давлению набегающего потока воздуха, которое лимитируется прочностью самолета и двигателя, в отличие от "абсолютной", так называемой истинной скорости, исчисляемой относительно земной поверхности) с прежних 1200 км/ч у новой модификации возросла до 1300 км/ч. Скорость самолета на высоте соответствовала значению М=2,1 (истинная скорость на высоте 11000 м при этом равнялась 2230 км/час).

Истребитель-бомбардировщик С32М-1 (зав. № 51–01) с выкладкой подвешиваемого вооружения на одном из показов новейшей авиатехники
Показатель приборной скорости был более удобен для летчика, нежели отвлеченный скоростной напор, применимый в расчетах прочнистов. Его значение выводилось на прибор-указатель скорости КУС в кабине с парой стрелок: «толстой», показывавшей величину текущей приборной скорости, и «тонкой», отслеживавшей скорость истинную. Перекладку крыла, поначалу на Су-17 из перестраховки разрешавшуюся только в неманевренном полете без перегрузок, теперь можно было выполнять в достаточно широком диапазоне полетных режимов с перегрузкой до трех единиц. Допустимая эксплуатационная перегрузка по прочности конструкции для самолета без подвесок была увеличена до значения
+7,0 при полностью убранном крыле и +5,0 при выпуске крыла на минимальную стреловидность. Тем самым Су-17М оказался соответствующим общим нормам прочности для маневренных самолетов, включая истребители (у МиГ-21 современных ему модификаций разрешенные эксплуатационные перегрузки лимитировались тем же значением +7,0).
В конце 1970 года конструкторская документация по самолету была Передана на серийный завод, который получил задание к концу следующего года построить два первых головных самолета новой модификации. В сентябре 1971 года на заводе в Комсомольске-на-Амуре первый предсерийный С32М-1 (заводской номер № 51–01) с новым двигателем был закончен сборкой. В ноябре 1971 года он был перевезен в Жуковский, на летно-испытательную базу ОКБ, где после сборки и некоторых доработок 28 декабря 1971 года летчик-испытатель Е.С. Соловьев поднял его в воздух. Ведущим инженером от ОКБ по испытаниям самолета был назначен его однофамилец К.К. Соловьев. Следующий полет по программе заводских приемо-сдаточных испытаний был выполнен уже на другой день, а 30 декабря машину официально представили военным для прохождения госиспытаний. Комплекс ГСИ с целью сокращения времени решили совместить с летно-конструкторскими испытаниями. В тот же предновогодний день 30 декабря из Комсомольска– на-Амуре авиатранспортом доставили и второй экземпляр С32М-2 (заводской номер № 51–02).
Государственные испытания самолета были начаты в январе 1972 года, первое время на одной только машине № 51–01, имея задачей определение основных характеристик и особенностей устойчивости и управляемости самолета, а также отработку новой силовой установки с АЛ-21 Ф-3. С февраля испытания были продолжены на базе ГНИКИ ВВС в Ахтубинске уже на двух самолетах.
Испытания существенно осложнял и затягивал острый дефицит новых двигателей, которых постоянно не хватало. В это время АЛ-21 Ф-3 только запускался в серию со всеми присущими этому периоду проблемами – неритмичностью поставки новейших материалов и комплектующих, неотработанностью технологии, непрекращающимся потоком изменений конструкции и низкой производительностью труда рабочих, только осваивающих новый для них тип изделия. К тому же этот тип двигателя планировался для установки сразу на три новых типа самолетов, проходивших в этот период интенсивные испытания: суховские Т-6 (Су-24) и С-32М, а также микояновский МиГ-23Б. Ввиду дефицита двигателей соперник в лице МиГ-23Б в конце концов лишился перспективной силовой установки, вернувшись к привычным микояновцам двигателям Тушинского МКБ "Союз", имевшимся в достатке.
Для испытаний ОКБ А. М. Люльки тогда могло предоставить лишь собранные опытным производством двигатели с ограниченным ресурсом, да и те распределялись едва ли не поштучно, личным распоряжением министра П.В. Дементьева. Нередкими по этой причине были продолжительные перерывы в ходе работ. Хватало и других проблем: уже в начале испытаний выяснилось, что из-за полной перекомпоновки самолета центр тяжести сместился назад и затруднено обеспечение требуемого диапазона центровок.
На скорую руку было предложено исправить положение за счет установки в носовой части центровочного груза, в роли которого выступала металлическая дробь, которую засыпали в полость между обечайками воздухозаборника, залив эпоксидной смолой для связки. Доработанная таким образом первая машина вышла на испытания, однако вскоре выяснилось, что отвердевшая смола плохо переносит вибрационные нагрузки и трескается. Выкрошившаяся дробь каким-то путем попадала в воздушный канал, продолжая свой путь в двигатель, где на лопатках компрессора при очередном осмотре обнаружились забоины. Следствием "рацпредложения" стал выговор, полученный руководителем темы Н.Г. Зыриным лично от министра. Двигатель отправили на переборку, но залитую в нос самолета смолу с металлическим крошевом выковырять оказалось невозможно, и носовую часть пришлось переклепывать, заменяя на новую. На второй машине центровочный груз выполнили уже в более традиционном виде, из пакета стальных плит, установленных в "бочке" конуса. В серийном исполнении Су-17М было найдено более удачное решение: по бортам кабины летчика установили алюминиевые бронеплиты, достаточно массивные для выполнения функций центровочного груза.


На месте падения С32М-2. 30 июня 1972 года самолет на малой высоте попал в раскачку по тангажу и вышел на закритические углы атаки. Военный летчик-испытатель Э.М. Колков катапультировался из неуправляемой машины
Прежде Су-17, как и Су-7Б, защиты летчика с боковых проекций не имел, ограничиваясь прикрытием передним бронелистом и лобовым стеклом фонаря толщиной 25 мм. Сохранив стальную бронеплиту на переднем шпангоуте кабины, внедрили прикрывающие летчика с боков профилированные бронелисты из алюминиевых сплавов Д16 и В95, выполненные по контуру рукавов воздушных каналов. Еще одна небольшая бронеплита находилась на полу кабины, защищая от обстрела снизу, имелся также бронезаголовник кресла. Общий вес стальных бронеплит составлял 48 кг, дюралевой брони – 78 кг.
В одном из полетов 27 июня 1972 года на второй опытной машине № 51–02 (летчик-испытатель ОКБ А.Н. Исаков) при проверке надежности системы запуска двигатель так и не запустился. Вдобавок из-за дефекта электроснабжения самолет обесточился (по словам летчика, "отказали даже аккумуляторы, на приборной доске не горела ни одна лампочка"). Летчику пришлось сажать самолет с неработающим двигателем и полностью отказавшей электрической системой. Дефект устранили, но уже через пару дней С32М-2 в очередном полете потерпел аварию. Ознакомительный полет на новой для себя машине 30 июня выполнял военный летчик-испытатель Э.М. Колков. На малой высоте самолет попал в раскачку по тангажу и вышел на закритические углы, из-за чего летчик покинул машину. При расследовании мнения о причинах произошедшего разошлись: возможными считали ошибочные действия летчика, раскачавшего самолет из– за того, что был слабо притянут к креслу, однако а в акте записали версию о сломавшемся креплении пружины механизма триммерного эффекта, выводившую летчика из– под обвинений и более всех устраивавшую.
Сам по себе процесс раскачки, встречавшийся на современных самолетах, представлял собой отнюдь не исключительное явление. Возникал он обычным образом на технике с необратимой системой управления, вызывая непреднамеренные (помимо воли летчика) знакопеременные нарастающие колебания перегрузки. Такое, пусть и нечасто, случалось и на Су-7, когда при намерении летчика парировать изменение угла атаки дачей ручки машину неожиданно резко швыряло вниз, попытка компенсировать "нырок" противоположной дачей ручки на себя приводила к забросу вверх со всё нарастающей перегрузкой, и дальше всё интенсивнее вниз и вверх. Ситуацию осложняло то, что предпринимаемые летчиком действия носили рефлекторный характер, направленный на прекращение колебаний. Противодействуя раскачке, он старался гасить скачки самолета по углу атаки и перегрузке, но на деле его попытки, начиная с первого движения ручкой, способствовали развитию процесса, и без того носившего нарастающий характер (подобно качелям, которые сам человек может и раскачивать, и тормозить). Стремительное развитие раскачки в секунды выводило самолет на разрушающие перегрузки или грань физически переносимых человеческим организмом с потерей зрения и, затем, сознания. B.C. Ильюшин, попадавший на такие режимы, говорил: "Организм человека очень чутко реагирует на темп нарастания перегрузки. Темп даже более воздействует на летчика, нежели сама перегрузка. Ударное нарастание перегрузки может ошеломить человека". Он же делился и секретом борьбы с возможными последствиями раскачки, преодолевавшейся быстрым снижением скорости и, соответственно, перегрузки, удержанием ручки управления в "нейтрали" без опасных рывков в крайние положения и, прежде всего, надежной фиксацией привязными ремнями в кресле, предохраняющей от бросков самолета и обманчивых ощущений (на этот счет рекомендовалось "притягиваться до посинения").
После потери самолета № 51–02 испытания пришлось продолжать на одной только первой опытной машине. Тем не менее, программа испытаний для выдачи Предварительного заключения была завершена 9 ноября 1972 года, и 30 ноября Главком подписал соответствующий акт, позволявший начать эксплуатацию самолета в строю.
С января 1973 года к испытаниям подключили еще одну машину, самолет серийного выпуска № 53–01. Полностью программа первого этапа госиспытаниий была завершена в апреле 1973 года с выполнением 152 полетов, в том числе 99 зачетных работ. От ОКБ в испытаниях участвовали летчики-испытатели Е.С. Соловьев и А.Н. Исаков, со стороны ГНИКИ ВВС – А.Д. Иванов, Н.И. Михайлов и Э.М. Колков.


Су-17М первых серий выпускались с двумя ПВД на правой стороне фюзеляжа, крылом без третьей аэродинамической перегородки и низкими гребнями на центроплане. Под фюзеляжем устанавливались два балочных держателя вооружения. На фото – самолет, служивший в Краснодарском училище
Установка нового, более мощного двигателя со значительно лучшими удельными расходами топлива привело к существенному улучшению всех летных и маневренных характеристик «эмки» по сравнению с «чистым» Су-17. Особенно ощутимы были преимущества в разгонных и динамических качествах: так, максимальные скорости у земли при стреловидности крыла 63° возросли с 1200 до 1300 км/ч, время разгона самолета без подвесок на высоте 200 м от скорости по прибору 600 км/ч до 1100 км/ч уменьшилось с 33 до 20–22 сек. Заметно улучшилась и вертикальная маневренность – его скороподъемность на форсаже у земли при сложенном крыле достигала 220 м/с, тогда как у Су-7БМ и Су-17 находилась на уровне 150–160 м/с. Наибольшая перегрузка установившегося виража Су-17 без подвесок на форсаже при положении крыла 45° и высоте полета 5000 м допускалась не более 3,9 единиц, а для Су-17М при тех же условиях она возросла на 12 % и могла доводиться до 4,4 единиц, при этом радиусы установившихся виражей на малой высоте уменьшились до 750 м, а время полного форсированного разворота – до 33 сек.
Еще более впечатляющим был достигнутый 60 % прирост дальности полета. Даже на максимальном режиме удельный расход топлива двигателя АЛ-21 Ф-3 "нулевой" серии составлял 0,9 кг/кгс-час против 0,977 кг/кгс-час у АЛ-7Ф-1-250. При полете на высоте на крейсерском режиме с минимальным расходом Су-17М расходовал 26,4 килограмма топлива в минуту, тогда как у Су-17 со старым двигателем минутный расход составлял 35,5 килограммов. Соответственно, практическая дальность полета на высоте без подвесок по сравнению с предшественником увеличилась на 635 км и составила 1615 км, а перегоночная дальность с ПТБ стала равной 2800 км против 1860 км у Су-17 "без буквы". По характеристикам дальности полета Су-17М вообще оставался непревзойденным во всем семействе, поскольку у следующих модификаций, прибавивших в весе, даже при некотором увеличении запаса топлива дальность несколько "просела".
24 мая 1973 года официально началось выполнение летных испытаний по программе этапа "Б". Их вели на машине № 53–01, доработанной с измененной установкой ПВД (ниже мы подробнее остановимся на этом нововведении). Ввиду отсутствия в ОКБ на тот момент других машин этой модификации, к испытательным работам привлекался также еще один взятый из серии самолет Су-17М № 63–05 и первый образец экспортного варианта самолета Су-20 № 55–01. В числе прочих работ была завершена отработка вооружения, которым Су-17М порядком отличался, и проведены практические пуски ракет Х-23. Полностью программа ГСИ была завершена в декабре 1973 года, однако позднее, в соответствии с дополнительными требованиями заказчика, прежде всего по вооружению, осуществлялись другие программы испытаний.
Выпуск Су-17М на ДМЗ начался в 1972 году, когда сборочный цех покинули первые 50 самолетов. Для "эмок" (как и для всех последующих модификаций) на заводе вводилась своя новая нумерация производственных серий, отличная от прежнего отсчета, имея целью запутывание вероятного противника относительно производственных возможностей предприятия. Так, производство Су-17 завершилось выпуском 94-й серии, а первые Су-17М принадлежали к 51-й. Позже серии и вовсе стали повторяться, дублируя нумерацию предыдущих модификаций (к примеру, учебные "спарки" через несколько лет пошли в производство снова с 50-х серий). По тем же соображениям на вновь выпускаемых самолетах в начале 80-х годов было приказано устранить заводские номера, прежде красовавшиеся совершенно открыто. Эти номера наносились на съемных деталях и агрегатах (к примеру, створках шасси и держателях вооружения), индивидуальных для каждого самолета, позволяя избежать путаницы при ремонте и работах, связанных с демонтажом агрегатов. С тщательностью исполняя команду, эти номера закрашивали даже на машинах в учебных заведениях, в музеях и на памятниках (следы этих стараний можно видеть даже на самолетах в музее в Монино).


Взлет истребителя-бомбардировщика Су-17'М, оснащенного двумя ПТБ
Как всегда, прежде чем первые серийные машины покинули цех окончательной сборки, над ними серьезно потрудились специалисты филиала «фирмы» Сухого на предприятии и заводские работники отдела главного конструктора и технологи применительно к особенностям производства на предприятии.
Новый самолет стал удобнее и в обслуживании. И это касалось не только силовой установки, в которую была вложена львиная доля трудозатрат, но и оборудования. Так, например, изменили расположение и размеры некоторых эксплуатационных лючков.
Что касается шасси с возможностью замены на лыжи, то с одной из серий от такой комплектации отказались. Использование лыжной приставки в эксплуатации носило скорее умозрительный характер, о чем было известно и производственникам. Решив не отягощать завод выпуском невостребованного оснащения, руководство предприятия выступило с предложением ограничить сдачу самолетов с комплектом колесно-лыжного шасси количеством, достаточным для оценки в строевой службе (к концу 1971 года таких машин выпустили уже 90 штук). В своем письме от 22 июля 1971 года в адрес ОКБ и ВВС директор завода В. Копылов предлагал с начала 1972 года прекратить изготовление лыж и монтаж на самолетах соответствующих систем управления, охлаждения и смазки (при необходимости, однако, возможность переоборудования вновь выпускаемых машин под лыжное шасси сохранялась).
На серийных Су-17М 1972 года выпуска в системе управления стабилизатором устанавливались те же, что и у предшественника, бустеры-гидроусилители БУ-220, с которыми максимальная скорость самолета по прибору ограничивалась величиной 1300 км/ч, поскольку из– за недостаточной мощности бустера возникал упор ручки управления самолетом после превышения этой скорости (летчики-испытатели характеризовали его природу как "закусывание" ручки при достижении некоторой скорости). Для устранения этого недостатка и снятия ограничения на самолетах выпуска с 1973 года устанавливались более мощные бустеры БУ-250П и Л (правый и левый), усилия на штоке которых были почти в полтора раза больше, чем у БУ-220. Принятые меры позволили полностью изжить упор ручки в системе продольного управления при всех скоростях полета, а максимальная скорость теперь ограничивалась 1350 км/ч только из условий динамической (возможен флаттер) и статической прочности (в очередной раз подтверждая правило – устранение одного ограничения ведет к появлению нового, только на очередном "витке спирали").
Прицельное оборудование самолета не претерпело изменений по сравнению с С-32.
Мощный двигатель "эмки" с солидным запасом тяги позволил поднять массу подвесок с 2,5 т у первых серий до четырех тонн. С этой целью в ходе выпуска с 63-й серии, пошедшей в 1973 году, ввели еще две точки подвески, с которыми число держателей дошло до восьми. Под фюзеляжем для этого оборудовали четыре пары узлов крепления держателей, причем, в зависимости от задачи, можно было оснастить самолет четырьмя или только двумя подфюзеляжными точками подвески, переставляя держатели соответственно заданию – в варианте установки только двух БД они крепились на среднюю, вторую и третью, пару узлов. Для их установки, в зависимости от места расположения, использовалось три типа переходных балок. Кроме того, была увеличена с 250 до 500 кг грузоподъемность внутренних крыльевых точек подвески, что позволило подвешивать на самолет до восьми "пятисоток". Как и "безбуквенный" Су-17, "Эмка" могла нести до четырех зажигательных баков типа ЗБ-500. На четыре многозамковых балочных держателя можно было подвесить 18 "соток" и еще две под крыло (всего 20 бомб стокилограммового калибра), либо восемь авиабомб по 250 кг и также две под крыло (всего 10 бомб калибра 250 кг). Показатель весовой отдачи при предельной бомбовой загрузке был значительно более высоким и по сравнению с современными Су-17М, и ударными самолетами МиГ-23Б, и Су-24 первых серий.

Су-17М

Основная опора шасси истребителя– бомбардировщика Су-17М

Установка двух балочных держателей БДЗ-57М под фюзеляжем Су-17М

Истребитель-бомбардировщик Су-17'М мог нести четыре многозамковых балочных держателя

Су-17М в одном из вариантов вооружения оснащен двадцатью авиабомбами калибра 100 кг

Блоки НАР УБ-32А-73 и пара ПТБ под крылом истребителя– бомбардировщика Су-17М
Для повышения эффективности бомбометания с целью исключения взаимного перекрытия зон сплошного поражения, когда разрывы, образно говоря, ложились в те же воронки, на Су-17М ввели три режима бомбометания: «Залп», «Серия» и «Часть». Если на Су-7БКЛ и Су-17 сброс бомб осуществлялось двумя способами – залпами по две (симметричными парами с левых и правых держателей) или сбросом всех сразу, то, начиная с «эмки», в режиме «Залп» все авиабомбы сбрасывались с интервалом в 0,1 сек, укладываясь с небольшими промежутками. Режим «Серия» позволял выбрать заранее один из наиболее эффективных интервалов сброса всех бомб в зависимости от калибра, типа цели и характеристик боеприпаса (интервалы могли составлять 0,2, 0,3 и 0,4 сек, при которых разрывы шли более рассредоточено, сплошной цепью, с небольшим перекрытием зоны поражения каждой бомбы то, что любят именовать «бомбовым ковром»). В режиме «Часть» при каждом нажатии боевой кнопки сбрасывалось по две бомбы с симметричных держателей с интервалом 0,1 сек. Позднее был добавлен и четвертый режим – «МВД». В этом случае при нажатии на боевую кнопку с многозамковых балочных держателей сходили все бомбы, серией с предварительно выбранным на земле интервалом времени.
В дальнейшем самолет получил возможность нести до шести 32– зарядных блоков УБ-32, подвешиваемых на всех крыльевых и фюзеляжных точках (прежде на Су-17 внутренние крыльевые держатели позволяли нести только менее тяжелые УБ-16). Как и на Су-17, в состав артиллерийского вооружения самолета входили две встроенные НР-30 и пара подвесных СППУ-22-01.
Для применения двух управляемых ракет Х-23 (или более совершенных Х-23М) в контейнере конуса ВЗ устанавливалась аппаратура наведения, а с машины № 70–01 Су-17М стали комплектоваться станцией в обтекаемом контейнере, подвешиваемом на пилон для балочного держателя под крыло. Контейнерное размещение позволило брать требуемую аппаратуру только для выполнения задачи, не возя с собой постоянно лишний вес и избавляя электронику от неизбежных сотрясений и вибраций в каждом полете.
В ходе серийного выпуска Су-17M получил мощное оружие против зенитных ракетных комплексов – первую противорадиолокационную ракету отечественной фронтовой авиации Х-28. Ракета предназначалась прежде всего для поражения РЛС американских ЗРК "Хок" и "Найк Геркулес".
Х-28 первоначально предназначалась для оснащения бомбардировщиков Як-28, однако там "не прижилась" и ее разработка порядком затянулась. Между тем заказчик выказывал самую серьезную озабоченность сложившимся положением, при котором во фронтовой авиации отсутствовало противорадиолокационное оружие. В то же время очевидным было, что в современной войне выполнять задания ей придется в условиях самого жесткого противодействия объектовой и войсковой ПВО противника. Если прежде ЗРК как наиболее эффективные зенитные средства присутствовали только в обороне важных стационарных объектов, то к середине 60-х годов они появились и в боевых порядках войск, непрерывно совершенствовались и поступали на вооружение в массовых количествах. Для ударной авиации встреча с современной ПВО грозила если не полным срывом выполнения задачи, то значительными потерями на грани недопустимых. К примеру, при ударе полковым нарядом сил истребителей– бомбардировщиков типа Су-17 по цели, прикрываемой батареей ЗРК "Хок", ожидаемые потери составляли не менее четверти самолетов.
Настоящим вызовом выглядело также то, что вероятный противник не только располагал противорадиолокационным оружием, но и в массовых количествах применял его в боевых действиях. Приняв в 1964 году на вооружение противорадиолокационные ракеты "Шрайк", американцы успели их опробовать во Вьетнаме. Первые пуски "Шрайк" были отмечены в апреле 1965 года, с марта 1968 года их дополнили более совершенные ракеты "Стандарт ARM", а в дальнейшем противорадиолокационное вооружение стало применяться самым масштабным образом. Интенсивность их применения была такой, что в отдельные месяцы вьетнамской стороной по РЛС и ЗРК отмечалось до сотни пусков ракет. За один только 1968 год были выведены из строя 19 вьетнамских ЗРК и еще 10 потеряли боеспособность из-за повреждений.