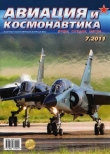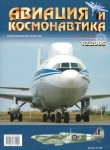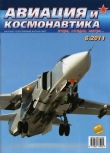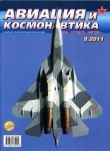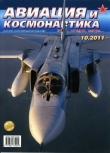Текст книги "Авиация и космонавтика 2011 05"
Автор книги: Авиация и космонавтика Журнал
Жанр:
Технические науки
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 8 страниц)
Но вернемся к нашей задаче: даже заметив подлежащий поражению объект, летчик должен затратить несколько секунд на распознавание, принятие решения и начало действий – время, за которое современный самолет преодолеет еще километр – полтора. Выполнение прицельной атаки требует еще нескольких секунд для доворота на цель, наложения прицельной марки и выдерживания ее на цели с тем, чтобы гироскопические узлы прицела "успокоились" и она не плыла после маневра. В итоге сброс бомбы приходится производить, оказываясь буквально лицом к лицу с целью. Между тем из-за высокой скорости движения самолета-носителя, сброшенная с него бомба пролетает по дороге к цели изрядное расстояние, измеряемое как минимум несколькими сотнями метров, а то и километровой дистанцией (так называемый относ, или горизонтальная проекция траектории полета бомбы, зависящий от аэродинамических характеристик конкретного боеприпаса и условий бросания – высоты полета носителя, его скорости и угла тангажа на этом режиме). Тем самым сброс должен производиться загодя еще за несколько секунд, и время на те самые осознанные действия в ходе нанесения удара и вовсе спрессовывается до минимума. Все эти арифметические прикидки демонстрируют как сложность нанесения прицельного удара, ток и крайне ограниченное время на его организацию даже при своевременном обнаружении цели.

Западные истребители-бомбардировщики отличались завидным вооружением и оснащенностью современным прицельно-навигационным оборудованием. На подвеске этого F-I05D «Тандерчиф» шесть 750-фунтовых бомб, два блока НАР и пара дополнительных баков

«Фантам» II обладал широкими возможностями, сочетая богатое вооружение с высокими летными данными
По опыту было установлено, что при полете на высоте 300 м и скорости 800 – 1000 км/ч даже обнаружение цели с пятикилометрового расстояния позволяет рассчитывать на выполнение результативной атаки с ходу с горизонтального полета с вероятностью не более 0,3; в остальном большинстве случаев летчик из-за недостатка времени «мажет» мимо цели, либо не успевает прицелиться и вынужден выполнять повторный заход с очевидным риском попадания под зенитный огонь.
На практике летчики истребителей-бомбардировщиков имели возможность оценить все "прелести" теории: при тренировках на полигонах сплошь и рядом оказывалось, что затруднения возникают даже с нахождением нужного квадрата, где располагались мишени, не говоря уже об отыскании целей, хотя те специально вырисовывались на местности крупными меловыми крестами, а их местоположение обычно было известно заранее, обозначено на карте, а то и облетывалось накануне в ознакомительном полете.
Положение отчасти могло исправить внедрение более современной автоматики управления самолетом, которая позволила бы летчику сосредоточиться на поиске цели и сняла психологическое напряжение от ощущения близости земли. В строю уже находились радиотехнические системы ближней навигации, снимавшие часть задач по выходу в требуемый район. Однако летчикам Су-7Б и других истребителей-бомбардировщиков приходилось действовать по старинке, ориентируясь по данным гиромагнитного и радиокомпаса и ведя непрерывный визуальный осмотр, даже автопилот на бреющем полете был ненадежен, из-за чего инструкцией позволялось включать его только на высотах не менее 1000 м, в маловысотном полете пользуясь только помощью демпфера крена и тангажа.
Неудачам способствовала и ограниченная обзорность из кабины, особенно у Су-7Б, где из-за взаимного влияния лобового бронестекла и отражателя прицела имела место дифракция солнечного света и окружающее пространство просматривалось через кольца мерцающего марева. При солнце, светящем спереди, обзор в этом направлении просто терялся в радужных пятнах и осматриваться для ориентирования и определения высоты приходилось через боковое остекление.
Высокие полетные скорости имели следствием еще одну сложность: "промазав" с прицеливанием или выполнением атаки, летчики зачастую не могли вновь отыскать цель. Повторный заход требовал разворота или другого маневра, а радиусы виражей возросли сообразно скоростям до внушительных величин порядка нескольких километров, уводивших самолет на границу потери визуального контакта с целью. Так, при пилотировании Су-7Б на скорости 700 км/ч для выполнения разворота на 180° на малой высоте при выдерживании крена 60° описывалась дуга трехкилометрового размаха, при уменьшении крена до 45° и рекомендуемой для маневра скорости 650 км/ч диаметр дуги полного разворота достигал уже семикилометрового размера, а на высоте 4000 м вираж "зашкаливал" за десять километров, с которых тот же танк просто-напросто "растворялся" на местности.
Не очень утешительными для американских "коллег" оказались и уроки Вьетнама: современная техника со всем ее сложным набором навигационно-прицельного оборудования, сверхзвуковой скоростью и высотностью "хромала" в реальной боевой обстановке из-за тех же проблем с поиском целей и организацией прицельного удара в скоростном полете. Действуя с привычным размахом, американцы пытались решить проблему увеличением "прессинга" бомбардировок, накрывая большие площади с расчетом на то, что какая-то бомба по статистическому закону обязана найти цель. Неожиданно эффективными оказались малоскоростные штурмовики, вплоть до поршневых "Скайрейдеров". Потребовалась также организация взаимодействия ударных групп и легкомоторных самолетов авианаведения, круживших над районом удара и наблюдавших обстановку буквально как на ладони, а уже по их целеуказанию с помощью заметных издали дымов сигнальных бомб и ракет выполняла атаку реактивная авиация, выступавшая в роли "бомбовозов". Такое разделение труда, не предусмотренное ранее никакими уставами, явилось вынужденной мерой – в противном случае пилоты реактивных машин просто не могли разглядеть объект атаки в джунглях.

Поступавшие с середины 60-х годов в авиацию стран НАТО F-I04G «Старфайтер» могли нести разнообразное вооружение для поражения воздушных и наземных цепей, для чего оснащались современным навигационным и прицельным оборудованием
Обнаружились также неутешительные выводы, что ставка на скорость и высотность при встрече с современной зенитной обороной себя мало оправдывает – по американским же данным, в ходе вьетнамской войны были потеряны 397 «Тандерчифов» и почти столько же «Фантомов», то есть, в переложение на наши стандарты, два десятка авиаполков штатного состава!
В отечественных ВВС до использования специальных самолетов-авианаводчиков дело не дошло, да и поршневые штурмовики давно уже были списаны в металлолом, однако свои выводы о преимуществах "тихоходной" авиации сделать успели – в истребительно-бомбардировочной авиации находились в строю достаточно многочисленные дозвуковые МиГ-17, служившие в качестве ударных машин до самых 70-х годов. Несмотря на устарелость и известные недостатки, они обладали и очевидными достоинствами, востребованными в их новом качестве – способностью маневрировать на небольших скоростях, обладая хорошими летными качествами на малых высотах и сохраняя отличную управляемость на невысоких скоростных режимах, недоступных более современным машинам. Так, вираж на юрком МиГ-17 можно было выполнять на скоростях до 350 км/ч, при которых "Су-седьмой" просто не мог держаться в воздухе, а разворот и прочие горизонтальные маневры можно было осуществлять, буквально крутясь на пятачке, с втрое меньшими радиусами. В результате при выполнении авиаподдержки МиГ-17 с их скромной боевой нагрузкой зачастую оказывались более эффективным средством, нежели современные самолеты. При невысоких скоростях и хорошем обзоре летчики МиГов уверенно чувствовали себя на небольшой высоте, крутили "змейку" над полигоном в поиске целей, испытывали меньше проблем с их обнаружением, имели возможность компактного построения боевого захода без потери визуального контакта с целью и демонстрировали отменную способность к нанесению точных ударов.
Высокая маневренность и хорошая приспособленность МиГов к работе с малых высот оказывались выгодными при встрече с ПВО противника. Верткий небольшой самолет являлся трудной целью для зенитчиков, а грамотное маневрирование при тех же небольших скоростях позволяло использовать "мертвые зоны" зенитных средств и затрудняло огонь по быстро перемещающейся машине. Неоднократно в ходе учений МиГ-17 с их невысокой боевой нагрузкой, включавшей всего пару бомб небольшого калибра, добивались куда лучших результатов, чем сверхзвуковые истребители-бомбардировщики, а подчас только Мигам удавалось выполнить задачи и поразить цели.
Высказывались также требования повысить защищенность самолета, основными режимами работы которого становились малые высоты и умеренные скорости, необходимые для эффективного нанесения удара. Совершенствование зенитных средств и насыщение ими боевых порядков сухопутных войск, где в массовых количествах стали появляться носимые ПЗРК, подвижные ЗРК и зенитные автоматы, серьезно осложняли задачи ударной авиации. Живучесть боевой машины, прикрытие броней наиболее важных агрегатов и систем, многократное резервирование с целью повышения боевой устойчивости стали рассматриваться в числе важнейших боевых свойств ударного самолета.
Такой широкий спектр задач и направлений потребовал более рационального подхода к проблеме. Поскольку сочетать все желаемые качества и свойства в одной машине не представлялось возможным, постепенно оформились три основных направления по созданию перспективного ударного самолета, причем вышло так, что параллельными путями процесс шел и в СССР, и у наших вероятных противников за океаном.
Основная ставка делалась на мощную ударную машину, сочетавшую в себе возможности всепогодного применения и оборудование современной прицельно-навигационной системой, высокую боевую нагрузку, в состав которой входило бы едва ли не все имевшееся и разрабатываемое вооружение, управляемое и неуправляемое. От самолета требовались высокие летные характеристики: от возможности полета на сверхзвуке на малой высоте до большого радиуса действия и все той же работы с грунта. У нас таким самолетом стал Су-24, с появлением которого стало связанным возрождение фронтовой бомбардировочной авиации. Однако путь к нему отнюдь не был усыпан розами – машина претерпела ряд метаморфоз при формировании облика, не говоря уже о долгой и кропотливой доводке систем, оборудования и вооружения, в части которых самолет не имел себе равных по сложности и дороговизне (руководивший профильным НИИ авиационных систем Е.А. Федосов не без юмора говорил, что "военные, соскучившись за хрущевский период правления по родному делу, нафантазировали, заказывая все, что было можно, и что смогли вычитать в литературе на данную тему"). Сочетавший в себе все технические новинки и достижения военного авиастроения Су-24 имел и тем более важное значение, что рассматривался в качестве противовеса американскому F-111, находившемуся в строю уже с 1967 года и прошедшему боевое крещение во Вьетнаме. "Американец", хотя и именовался тактическим истребителем, являлся всепогодной ударной машиной широкого назначения, выглядел наисовершеннейшим тогда образцом техники, буквально напичканным новейшим оснащением и вооружением (один только заявленный вес боевой нагрузки в двенадцать с лишним тонн с широким ассортиментом бомб и управляемых ракет чего стоил!), обладал завидными летными характеристиками, от максимальной дальности в 5000 км до сверхзвука у земли – словом, представлялся настоящим вызовом. Вдобавок ожидалась его поставка на вооружение американской авиации и флота в массовых количествах – как гласили сообщения, планировалась закупка сразу 1700 самолетов. На деле оказалось, что своих проблем хватает и у империалистов, хлопоты с доводкой F-111 затянулись на несколько лет, от ряда заявленных возможностей пришлось отказаться, а объемы заказов из-за все растущей цены потребовалось раз за разом урезать, и вся программа выпуска ограничилась количеством куда меньшим, составив 488 машин, или менее трети от планировавшегося числа.
Возрождение бронированного штурмовика в нашей стране также заняло порядочное время. Работы, по сути, пришлось начинать с нуля, формируя концепцию ударного самолета непосредственной авиаподдержки – "летающего танка" (с учетом того, что идея эта поначалу у заказчика понимания не нашла). В конечном счете "второе пришествие" самолета-штурмовика в лице Су-25 в советской авиации состоялось только в начале 80-х годов. Американцы, заинтересовавшиеся подобной машиной по опыту вьетнамской войны, тоже не сразу определились с ее назначением, сделав ставку на самолет непосредственной авиаподдержки для действий при визуальной видимости и, поначалу, даже без управляемого вооружения, получив в итоге весьма необычного вида А-10.
В гораздо более выгодном положении оказался "классический" истребитель-бомбардировщик, в качестве третьего направления развития ударного самолета представлявший собой эволюционное направление. Американцы, располагая весьма удачным многоцелевым истребителем F-4 "Фантом II", имевшим широкий потенциал совершенствования, были вполне удовлетворены возможностями по его модернизации, давшей целое семейство машин со все более внушительным ассортиментом вооружения, бортового оборудования и "подраставшим" уровнем летно-технических характеристик. У нас истребительно-бомбардировочная авиация нашла пополнение в лице самолетов третьего поколения Су-17 и МиГ-27, также представлявших собой модернизационные варианты уже отработанных конструкций – в первом случае Су-7Б и, во втором, более "свежего" истребителя МиГ-23.
В силу обстоятельств разработки по всем трем направлениям наиболее "плотно" оказались сосредоточенными в ОКБ П.О. Сухого. Организация работ над достаточно разнообразными "обличьями" ударного фронтового самолета происходила также в весьма различавшихся формах. Так Су-24 создавался в соответствии с правительственным заданием. В случае со штурмовиком Су-25 разработка шла в инициативном порядке "самодеятельным" образом, безо всякого задания заказчика, посвященного в замысел уже на стадии аванпроекта самолета. И, наконец, появление истребителя-бомбардировщика Су-17 явилось результатом плановых работ по модернизации основной машины ИБА Су-7Б, призванной удовлетворить неоднократно высказываемым пожеланиям военных по улучшению летно-технических данных и возможностей машины в части оборудования и вооружения, долженствующих повысить боевую эффективность. Будучи наиболее привычным и "понятным" способом достижения цели, работы по созданию новой усовершенствованной модификации истребителя-бомбардировщика шли достаточно оперативно и с весьма убедительными результатами, подтвердив справедливость приверженности П.О. Сухого "эволюционному" пути развития конструкции как более надежному и оправданному. Однако было бы несправедливо пенять Генеральному конструктору на чрезмерную осторожность и уклончивость в вопросах технического риска – новинок в конструкции Су-17 хватало, и каких: достаточно сказать, что при разработке прототипа машины впервые в практике отечественного самолетостроения нашло применение крыло изменяемой стреловидности.
Продолжение следует
Анатолий АРТЕМЬЕВ
МОРСКАЯ АВИАЦИЯ ОТЕЧЕСТВА В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ
Продолжение. Начало в № 7-10,12/2010, 1, 2, 4/2011 год)

М-9 авиации Балтийского флота
Первые воздушные схватки над сушей и морем наконец-то убедили руководство в необходимости оснащения всех отрядов более скоростными самолётами, вооруженными пулеметами.
Утром 19 июля 1916 года в районе Виндавы две пары М-9, ведущими которых были лейтенант А. Горковенко и мичман М. Сафонов, участвовали в воздушном бою с превосходящими силами противника. На следующий день они же сражались с тремя "Альбатросами", причём Горковенко сбил один из них.
25 июля в летописи (перечень военных действий на Балтике) есть следующая запись: "Появившиеся в районе Лизерорта с цепью налёта на Церель пять германских самолётов были атакованы двумя русскими гидросамолётами, причём в завязавшемся бою подбит один из неприятельских самолётов, который, спланировав на воду, загорелся. Ввиду появления ещё трёх неприятельских самолётов, русские гидросамолёты возвратились на Церель".
В середине 1916 г. приступили к созданию Ботнического воздушного района службы связи, руководить которым поручили капитану 2-го ранга С.Ф.Дорожинскому. Планом предусматривалось строительство трёх основных станций: в Дегере, Юнгфрузунде и Або, а также пяти вспомогательных.
Из летописи за 11 августа: "So время попытки неприятельских самолётов произвести налёт на остров Абро два русских гидросамолёта, вылетевшие со станции Церель, атаковали противника, принудив его к возвращению. Во время преследования до Курляндского берега один из неприятельских самолётов был подбит и упал у берега в воду."Русские самолёты вернулись без потерь".
Авиатранспорт "Орлица" ночью 13 августа перешёл из Ревеля в Моонзунд. Церельская воздушная станция подверглась обстрелу тяжелой артиллерией, в результате которого самолёт Лишина был поврежден. Потерян также гидросамолёт "Ф.Б.А.", причем летчик лейтенант Любицкий сломал колено, а ученик-летчик поручик Онтаржевский – ребро.

Корабли балтийского флота в походе. Слева авиатранспорт “Орлица"
Стремясь завоевать господство в воздухе, немцы в июле – августе 1916 г. приступили к бомбардировке авиационных станций в Кильконде, Цереле, Аренсбурге, сбросив за небольшой период в общей сложности около 250 бомб различного калибра. По мере возможностей немецкой авиации оказывалось противодействие. Так 13 августа вылетевшие на перехват русские летчики, среди которых был и экипаж Нагурского, не допустили немецкие самолёты к Кильконду.
Для противодействия неприятелю в начале августа 1916 г. сводный отряд под командованием лейтенанта Дитерихса 1*
[Закрыть]перебазировался на о. Руно, откуда 14 августа пара самолётов бомбила немецкую авиационную станцию на озере Ангерн. Сброшенными бомбами были подожжены здания и ангары. Самолёты вынуждены были принять бой с семью самолётами противника, один из которых сбили, а два повредили. Балтийские лётчики потерь не имели.
Этот эпизод описан в Летописи достаточно подробно: "14 августа был выполнен налёт двух русских гидро с лётчиками лейтенантом Дитерихсом и мичманом Прокофьевым на германскую авиастанцию на оз. Ангерн (Курляндия), причём на ангары были сброшены зажигательные бомбы. Во время боя с поднявшимися в воздух семью неприятельскими самолётами один из них был сбит и упал, а два вынуждены из-за повреждений спланировать на воду. Оба русских самолёта вернулись на станцию, имея один 3, а второй 13 пулевых пробоин". В результате налёта уничтожен самолёт "Фридрихсхофен" № 664, повреждены четыре самолёта "Бранденбург".
Немцы, в свою очередь, 15 и 16 августа бомбили станцию на о. Руно, повредив три самолета.
Ответный удар по авиационной станции на озере Ангерн состоялся в ночь на 17 августа. Участвовало пять самолётов. По докладам экипажей зажигательными бомбами подожжен ангар и несколько зданий. Это первый в истории отечественной морской авиации ночной налет группы самолетов. Возвращавшиеся экипажи давали условный сигнал, используя пистолеты Верн (ракетницы) и цветные дымки. На эсминце "Гиляк" включали прожекторы, обозначая полосу приводнения, и спускали на воду шлюпки. Эсминец "Поражающий" находился в 8 милях от Мессарогоцена, чтобы помочь экипажам в случае вынужден-ной посадки вблизи курляндского побережья.
Полеты самолётов морской авиации в районе немецкой станции Ангерн позволили выяснить систему противовоздушной обороны непри-ятеля. Благодаря этому самолеты "Илья Муромец" 2-го отряда эскадры воздушных кораблей из Зегевольда со-вершили 22 августа успешный налет на германскую авиационную станцию – подожгли пристань, два ангара, повредили несколько самолетов.
Очередной вылет с о. Эзель выполнила 4 сентября группа из восьми самолётов для выявления позиций батарей, установленных противником на побережье между Домеснесом и Михайловским маяком. По данным экипажей обнаружено четыре батареи, по которым сбросили 41 бомбу, в том числе 12 зажигательных. Было замечено несколько попаданий.
Корректировка артиллерийского огня самолётами давала неплохие результаты. Так 9 сентября канонерская лодка "Храбрый", находившаяся в районе Ирбенской позиции, обстреливала при содействии гидросамолетов-корректировщиков группу неприятельских тральщиков. Как видно, взаимодействие оказалось успешным и два повреждённых германских тральщика выбросились на берег, а остальные предпочли за лучшее удалиться, Немецкие самолёты безуспешно пытались атаковать канонерскую лодку. Атака была отбита, причём один из самолётов противника повреждён.
12 сентября самолёты "Орлицы" корректировали огонь линейного корабля "Слава" и миноносцев, обстреливавших позиции в районе Риги. "Орлицу" безуспешно атаковали немецкие самолёты, сбросившие четыре бомбы.
В октябре гидросамолёты "Орлицы" производили разведку плацдарма высадки десанта у маяка Домеснес. Десант оказался успешным. Был захвачен в плен немецкий отряд (19 октября). Из-за осенних штормов и ранних заморозков "Орлица" ушла на зимовку в Гельсингфорс, закончив кампанию 1916 года.
17 сентября во время разведывательного полёта отряд из четырёх гидросамолётов в районе Курляндского побережья атаковали девять вражеских самолётов. Два русских самолёта, получивших повреждения, благополучно вернулись.
С 20 апреля по 20 сентября 1916 г. балтийские лётчики совершили 163 самолёто-вылета, преимущественно на разведку в Рижском заливе, Ирбенском проливе, побережье от Риги до Либавы, занятого немецкими войсками. Кроме того, производилась разведка в Балтийском море и устье Финского залива. В отдельные дни производилось до десяти самолёто-вылетов. В то же время наносились удары по кораблям и населённым пунктам Лизерорта, Виндава и по аэродрому противника на озере Ангерн (Энгурес).
Из летописи следует: "26 сентября состоялся налёт трёх русских гидросамолётов под общим командованием лейтенанта А.Н. Горковенко на немецкую авиационную станцию на оз. Ангерн. Самолёты сбросили 12 бомб на ангары и другие сооружения. Во время налёта русские гидросамолёты были атакованы поднявшимися в воздух немецкими самолётами (до 20 машин) в том числе несколькими сухопутными истребителями "Фоккер". Гидросамолёт мичмана Зайцевского, на котором был тяжело ранен в грудь разрывной пулей бортмеханик, оказался в тяжелом положении, так как его атаковали несколько самолётов. Бросившись на помощь, лейтенант Горковенко атаковал противника и отвлёк последнего, причём в бою с численно превосходящим врагом был сбит и погиб. Два остальных гидросамолёта благополучно вернулись на базу".
В трактовке Драшпиля этот эпизод существенно отличается: "26 сентября лейтенант А.Н. Горковенко с мичманами Сафоновым и Зойцевским, будучи в дежурстве на о-ве Руно, совершили налет на озеро Ангерн, где они были встречены превосходящими силами "фоккеров". Выручая Сафонова, аппарат Горковенко был подбит, упал в море и утонул. Команда его не была спасена".
После спада напряжённости состоялись награждения. Вот только некоторые из них: С. Петров награждён орденом св. Георгия 4-й степени, С. Лишин (ранее награждённый этим орденом) и А. Прокофьев получили георгиевское оружие с надписью "За храбрость", М. Телепнев, В. Литвинов и другие летчики были награждены георгиевским оружием.
Командование поначалу не при дало значения подвигу Горковенко 2*
[Закрыть], но впоследствии, уже посмертно, наградило его орденом св. Георгия 4-й степени, а месяцем позже георгиевским оружием.
Из приведенных эпизодов со всей очевидностью видно, что у русских лётчиков было традиционно сознание необходимости спасти товарища, даже подвергая опасности свою жизнь. Подобные случаи имели место и раньше. Так, во время атак немецких тральщиков, работавших в Ирбенском заливе, мичман Зайцевский из-за возникшей неисправности двигателя вынужден был приводниться недалеко от миноносца противника, который обстрелял его. Невзирая на опасность два наших гидросамолёта приводнились рядом, забрали экипаж, утопили гидросамолёт и благополучно вернулись на авиационную станцию.
Практически вся деятельность балтийской авиации проходила в условиях превосходящих сил противника. Особенно интенсивно немецкая авиация действовала по аэродромам и посадочным площадкам. Так, аэродром в Кильконде (Кихельхонна) подвергался налётам с воздуха пять раз, Церель (Сырве) – семь раз. Видя нужду в быстроходных истребителях, А.А. Тучков 3*
[Закрыть]пытался получить их от армии, и, для обучения полетам на них морские летчики откомандировывались в Гатчину. Среди них был А.Н. ПрокофьевСеверский 4*
[Закрыть], после командовавший отрядом истребителей на о. Эзель. В 1916 г. производились опыты установки 37 мм пушки Гочкиса на аппараты Щетинина.
По состоянию на ноябрь 1916 г. в авиации Балтийского моря насчитывалось 83 самолёта (18М-5, 53 М-9, 12 М-11).
1*ДИТЕРИХС Владимир Владимирович (1891–1951). Окончил Морской корпус в 1910 г. Служил на кораблях Балтийского флота. В конце 1914 г. добровольно принял должность командира пулемётного взвода в конном подрывном отряде Балтийского флота при Кавказской ("Дикой) конной дивизии. В январе 1915 г. был ранен и контужен. С июня 1915 г. на излечении в Царскосельском Особом эвакуационном пункте, а затем прикомандирован к Морскому генеральному штабу. В ноябре-декабре 1915 г. обучался лётному делу на 2-й авиационной станции службы связи Балтийского флота. С 3 ноября приказом по флоту и морскому ведомству зачислен в морские лётчики. 2 декабря 1915 г. назначен в 3-й судовой авиаотряд, а 11 марта 1916 г. временно принял командование 1-м судовым авиаотрядом. Произведён в лейтенанты 1 января 1915 г. Участвовал в многочисленных разведывательных полётах и в воздушных боях. Согласно приказу командующего Балтийским флотом от 30 июня 1917 г. допущен к исполнению должности начальника 3-го воздушного дивизиона 1-й воздушной бригады. Совместно с подпоручиком Евламовым обучал на самолётах М-5 и М-9 группу из 13 авиамехаников (Столярский, Свинарёв, Кузнецов, Волков и другие). В конце 1917 г. прикомандирован к особому отделу Балтийского флота где и числился до 23 марта 1918 г. В период эвакуации Болтфлота из Финляндии, в начале 1918 г. был арестован финскими белогвардейцами и находился в тюрьме в Николайштадте. В июне 1918 г. был освобождён и после прибытия в Петроград, приказом по флоту назначен командиром недостроенного эсминца «Сокол». Осенью 1918 г. в Петрограде и Кронштадте по инициативе группы морских офицеров, в том числе и В. В.Дитерихса была создана тайная военная организация «Великая Единая Россия», которая пыталась привлечь в свои ряды офицеров, чтобы содействовать Северной добровольческой армии. 23 февраля 1919 г. после ареста некоторых членов организации В.Дитерихс, будучи предупреждён, перешёл финскую границу. Приказом по флоту Балтийского моря от 24 июля 1919 г. объявлен дезертиром, как самовольно оставивший службу. В ноябре-декабре 1919 г. старший лейтенант Дитерихс находился в штабе Северо-Западной армии в распоряжении генерала для поручений Владимирова. Вскоре после окончания Гражданской войны Дитерихсу удалось вместе с супругой выехать в Абиссинию, где он служил в качестве военного советника. В 1930 г, убыл во Францию. Окончил высшую химическую школу, работал инженером-химиком в одной из ведущих фирм Франции. Скончался 28 декабря 1951 г. и похоронен на русском кладбище в Сен-Женевьев-де-Буа. Награды: орден св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом; св. Анны 4-й ст. с надписью «За храбрость»; св. Георгия 4-й ст. Награжден Георгиевским оружием.
2*ГОРКОВЕНКО Арсений Николаевич (1891–1916). Окончил Морской корпус в 1911 г. корабельным гардемарином, имел золотой знак за окончание училища. Через год получил чин мичмана. В столичном Политехническом институте прослушал теоретический курс авиации, закончил Бакинскую школу морской авиации. Получил назначение на Балтийский флот, на воздушную станцию в Ревель (1916). Приобрел опыт выполнения воздушной разведки. С поступлением в отряд летающих лодок М-5, вооружённых пулеметом, участвовал в воздушных схватках и вскоре сбил неприятельский самолёт.
3*ТУЧКОВ Александр Александрович (1884–1956). Окончил Морской корпус в 1904 г. Один из основателей отечественной морской авиация. Фактически руководил её развитием и созданием организационных форм. Морской лётчик. В годы Первой мировой войны являлся начальником воздухоплавательного отделения Морского Генерального штаба, начальник учетно-строевого отделения Управления морской авиации и воздухоплавания. В 1915 г. по совместительству начальник Петроградской офицерской школы морской авиации ОВФ, допущен к исполнению обязанностей начальника воздушной бригады, капитан 2-го ранга. После революции жил в США.
4*ПРОКОФЬЕВ-СЕВЕРСКИЙ Александр Николаевич (1894–1974) Закончил Петербургский морской кадетский корпус в 1914 г. Служил на флоте. Закончил авиационные курсы при Технологическом институте. Обучался в Гатчинской школе на «Формане». В 1915 г. переведён в Севастопольскую авиационную школу ОВФ для дальнейшего обучения, но в мае того же года «за умышленное неисполнение приказания своего руководителя штабс-капитана Троицкого» был отчислен и доучивался на Балтийском флоте. Назначен на станцию гидросамолётов на о. Эзель, в конце июня получил звание морского лётчика (диплом № 337). В июле 1915 г. при возвращении из разведывательного полёта, по-видимому вследствие грубой посадки в сумерках, механик Блинов выронил 10-фунтовую бомбу от взрыва которой погиб, а Прокофьев был ранен и находился в воде более 20 мин, пока не был подобран. Врачам пришлось ампутировать ему ногу ниже колена. Сам Прокофьев так рассказал об этом эпизоде: "Было десять часов вечера, когда нам дали знать, что показались две немецкие подводные лодки. Вечер был тихий, но туманный. Я взял с собой механика. Несмотря но неблагоприятную погоду, мне удалось пролететь довольно далеко. Вдруг я заметил, что с мотором творится что то неладное; пришлось вернуться. Напрасно товарищи уговаривали меня больше не летать. Тянуло. Наше занятие можно уподобить охоте, и инстинкты развиваются охотничьи: выследить добычу и заполонить ее, во что бы то ни стало. Разведка удалась: неприятельские подводные лодки постыдно бежали. Я повернул обратно.
Облака сгустились, и в июльскую полночь было темно, как в сентябрь. Мы летели в каком-то сером месиве. Сверху влажная серая мгла, внизу – подернутая туманом серая гладь моря. Я пролетел 110 верст и со счастливым сознанием исполнения долга стал снижаться. Но нас, авиаторов, всегда сторожат неожиданные опасности. Окруженный высокими пенистыми волнами, гидроплан мчался уже по морю. Вдруг страшный треск; все завертелось, спуталось, и я очутился в воде. От ненавистной причины взорвалось бомба. К счастью, я не потерял сознания, хотя попал на значительную глубину, у меня хватило сил вынырнуть и продержаться за обломки аппарата около 25 минут, пока подоспела помощь. Только когда вынули меня из воды, выяснилось, что правая нога раздроблена ниже колена; ее пришлось отрезать. Механик был разорван на части. Пос ле операции усиленно тренировался ходить сначала на костылях, а потом без костылей, с деревянным протезом ноги".