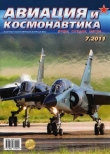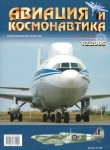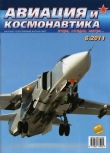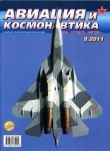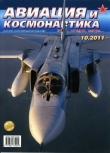Текст книги "Авиация и космонавтика 2011 05"
Автор книги: Авиация и космонавтика Журнал
Жанр:
Технические науки
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 8 страниц)

Як-28 выполняют бомбометание
Желанные скоростные качества были достигнуты, однако в строевой эксплуатации вскоре выявилась их оборотная сторона. Соответственно высоким полетным скоростям, обеспеченным крылом большой стреловидности со значительной удельной нагрузкой, изрядно подросли взлетно-посадочные скорости. Су-7Б, будучи и без того достаточно тяжелой машиной со взлетным весом вдвое больше, чем у «двадцать первых» ранних модификаций (и практически равным взлетному весу бомбардировщика Як-28), имел крыло со стреловидностью 63° (наибольшей среди всех отечественных боевых машин своего времени). Такой же рекордно высокой была удельная нагрузка, достигавшая у Су-7Б значения 380 кг/м² (у МиГ-21 Ф она составляла 300 кг/м², а у предшественника МиГ-17, с которых, в основном, и должны были переучиваться на новую технику летчики – казавшиеся нереально низкими 230 кг/м², почти как у «пешки» военного времени).
Посадочная скорость Су-7Б в начале выравнивания у края полосы достигала 320–340 км/ч, будучи в полтора раза выше, чем привычная летчикам по прежним машинам, из-за чего напоминала новичкам скорее "управляемое падение". Стремительное сближение с землей на посадочных режимах оставляло летчику минимум времени на принятие решений, исправление ошибок и реагирование, что имело следствием ухудшившуюся картину с аварийностью при освоении новой техники, неоднократно с тревогой отмечавшуюся руководством ВВС. И было отчего – истребители-бомбардировщики семейства Су-7Б лидировали в этом отношении в советских ВВС, в разы превосходя по числу поломок и летных происшествий машины прочих типов. При этом указывалось, что основной причиной аварий и катастроф являются проблемы личного состава в овладении сложной в пилотировании техникой. Главком ВВС главный маршал авиации К.А. Вершинин отмечал, что по состоянию с аварийностью на середину 60-х годов "Су-седьмые" выглядят даже хуже, чем печально известные "Старфайтеры", которые у нас иначе как "летающими гробами" не называли.
К слову, проблемы с переходом на новую скоростную авиатехнику отнюдь не являлись исключительно нашей напастью. С аналогичными трудностями сталкивались летчики всех стран – аэродинамику и законы динамики полета было не обмануть, свидетельством чего являлись цифры потерь самолетов нового поколения, в ВВС США: за время эксплуатации тех же F-104 "Старфайтер" в летных происшествиях были потеряны 160 из имевшихся 270 самолетов (59,25 %), "двухмаховых" перехватчиков F-106 разбили 112 из 340 (33 %). Не лучше дело обстояло и с истребителями-бомбардировщиками: из числа 850 имевшихся в строю F-105 "Тандерчиф" в авариях и катастрофах были потеряны 256 (30,1 %), и даже первенцев американской сверхзвуковой техники F-100 "Супер Сейбр" (создавшийся как истребитель-перехватчик, большую часть службы он проделал в ипостаси ударного самолета), прослуживших целую четверть века и, казалось бы, "назубок" изученных летным составом, разбили больше двух третей имевшегося парка – 864 из имевшихся 1250 самолетов (69,1 %).
Переход на технику нового поколения недешево дался и советской авиации: с началом поступления в строевые части новых сверхзвуковых машин налет на одно летное происшествие, характеризующий уровень аварийности, резко сократился. Так, если в 1960 году этот показатель составлял порядка 17700 часов, то в 1961 году он упал до 11600 часов, снизившись в полтора раза. Отчетность службы безопасности полетов, занимавшейся анализом этих вопросов, свидетельствовала, что с приходом в эксплуатацию машин со столь впечатляющими характеристиками, разбиваться они стали чаще. Гибли люди и дорогостоящая техника, что выглядело неприемлемой ценой за достижение новых возможностей.

Для ударов по наземным целям предусматривалось применение истребителей фронтовой авиации. МиГ-21C на снимке оснащен подфюзеляжной пушечной гондолой ГП-9 и четырьмя блоками УБ– 16-57УМП

Подвеска бомб ОФАБ-100М на истребителе МиГ-21 С. Для размещения большего количества бомб использовались многозамковые держатели МБД2-67

Блоки реактивных снарядов УБ– 16-57УМ под крылом истребителя МиГ-21С
Применительно к Су-7 проблема заключалась еще и в том, что улучшению взлетно-посадочных качеств за счет внедрения эффективной механизации крыла препятствовала сама схема с высокой стреловидностью и тонким профилем. В то же время от одной модификации к другой за счет увеличения запаса топливо и установки нового оборудования масса машины и нагрузка на крыло только возрастали. Так, наиболее доведенная модель Су– 7БКЛ прибавила в весе без малого полторы тонны, при этом посадочная скорость поднялась на 15–20 км/ч по сравнению с машинами первых серий. Даже учебная «спарка» Су– 7У, которой априори следовало бы отличаться безопасностью и простотой в поведении, за счет установки дополнительной «начинки» оказалась самой тяжелой во всем семействе и обладала наибольшей посадочной скоростью – над дальним приводом при заходе на посадку она проносилась на 420 км/ч, имея славу «метеора».
Ценой значительных усилий в подготовке, методике и организации летной работы картину удалось улучшить, доведя показатели безопасности полетов до приемлемых величин, однако в силу "врожденных свойств" Су-7, состояние с аварийностью для него оставляло желать лучшего. Так, если в 1965 году средний налет на одно летное происшествие в советских ВВС составлял около 14000 летных часов, то на один потерянный самолет типа Су-7 приходилось всего 2300 часов налета. Состояние матчасти к этому времени было доведено до более-менее приемлемого уровня и летные происшествия по конструктивно-производственным причинам составляли относительно малую долю их общего числа, а основная масса аварий и катастроф имела следствием ошибок летного состава, вызванных сложностью самолета в пилотировании и его непростыми особенностями. Всего за этот год советские ВВС потеряли в авариях и катастрофах 158 машин, из них Су-7Б – 17 единиц, или более 10 % от общего числа. Впрочем, не сладко приходилось и американцам, ВВС которых за тот же годичный период с июля 1965 по июнь 1966 года лишились аж 264 самолетов, разбитых в летных происшествиях даже без учета боевых потерь во Вьетнаме (впрочем, объясняющим обстоятельством выглядело то, что и летали они гораздо больше).
Однако безопасность полетов, при всей своей значимости, не являлась самоцелью – в этот период выявились и другие проблемы организации деятельности ВВС, заставившие пересмотреть взгляды на тактику действий фронтовой авиации. Совершенствование средств ПВО "выживало" самолеты на малые высоты, заставляя их прижиматься к земле, где они были бы менее заметны для РЛС противника и зенитных ракет. Но сверхзвуковые ракетоносцы мало подходили для полетов в условиях, значительно отличавшихся от расчетных крейсерских или максимальных режимов. Вместе с тем требовалась значительная дальность полета, расширявшая боевые возможности самолетов за счет обеспечения действий не только в прифронтовой, но и оперативной глубине.
Все большее значение приобретала возможность базирования на полевых аэродромах. Крупные авиабазы оказались слишком уязвимы, а выход из строя бетонированных ВПП надолго приковывал все находящиеся на них самолеты к земле. К тому же огромные стационарные аэроузлы с их сложной инфраструктурой были очень дороги. При обсуждении во Франции одной из авиационных программ с чисто галльским изяществом было замечено, что она "требует зарыть в землю денег больше, чем выбросить на ветер".
Имевшаяся на вооружении авиатехника удовлетворяла этим требованиям далеко не самым лучшим образом. Базированию на грунтовых площадках при рассредоточении препятствовали те же возросшие взлетно-посадочные скорости, сообразно которым и понадобились бетонные полосы двух-трехкилометровой длины, хорошо оборудованные стоянки и сеть рулежных дорожек. В боевой подготовке большинства частей фронтовой авиации предусматривались полеты с грунта, для чего все базовые аэродромы оснащались запасной грунтовой полосой. Однако на практике они приносили массу проблем: грунтовка, даже подготовленная и укатанная для упрочнения земляного покрова, "хромала" по всем статьям против привычной бетонки, имея неравномерную плотность грунта, неизбежные неровности, проседания земли и промоины после дождей. Из школьной физики известно, что энергетика движущегося объекта напрямую зависит от его массы и квадрата скорости, а у современных самолетов и то, и другое возросло порядком и в результате даже небольшие неровности полосы вызывали такие сотрясения и удары, что амортизация шосси оказывалась не в состоянии их поглотить и все они передавались конструкции, никак не рассчитанной на подобное нагружение просто-таки варварского характера. Уже при испытательных посадках на грунт скоростных машин нового поколения летчики жаловались на непереносимую тряску, буквально колотившую самолет.
В строевой эксплуатации попытки полетов с грунта сопровождались нелицеприятными результатами: "летели" двигатели из-за попадания комьев земли, растительного и прочего мусора (бетонку все же подметали и чистили перед полетами, о чем на грунте, понятно, говорить не приходилось), из-за сотрясений и вибраций буквально рассыпались агрегаты оборудования, безвозвратно выходила из строя чувствительная радиоаппаратура, прицел и прочая "тонкая" начинка. Руководство инженерно-авиационной службы докладывало Главкому К. А. Вершинину: "На самолете Су-7Б через каждые 3-10 вылетов с грунта выходят из строя лампы и детали радиооборудования. Через каждые 25–40 вылетов на 40 % самолетов выходят из строя узлы и детали шасси, агрегаты гидросистемы и топливной системы, агрегаты авиационного оборудования. Через 75– 100 часов на 40 % самолетов выходят из строя двигатели".

Истребителями-бомбардировщиками Су-7Б были оснащены три десятка полков ИБА
Не решило проблемы и внедрение колесно-лыжного шасси на Су-7бКЛ, на которое возлагалось столько надежд. Решение, призванное обеспечить самолету «вездеходность», пошло в серию и эксплуатацию, но оказалось практически непригодным на деле. Увязая в грунте с мягким и топким покрытием, к примеру, весной и в ненастную погоду, самолет садился на лыжи, однако для его перемещения требовался максимальный режим работы двигателя, а то и форсаж, разворачиваться было едва возможно, а скорость позволяла разве что рулить, но о взлете с боевой нагрузкой речь уже не шла. При отработке Су-7БКЛ в липецком центре боевой подготовки ВВС предпринимались попытки определить соответствующие рекомендации по полетам машины с грунта. Проводивший испытания И.Б. Качоровский рассказывал следующим образом: «В период осеннего ненастья выбрал я время, когда плотность грунта на нашей запасной полосе примерно соответствовала заявленной для „БКЛ“, опустил лыжи в рабочее положение и съехал с бетона на грунт. Переднее колесо стало зарываться, а скорость интенсивно падать. Я вывел двигатель на максимальные обороты, но скорость продолжала падать, а попытка развернуться на посадочный курс тоже не давала положительного результата: колесо разворачивалось, но продолжало двигаться вперед юзом. Тогда я пошел на крайность: включил форсаж. Это помогло. С большим радиусом я развернулся, пропахав в грунте передним колесом глубокую колею, и с ходу пошел на взлет. Эксперимент вроде получился результативным: мне удалось вырулить на старт и взлететь, но давать рекомендации полкам ИБА тренировать летчиков полетам с мягких грунтовых полос никаких оснований не было».
Между тем, основные направления развития военной авиации рождались отнюдь не в кабинетной тиши. Многочисленные локальные конфликты пятидесятых-шестидесятых годов подтвердили необходимость новых подходов к созданию боевых самолетов следующего поколения. Более чем убедительным примером стали события арабо-израильской войны 1967 года, когда арабская сторона, обладавшая внушительным численным перевесом над авиацией противника, лишилась практически всей своей боевой мощи за первые несколько часов конфликта. Сотни самолетов, находившихся в боевой готовности на своих аэродромах, были уничтожены противником прямо на стоянках. Просчет обошелся очень дорого – арабская армия лишилась авиационной поддержки и прикрытия с воздуха, прямым следствием чего стал последовавший в считанные дни разгром.
Уроки конфликтов были очевидны, поучительны и приняты во внимание. Для всякого военного аэродрома считалось необходимым наличие укрытий и нескольких площадок рассредоточения, куда техника могла перелететь, уходя из-под удара. Однако оборудование их бетонированными ВПП, рулежными дорожками и стоянками опять-таки означало непомерно возраставшие расходы и вопрос о возможности работы с грунто вновь вставал со всей значимостью. В рабочей переписке Главкома ВВС К.А. Вершинина середины 60-х годов эта мысль звучит постоянно, будучи едва ли не доминирующей при выработке требований к перспективной авиатехнике; так, Главком то и дело указывает на "необходимость полетов самолетов всех типов с грунта", делает ссылки на сообщения о том, что "США фактически тоже переходят на создание самолетов, летающих с грунта" (что тогда было темой, популярной в авиационной прессе, однако впоследствии никак не подтвердилось).
Формулируя конкретные задания, руководство ВВС считало необходимым обеспечить для боевых самолетов взлетно-посадочные качества, позволяющие работать с полос размером не более 400 м. Звучали даже более радикальные предложения: "Для всех вновь создаваемых фронтовых самолетов предъявляется требование обеспечить базирование на грунтовых площадках размером 200x300 м, разбег и пробег при этом не должны превышать 100… 150 м."
Понятно было, что обычными средствами и проверенными решениями в практике самолетостроения требуемые взлетно-посадочные качества обеспечены быть не могут и требуются нетрадиционные "рецепты". В их числе были развернувшиеся по разным направлениям эксперименты со сдувом пограничного слоя с крыла, оборудование его мощной механизацией, использование стартовых пороховых ускорителей, а также подъемных двигателей, долженствующих реализовать идею "короткого старта". Для сокращения пробега при посадке выход искали в использовании колоссальных тормозных парашютов и заимствованных у палубной авиации посадочных гаков с аэрофинишерами, долженствовавших сократить размеры посадочных полос до сущих "пятачков". На практике большинство этих мер оказалось малоприменимым и давало ограниченный эффект, кое-как решая лишь локальные задачи ценой громоздкости решений – так, оснащение аэродрома полевого типа аэрофинишером, устройством достаточно сложным и непростым в обслуживании, делало решение крайне непрактичным, а потребность во взлетных ускорителях для обеспечения интенсивной боевой работы с сотнями вылетов требовала их запасов, превосходящих все мыслимые пределы.
Весьма перспективным одно время виделось оснащение самолетов дополнительной силовой установкой с подъемными двигателями, которые бы включались в работу на взлете и посадке, создавая прибавку несущих свойств посредством вертикальной тяги. Самолет тем самым “разгружался", приобретая возможность взлетать и садиться на существенно меньших скоростях на площадки ограниченных размеров. Подобная машина с нетрадиционным способом увеличения подъемной силы имела характеристики короткого взлета и посадки, могла резвее набирать высоту и "подкрадываться" к посадочной площадке по крутой глиссаде, что сулило возможность ее использования даже с лесных прогалин, участков дорог и "пятачков" в заселенной местности.
Этой идеей переболели во многих странах. Привлеченные преимуществами укороченного взлета и посадки, построили свои самолеты англичане и французы. У нас, помимо ряда проектов перспективных боевых машин с дополнительной подъемной установкой, построили и испытали опытные образцы ОКБ П. О. Сухого и А. И. Микояна. Первой стала машина на базе Су-15 под наименованием Т-58ВД ("вертикальные двигатели"), опытный образец "самолета-штурмовика" Т6-1 в первоначальном виде также нес набор из двух маршевых и четырех подъемных двигателей. ОКБ А. И. Микояна вывело на испытания экспериментальный самолет "23–31" на базе МиГ-21 и "23–01", рассматривавшийся в качестве первого прототипа МиГ-23. Первые же полеты принесли разочаровывающие результаты: умозрительное улучшение взлетно-посадочных качеств достигалось значительным ухудшением всех прочих характеристик самолета. Бьющие вниз струи горячих газов отражались от земли и негативно влияли на элементы конструкции, практически не позволяя подвешивать под фюзеляж самолета бомбы и ракеты, внешняя аэродинамика менялось из-за рециркуляции выхлопных струй, возникновение вертикальной тяги сопровождалось перебалансировкой самолета, ухудшавшей устойчивость и управляемость на взлетно-посадочных режимах, а также общим изменением картины обтекания самолета, из-за чего испытатели отзывались о посадке со включенными подъемными двигателями как о настоящем "цирковом номере". На микояновском самолете "23–31" летчикам на посадке подчас даже приходилось включать форсаж двигателя для преодоления возникавшего эффекта подсоса к земле и просадки машины.
Само присутствие на борту лишних подъемных двигателей "съедало" компоновочные объемы, добавляя насколько сотен килограммов неработающей большую часть полета нагрузки. Соответственно падала весовая отдача, сокращалась масса полезной нагрузки и запас топлива, к тому же расходовавшегося дополнительными двигателями. Это не могло не повлечь падение практически всех летных характеристик – дальности, скорости и скороподъемности, маневренных качеств. Убедившись в неэффективности схемы, направление прикрыли, ограничившись выполнением нескольких десятков испытательных полетов. Полетные характеристики машин даже не снимались в полной объеме: установили, что разбег и пробег действительно уменьшались в два раза, однако достигался этот выигрыш слишком дорогой ценой: так, микояновский самолет "23–31" из-за ничтожно малого объема топливных баков с горем пополам мог находиться в воздухе всего 15–17 минут. Самолет Т6-1 продолжал испытываться дольше остальных, однако это не имело никакого отношения к программе комбинированной силовой установки – сняв подъемные двигатели, машину использовали в качестве летающей лаборатории для отработки систем и оборудования будущего Су-24.
Между тем неудовлетворительностью взлетно-посадочных качеств претензии к имевшейся авиатехнике не исчерпывались. Так или иначе, самолеты летали, с аварийностью боролись, и боевая подготовка в ВВС шла своим чередом, давая свои результаты и приводя к определенным выводам. При всей важности упомянутых возможностей по базированию боевых самолетов первостепенной все-таки являлась их боевая эффективность, для фронтовой ударной авиации предполагавшая ее действенность в поражении наземных целей, при авиаподдержке во фронтовых операциях и решении разнообразных задач в оперативной и тактической глубине, связанных, прежде всего, с огневым воздействием но объекты противника – от его ракетно-ядерных средств и авиатехники до укреплений, складов и резервов. При этом в строительстве ВВС в 60-е годы произошли довольно существенные перемены, связанные как с очередным пересмотром взглядов на будущий характер боевых действий, так и переоценкой роли и значимости родов и видов войск. Первоначальная эйфория, сопутствовавшая появлению ядерного и ракетного оружия, уступила место более трезвым оценкам современных видов вооружений и представлениям о сегодняшнем поле боя.
Финансовые соображения играли не последнюю роль в смещении приоритетов при строительстве вооруженных сил. Применительно к авиации на смену прежнему "покорению барьеров" пришел более рациональный подход, основным критерием которого стало сочетание "эффективность – стоимость". Предстояло ответить на вопрос, достаточную ли отдачу обеспечит новая машина, чтобы оправдать затрачиваемые на нее средства. "Эффективность" в этом уравнении пока была на первом месте, лишь спустя полтора десятка лет их поменяют местами.
Очевидным являлось, что противник не станет дожидаться тех сокрушительных ядерных ударов, которыми предполагалось проложить путь к победе, постарается рассредоточить и укрыть свои войска, совершенствуя боевые порядки для уменьшения их уязвимости, да и целей на поле боя будет куда больше, чем ядерных бомб и ракет в своих арсеналах (демонстрируя нереальность прежних воззрений, знаменитый американский генерал Омар Брэдли писал, что "противник мог бы разместить своих солдат в 100 ярдах друг от друга и пройти всю Европу, невзирая на атомные бомбы, если не будет других сил, способных остановить их"). В тактике это означало признание возможностей огневого поражения обычными средствами, ранее рассматривавшегося приемлемым разве что в развитие ядерного удара. Однако следовало вновь определиться со средствами и методами авиаподдержки в "обычной войне".
Взгляды на роль авиаподдержки войск вновь пересмотрели, признав ее необходимость и без средств ядерного поражения. Тем самым вопросы боевой эффективности фронтовой ударной авиации и ее возможностей по нанесению огневого поражения вновь приобретали особую остроту. Имевшаяся на вооружении советской фронтовой авиации в 60-е годы техника достаточно убедительными достоинствами для этого явно не располагала. Преобладавшие в частях Су-7Б и другие истребители-бомбардировщики (в их роли выступали МиГ-15, МиГ-17 и МиГ-21) обладали, по абсолютно обоснованному мнению руководства ВВС, недостаточными возможностями как в части характеристик, так и бортового оборудования и вооружения.

Изделие «23–31» с подъемными двигателями, призванными улучшить взлетно-посадочные характеристики самолета
Имевшееся на борту Су-7Б и других истребителей-бомбардировщиков прицельное и навигационное оборудование позволяло использовать их лишь при визуальной видимости, т. е. только днем и в хорошую погоду, когда можно было обнаружить и прицельно атаковать цель (теоретически удар можно было наносить также ночью при ясной луне, дававшей возможность сориентироваться и различить объекты на местности, или же с использованием осветительных бомб, однако шансы на успех, особенно при самостоятельном поиске цели, выглядели невысокими). То, что истребители-бомбардировщики обладают такого рода «определенными недостатками», известно было достаточно давно и недовольство заказчика по этому поводу выражалось неоднократно со времени появления Су-7Б в строю. Тем же правительственным постановлением, которым самолет в январе 1961 года принимался на вооружение, задавалась необходимость создания его «всепогодной и круглосуточной модификации». Однако же, сколько руководство ВВС ни напоминало про «должок», сделать это так и не удалось.
Мысли о необходимости качественного обновления ударной авиации высказывались не раз и не два, рефреном возникая в докладах руководства ВВС. Характеризуя положение в ВВС к 1966 году, Главком К.А. Вершинин указывал: "Основу фронтовой ударной авиации в ближайшее время составят самолеты Як-28 и Су-7Б. Они имеют ограниченные возможности по обнаружению и прицельному поражению целей, недостаточную досягаемость, большие длины разбега и пробега. Эти самолеты по своим летным данным и оборудованию уступают американским F-105 и F-4, являющимся всепогодными". В другом письме недостатки имевшейся авиатехники описывались Главнокомандующим не менее резко: "Находящиеся в настоящее время на вооружении фронтовые самолеты Су-7Б и Як-28 по составу оборудования и вооружению не обеспечивают поиск и поражение малоразмерных и подвижных целей ночью и в сложных метеоусловиях. Эти самолеты имеют недостаточную дальность и скорость полета на малых высотах, требуют для базирования аэродромы II–I класса с твердым грунтом или бетонным покрытием".
Формулируя требования к перспективной машине этого класса – "истребителю-штурмовику", военно-технический совет ВВС при обсуждении вопроса в апреле 1965 года в числе необходимых качеств считал возможность совершения полета на сверхзвуковой скорости порядка 1400–1500 км/ч у земли, дальность полета на предельно малых высотах 1200–1400 км, наличие оборудования и вооружения для поиска и поражения малоразмерных и подвижных целей днем и ночью в любых метеоусловиях. Понятно недовольство руководства ВВС, поскольку имевшаяся техника этим требованиям нового времени, в отличие от зарубежных образцов, никак не отвечала.
Дальность полета Су-7Б вызывала особые нарекания – прожорливый двигатель на максимальном режиме расходовал порядка ста килограммов топлива в минуту, а при работе на форсаже, необходимом для сверхзвукового полета, сжигал все 370 килограммов в минуту и его запаса, в лучшем случае, хватало минут на десять такого полета. Свое влияние оказывала аэродинамическая схема скоростного самолета, в результате чего практическая дальность полета в крейсерском режиме на высоте 1000 м с двухтонной бомбовой нагрузкой ограничивалась 450–500 км, а на предельно малых высотах в скоростном режиме становилось просто-напросто мизерной. Американский истребитель-бомбардировщик F-105D с той же боевой нагрузкой имел дальность полета у земли вдвое выше – под тысячу километров, а с подвесными баками – более полутора тысяч километров, будучи способным выполнять сверхзвуковой бросок но предельно малых высотах. "Фантом 1Г по характеристикам дальности превосходил Су-7Б еще больше – у модификаций F-4C и F-4B дальность полета у земли с бомбовой нагрузкой 900 кг равнялась 1300 км, а с подвесными баками и вооружением из четырех ракет достигала 1940 км.
Недовольство высказывалось также по поводу ограниченной боевой нагрузки и ассортимента вооружения наших машин, в чем они традиционно уступали технике потенциального противника. Предельной для Су-7Б являлась двухтонная бомбовая загрузка, причем и с таким количеством в строю летать практически не решались из-за падения летных качеств, особенно ощутимых на взлете самолета, разбег которого, казалось, никогда не кончится, К тому же, по мере возрастания боевой нагрузки еще больше сокращался радиус действия (впрочем, прочая техника ИБА была не лучше всё еще находившиеся на вооружении МиГ-15 и МиГ-17 довольствовались возможностью поднять всего-то пару бомб по 250 кг, а по дальности даже уступали "Су-седьмому").

По первоначальному проекту будущий МиГ-23 (в исполнении «23–01») должен был оснащаться комбинированной силовой установкой с дополнительными вертикальными двигателями

Применение подъемных двигателей на боевых самолетах должно было решить проблемы с базированием и рассредоточением, позволяя авиации действовать с коротких ВПП и небольших полевых аэродромов
Характеристики «вероятного противника» и здесь выглядели вызывающе: даже если заявленная в справочниках и рекламных проспектах боевая нагрузка «Фантомов» и «Тандерчифов» могла считаться пропагандистски завышенной, то реальная демонстрация возможностей выглядела впечатляюще даже в непростых условиях вьетнамской войны, когда американские самолеты уверенно поднимались в воздух с внушительными гроздьями бомб: штатным вариантом оснащения F– 4C/D в ударном варианте были полдюжины бомб калибра 500 или 750 фунтов, вместе с ракетами и боекомплектом составлявшие 3300 кг боевой нагрузки, а при действии по ближним целям «Фантом II» поднимал до 24 бомб общим весом 5400 кг. F-105D в разных вариантах брали до 18–26 бомб весом по 500 фунтов или до 16 750-фунтовых бомб общим весом до 5850 кг.
На вооружении большинства западных ударных самолетов давно уже числились (и применялись в боевой обстановке) управляемые ракеты и бомбы, позволявшие поражать цели с высокой точностью и с большого удаления, что, наряду с эффективностью удара, повышало безопасность выполнения задачи в условиях зенитной обороны. На отечественных истребителях-бомбардировщиках до этого никак не доходили руки – как-никак, само будущее фронтовой авиации еще недавно находилось под вопросом, соответственно, и разработка подобного вооружения началось с запозданием, да и руководство ВВС не очень-то настаивало на внедрении управляемого оружия на имевшейся технике, по всей видимости, возлагая надежды на появление нового поколения боевых машин, которые разом решили бы все проблемы. Командующий ВВС К. А. Вершинин при составлении планов на перспективу даже выступил с демаршем о том, что его ведомство самолеты типа Су-7Б уже на 1967 год заказывать не будет, ожидая поступления более совершенной техники. В пользу тех же новых ударных самолетов еще в августе 19б5 года правительственным постановлением были свернуты все работы по модернизации прицельно-навигационной системы для Су-7Б, которая должна была сделать его пригодным для действий в любое время суток и при ограниченной видимости.
Западные истребители-бомбардировщики и в этом отношении были на голову выше. С начала 60-х годов в состав оборудования "Тандерчифов" и "Фантомов" в обязательном порядке входили радиолокационная станция, допплеровская навигационная система, автономная инерциальная система, аппаратура наведения по наземным радионавигационным маякам, обеспечивавшие управление полетом на малых высотах, радиолокационный плановый и панорамный обзор местности при полете ночью и в плохих метеоусловиях, вывод на цель "в автомате" и прицельное бомбометание с использованием баллистического вычислителя. Аналогичным набором оборудования комплектовались служившие в странах НАТО "Старфайтеры", у которых массовая модификация F-104G являлась многоцелевым самолетом, отличавшимся как раз ударными возможностями с высокоточным прицельно-навигационным оснащением и всепогодностью действий.
Однако тот же опыт Вьетнама, других локальных войн и практика использования ударной авиации в учениях, не давали повода к самоуспокоению. Боевая эффективность авиации при действиях по наземным целям в реальной обстановке оказывалась куда ниже ожидаемой. Сюрпризы преподносила, прежде всего, скорость, за которую так боролись. Обеспечив самолетам требуемые преимущества, стремительность полета "сверхзвуковых ракетоносцев" существенно осложнила ориентирование на местности, особенно при полете на малых высотах, когда внимание летчика было полностью сосредоточено на пилотировании, а земля так и неслась навстречу. Проблемы возникали даже с выходом в район цели, не говоря уже о поиске атакуемого объекта и организации боевого захода для нанесения прицельного удара.
В скоростном полете но малой высоте обнаружение цели становилась крайне нелегкой задачей. Для понимания сути вопроса можно обратиться к простейшим арифметическим выкладкам: при скорости порядка 1000 км/ч за одну секунду самолет проскакивает около 300 м, тогда как дальность визуального обнаружения точечного объекта – танка, артиллерийской позиции, ракетной установки и т. п. – даже в идеально ясную погоду и на открытой местности не превышает трех – пяти километров. Тем самым на все необходимые действия и маневры летчику даже в самых благоприятных условиях отведено примерно десять с небольшим секунд. Малая высота естественным образом сужает обозреваемое пространство. При пересеченном рельефе со слабохолмистой местностью, да еще и с естественным растительным покровом, перелесками, рощами и лесополосами, характерными для европейских условий, заметность малоразмерных объектов существенно снижается. К тому же цели могут скрываться в лощинах, оставаться незаметными на обратных скатах холмов и маскироваться в растительности (если объект располагается в лесу, то поиск его со скоростного самолета практически безрезультатен).