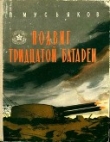Текст книги "Севастопольская повесть"
Автор книги: Август Явич
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 7 страниц)
Белый сноп света упал на Веру, она держала цветы на сгибе локтя, как младенца.
– Когда я вижу цветы, мне хочется плакать, – сказала Антонина.
– Зачем плакать? – отозвался Воротаев. – Не надо плакать. Корреспондент, я бутылку прихвачу, а ты – стаканы. И яблоки возьми! А сыр не нужно. Оставь его черту, сухой, как мозоль. Ну, двинулись!
Мы пошли за Воротаевым, вернее за бледным кругом света от фонарика, передвигавшимся на полу. Сирена умолкла, было давяще тихо.
– Что я спросить хочу, – шепотом сказала мне Антонина. – Брат мой дурачок, говорит: «Уезжай, здесь будет жарко». А куда ехать? Мы там слезами изойдем. Вере иначе нельзя, она в положении. А я, я-то зачем побегу? Шкуру свою спасать? Раньше – из Одессы, теперь – отсюда… Нет, я останусь здесь, со всеми. Ведь их сюда не пустят, правда?… – Она продела мне под руку свою маленькую, горячую руку. Я чувствовал, она вся дрожит. – Подумать страшно – куда немца пустили. Неужто дальше пустим? Дальше-то ведь некуда.
Я постарался успокоить ее.
Загрохотали зенитки, деревянно застучали зенитные пулеметы, и дом наполнился дрожью, гулом, дребезжанием.
– Пришли. Приземляйся, народы! – объявил Воротаев. – Черт с ним, с немцем, будем пить. «Пить так пить», – сказал котенок, когда его стали топить.
Но нам не хотелось пить. Мы сидели на каких-то сыроватых ящиках, с отвращением прислушиваясь к резкой, короткой, плюхающей пальбе зениток. Где-то глухо, тяжко рвались бомбы, а здесь как будто кто-то с силой пытался распахнуть двери.
– И зачем все это? – с недоумением и тоской спросила меня Антонина. – В этой каменной коробке еще страшнее.
В ответ я молча, без слов погладил ее.
Кирьянов начал вдруг рассказывать, как они с Верой два года назад весной искали памятник «хазарскому потомству».
– Нас ввел в заблуждение краснофлотский поэт У него в стихах были такие строчки: «Там памятник стоит хазарскому потомству». Ну, я в стихах мало что смыслю. А Вера, она стихи любит. Вот и потащила меня искать этот несусветный памятник. А была весна, севастопольская весна… Небо, воздух, море, ходишь весь день пьяный и беспричинно чему-то радуешься. И сам не знаешь, отчего ты захмелел…
Он забавно рассказывал. Вино сделало его разговорчивым. И где только они с Верой не побывали! В музее, где старинные мортиры похожи, по словам Веры, на жаб; на английском кладбище, где какой-то Джемс Бора напомнил Вере новороссийский ветер – тоже бора, она ведь оттуда родом, из-под Новороссийска; даже попали на биологическую станцию, где от камней ревматизмом веет, где много чудных рыб вроде морских лисиц, похожих на резиновые грелки, морских петухов с голубыми плавниками, смахивающими на крылья…
Заметно светало, в тишине оседали звуки, как оседают песчинки в стакане воды. Мы слушали Кирьянова, как он рассказывал про смешные поиски несуществующего памятника «хазарскому потомству». Дело в том, что на Краснофлотском бульваре стоит памятник капитан-лейтенанту Казарскому, командиру «Меркурия», который предпочел гибель позору турецкого плена. На цоколе этого памятника была надпись: «Казарскому – потомству в назидание». Время стерло «в назидание», а маляры закрасили. Вот и все.
Я смотрел на Веру, у которой было счастливое лицо. Она с Кирьяновым искала немыслимый памятник, а нашла любовь, и теперь муж перед разлукой рассказывал ей про эту любовь.
Внезапно Кирьянов умолк, поднял лицо к потолку и стал что-то пристально разглядывать в посветлевшей мгле. Мы тоже взглянули вверх. Антонина испуганно ахнула: вместо обещанных восьми перекрытий над нами была стеклянная крыша пустующей фотографии.
– Алеша! – позвала она брата.
Но он спал.
В это время протяжно загудела сирена – воздушная тревога кончилась.
Дочитав запись и живо вспомнив комизм последней сцены, Озарнин рассмеялся.
12. Сомнения и думы
– Чего ты смеешься? – спросил Воротаев, повертывая к нему лицо.
– Да так, – уклончиво ответил Озарнин. – Я думал, ты спишь. Вот прочитал запись про свадьбу Кирьянова. Помнишь?
– А-а! – протянул Воротаев. – Так недавно, а точно в другой жизни. Даже удивительно. – Он помолчал, как бы что-то вспоминая. – Мечтать о морских подвигах, а воевать на суше, мечтать о любви, а влюбиться в чужую жену, в жену друга… и не сметь даже признаться ей. Да что ей! Самому себе я не вправе был признаться. Ведь малейшая моя оплошность могла обернуться катастрофой. Понимаешь, что значит неурядица, смута в душе летчика? Порой я ненавидел Веру, Кирьянова, себя. И я бежал, бежал от них, от себя… Надо же быть таким невезучим!… Я зря, конечно, наговорил ей обидные вещи тогда, на свадьбе. Она не такая. Никаких новых привязанностей она не найдет. Верная душа! Такие любят однажды и на всю жизнь. Знаю, к несчастью, я сам такой…
Озарнин с изумлением слушал Воротаева, еще никогда не говорил Алексей о Вере так откровенно.
– Ты бы все-таки поспал немножко, – сказал Озарнин заботливо.
– Не спится, – отвечал Воротаев. – Проклятый участок покоя не дает. Обнаружат его немцы – гадать не приходится, а прикрыть его нечем. Что-то надо придумать, а в голове хоть шаром покати…
В слабом свете коптилки лицо его казалось старым, утомленным и больным.
При упоминании об участке, уподобившемся открытым воротам, в которые почти беспрепятственно смогут проникнуть немцы, Озарнина пробрала нервная дрожь. Чтобы унять ее, он закурил. В сущности, всем было ясно, что конец близок и неотвратим, что даже чудо невозможно, и все-таки трудно было в это поверить, еще труднее примириться.
– А не все ли равно, прикроешь ты или не прикроешь этот участок, не все ли равно? Часом позже, часом раньше…
Воротаев взглянул на него изумленно и укоризненно.
– Как это все равно? Совсем не все равно. Выиграть время, пусть хоть час… не для себя, а для тех, кто в Севастополе. Им каждый час дорог. А ты говоришь – все равно. Ты знаешь, что значит время? Минутой раньше кладу руль на борт – я тараню, минутой позже – меня таранят. Это слова адмирала Макарова.
– Знаю, знаю… – усмехнулся Озарнин. – Эх, Алеша!… Рано, слишком рано уходим… Еще темно, еще ночь кругом… В этом вся горечь. Хоть бы в щелочку посмотреть, как бегут с нашей земли фашисты… Не так тяжко было бы уходить.
Воротаев посмотрел ему в глаза – они полны были горя.
Оба помолчали.
«Время!» – повторил про себя Озарнин, вслушиваясь в это простое и беспредельное слово. Он вдруг припомнил, как два дня назад покинул воронку за несколько секунд до того, как в нее угодила мина. «А разве это не может повториться со всеми?» – подумал он, и ему страстно, слепо захотелось, чтобы в тот именно час, который выгадает Воротаев, это повторилось.
Тогда он напомнил Воротаеву, как тот однажды хитро использовал найденную у немецкого снайпера-корректировщика ракетницу, чтобы вызвать огонь немецких орудий на немецких автоматчиков, захвативших котлован.
Воротаев улыбнулся какой-то бледной улыбкой, это было подобие улыбки.
– Разучился думать. За всю жизнь столько не передумал, сколько за последние дни. И мозг сдал, понимаешь, Лев Львович, сдал… Отупел мозг, стал какой-то тусклый… Мне хочется протереть его, вот так… – И Воротаев сильно потер лоб пальцами, так что скрипнула кожа.
– Разучиться думать еще труднее, чем научиться, – проговорил Озарнин. – Нигде так много не думает человек, как на войне. Мне вспоминается: лежал я, раненный, под Уральском, в девятнадцатом дело было. Лежу, пошевелиться не могу… Ночь, тишина, кузнечики трещат, звезды играют, а я думаю: кто на меня наскочит – свои или чужие? Ведь лежал-то я, как сейчас принято говорить, на ничейной земле. А белый наскочит – не хуже нынешнего гитлеровца отделает. О многом передумал я в ту ночь… – И вдруг прервав себя, сказал: – Тебе надо отдохнуть, Алеша, хоть часок. Заставь себя.
Но Воротаев молча покачал головой: дескать, не могу заснуть.
Оба опять помолчали. Теперь и Озарнин задумался над тем, как выиграть время. «Отстаивать высоту возможно дольше, – думал он, – и притом ничтожно малыми силами, – в этом не только военная задача, но и та нравственная идея, которая так ясно выражена Воротаевым: выиграть время не для себя, а для других, для Севастополя, для всей страны».
Может, оттого, что Озарнину вспомнилась далекая пора его военной юности, может, оттого, что он немного поспал и отдохнул, в мыслях у него посветлело.
Его трубка погасла, он вдруг вспомнил смешную примету: гаснет папироса, – значит, кто-то близкий думает о тебе. От этого милого воспоминания повеяло щемящим теплом родной семьи, о которой Озарнин старался не думать и не вспоминать, чтобы не чувствовать себя еще более несчастным.
С последней почтой, сброшенной с самолета, он получил письмо от жены.
«Я знаю, – писала она в эвакуации, – ты в относительной безопасности. Не посылают же тебя на передовые. И все-таки к моей злости, ревности и тоске примешивается страшное беспокойство о тебе. В такой ли ты безопасности, как пишешь?»
На миг вдруг предстала она его взору – сильная, стройная, красивая женщина. Он как-то судорожно тряхнул головой, отгоняя жгучее видение.
– А пожалуй, и не в усталости дело, – проговорил он снова. – Мы слишком мирные люди. Мы никогда не хотели войны, это правда. Не для того мы строили Магнитку и Днепрогэс, не для того перенесли столько лишений. Но мы всегда знали, что война неизбежна, а оказались неподготовленными. Как это случилось? Всему свету было известно, что немцы готовят нападение на нас.
Последние годы сделали его несловоохотливым. Но теперь уже никто не мог ему помешать говорить начистоту.
– Не надо обладать большим умом, чтобы понять, как велики наши потери, если враг дошел до Москвы и Севастополя. Если мы потеряли едва ли не треть страны по населению, промышленности, хлебу, железу, – продолжал Озарнин. – Арифметика простая. Надо думать, наш танковый парк и воздушный флот тоже не остались у нас в целости. Кто виноват? Приказ Сталина называет предателей. Не знаю, как в других местах, но здесь я только на батарее раздобыл пистолет, и то трофейный. Зато приходилось таскать этот тяжелый и бесполезный противогаз, за потерю которого людям давали семь лет тюрьмы. А людские наши потери?… Не мне тебе рассказывать!
Воротаев слушал его с невольным чувством досады. Озарнин говорил жестокую правду, но разве Воротаев не знал ее?
Всю жизнь, сколько помнил себя Воротаев, он жил с сознанием, что война неминуема. Это сознание сопровождало его со школьной скамьи. В далеком заграничном плавании, когда Воротаев смотрел великое Юстинианово чудо – Айя-Софию с ее чудесной мозаикой и гигантским куполом или могучие развалины Парфенона, в тени которых спали бездомные греческие моряки под начертанным мелом именем Ленина, когда Воротаев видел вечный дым над Везувием, серые развалины необитаемой Помпеи, неаполитанские дворцы, а рядом узенькие, грязные, заплеванные улочки, как извечный символ соседства роскоши и нищеты, угнетения и рабства, – везде и всегда думал он о великой освободительной миссии советских людей. А на поверку война все-таки застигла страну врасплох.
– Где резервы? Где запасы оружия и амуниции? Где опытные командные кадры? – спросил Воротаев скорей самого себя, как бы продолжая думать вслух.
– Я тоже задаюсь этим вопросом, – ответил Озарнин. – Мне вспоминается: когда после гражданской войны я приехал в Москву, куда, бывало, ни пойдешь, обязательно встретишь земляка, фронтового товарища или друга. Я уже не помню, когда в последний раз встречал хоть одного из них… «Иных уж нет, а те далече…» – сказал он тихо и печально. А он встречал многих замечательных людей той эпохи, о которых не смел говорить.
Воротаев посмотрел на него долгим взглядом, вздохнул и проговорил, не помня уже своей досады:
– Да, ты прав. Мы пели с детства: «Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути». Нам говорили: «малой кровью на чужой территории». А нас вон куда загнали! Мы только сейчас начинаем постигать ум войны, ее организацию и систему – все эти клещи, клинья, окружения…
– В девятнадцатом году положение было не легче. Враг стоял у Тулы. Ничего, одолели, – сказал Озарнин в раздумье, сказал не столько, видно, для Воротаева, сколько для себя.
На пороге показался пленный немец в сопровождении конвоира и переводчика Билика.
13. Наци
Федя сильно преувеличил, сравнив пленного с обезьяной. Это был невзрачный чернявый малый с несоразмерно длинным лицом, выражавшим одновременно растерянность, тревогу и презрение, с неспокойными глазами и кляксой так называемых чаплинских усиков, ставших за последнее десятилетие привилегией фюрера Адольфа Гитлера и коверных клоунов почти во всех цирках мира.
Воротаев принял было его сначала за румына, но пленный высокомерно окрысился, заявив, что он вовсе не румын, а немец, чистокровный германец. Впрочем, его полевая сумка достаточно подробно объясняла, кто ее хозяин. Не ожидая вопросов, он продолжал неторопливо, как парламентер, уверенный в своей неприкосновенности. Это граничило с наглостью и даже смутило и озадачило тех, в чьей власти он находился. Но потом Озарнин понял, что высокомерие и наглость пленного происходят от страха, неуверенности и потрясения.
– Я майор германской армии Пауль Фридрих Иоганн Бауэр, – говорил пленный с достоинством. – Вы храбрые русские моряки. Вы держались долго. Это безумие, но это отвага. Как солдат, отдаю вам дань уважения. Однако дальнейшее ваше сопротивление бесцельно и бессмысленно. Ненужная героическая, я бы сказал, нелепость. Я вижу, в каком вы состоянии. Оно ужасно и безнадежно. В обмен на свою жизнь предлагаю вам всем жизнь и безопасность, даже тому матросу, который меня украл. Он дурно обращался со мной. Я не в претензии – на то война. Сколько вас тут – батальон или больше?… Я уйду с вашим последним солдатом…
Пока переводчик Яков Билик исполнял свои обязанности, пленный майор Пауль Бауэр не сводил глаз с Воротаева, угадав в нем главного начальника. Он заранее обдумал свою речь и был уверен, что она будет встречена как ворвавшийся в темницу солнечный луч, как помилование за пять минут до казни.
Тем неожиданней было для него выражение равнодушия на исхудалом, щетинистом лице русского офицера с глазами, пьяными от усталости. Решив, что его не поняли, пленный повторил свое предложение, нервно прижимая к груди руку с бледными, холеными ногтями, широкую, прямую, чем-то напоминающую секиру.
Воротаев и Озарнин переглянулись, потом командир батареи сказал:
– Переведи ему, товарищ Билик! Он уйдет отсюда раньше нас, а мы еще здесь побудем. И скажи ему, чтобы молчал, пока его не спрашивают.
Лицо пленного выразило крайнее недоумение, как если бы он ослышался. Похищенный русским матросом вблизи немецкого штаба, пережив страх, стыд и отчаяние, Пауль Бауэр, казалось ему, нашел единственное надежное средство и сам поверил в него, а оно на поверку оказывалось мыльным пузырем.
– Но это невозможно! – воскликнул он, не допуская и мысли, что на пороге смерти люди отвергнут без каких-либо обсуждений предложение, сулящее им жизнь. Он возмутился с искренностью вора, уличенного в краже. – Война кончается, – проговорил он быстро. – Об этом твердит весь мир. Последний солдат в германском обозе знает, что русским капут. На что вы надеетесь? Чудес не бывает. Завтра же с вами все будет кончено… – По тому, с какой ненавистью на него смотрели люди, он понял, что зарвался сгоряча. Он умолк и сгорбился, хотя при его росте можно было стоять в блиндаже выпрямившись.
Тут раздался спокойный голос Воротаева:
– Скажи ему, товарищ Билик, что война еще не кончилась, война только началась, и началась разгромом немцев под Москвой. Скажи ему, товарищ Билик, что нас на батарее гораздо меньше батальона. Нас всего сорок два человека. Скажи!
Пленный был ошеломлен, он не поверил, ведь только за вчерашний день немцы потеряли несколько десятков убитыми и ранеными и два танка.
В сумке пленного среди разных вещей личного обихода была найдена карта местности, на ней высота была обозначена красным карандашом и перечеркнута крестом, к которому со всех сторон тянулись стрелки, указывая направление готовящегося удара.
– Это что, старый план или новый? – спросил Воротаев.
– Последний. Мы уверены, что другого не будет. – Пленный отвечал толково и пространно, все еще, видимо, надеясь, что несговорчивый русский офицер образумится.
А русский офицер не торопился рассеять его заблуждение, дабы пленный был разговорчивей и откровенней.
Майор Бауэр рассказал, что немцы тщательно подготовились к завтрашнему штурму батареи. Им надоело, мол, с ней возиться. Они подбросили свежие силы: пехотный батальон в полном составе, группу автоматчиков, пять танков. Немцы решили во что бы то ни стало покончить с батареей, занять высоту и повести наступление на Севастополь. Германское командование обещало солдатам с захватом города горячие бани, вкусную пищу, мягкие постели, три дня полновластного хозяйничания в городе, а потом месячные отпуска и поездки к семьям с захваченной добычей.
Майор Бауэр проговорился, что германское командование чуть ли не в лице самого Манштейна обещало вернуть солдатам отнятое у них теплое обмундирование, как только они займут Севастополь, тем самым понуждая их к решительным действиям.
– А пока что зимнее обмундирование в избытке заменяется водкой, – сказал Воротаев.
– Водкой не следует пренебрегать, – отвечал пленный. – Одной сознательности мало. Недаром говорится: пьяному море по колено.
Пленный не скупился на показания, он назвал номера частей, прибывших на смену румынам, которые топчутся на одном месте. Вообще, кроме немцев, все их союзники воюют, как наемники, одинаково дурно, и это лишний раз подтверждает превосходство германской нации.
Сам Бауэр недавно воюет на советском фронте. Раньше он воевал во Франции и Норвегии. Чем он занимался до войны? Он был художником. Его сверстники во всем подражали фюреру. Как известно, основатель тысячелетнего рейха рисовал. Картина Бауэра «Арминий Германец перед битвой в Тевтобургском лесу» имела заметный успех. К сожалению, война отняла у него кисть и сунула ему в руки автомат.
Он охотно разговаривал, этот махровый нацист, повторяя всем известные расистские премудрости вроде того, что «стремление к господству – свойство истинно великой нации, а гуманизм, человеколюбие – все это вздорные понятия, жалкий отблеск вчерашнего дня».
Озарнин слушал пленного с таким чувством, как если бы стоявший перед ним гитлеровец был существом иного мира, иной планеты. Ему вдруг пришла мысль, что нацисты уподобились уэллсовским марсианам, которые видели в земных людях существа низшие, неполноценные, пригодные разве что в пищу или для рабского труда, и которые, безусловно, были обречены на гибель, как только ступили на землю. Что же удивительного было в том, что фашистов так ненавидели. В Севастополе, например, пленных немцев водили по улицам только ночью; даже плакаты, изображавшие нацистов, содрали со стен.
Озарнин подумал о том, что молодое поколение немцев нацисты сумели отравить ложью и демагогией еще в том возрасте, когда оно не могло сопротивляться. Но вот старшие поколения, они-то ведь знали, что такое идеалы, гуманизм, величие человека, как они поддались на лицемерную и лживую демагогию узурпатора и тирана? Или их застращали пытками, казнями, лагерями смерти?
Озарниным вдруг овладело чувство насмешливой злобы.
– А что, – спросил он, – знаете ли вы Гейне?
– Какого? Генерала?
– Нет, поэта.
Пленный внимательно посмотрел на Озарнина, и клякса усиков на его верхней губе дрогнула и растянулась в лукавой улыбке.
– Да, я кое-что слышал о нем, – сказал он вызывающе. – Он пачкал бумагу, ненавидел Германию и умер от сифилиса.
– О, вы знаете о нем довольно много! – сказал Озарнин. – У вас, видно, с ним старые счеты. Не вас ли он имел в виду, когда мечтал о тихом деревенском домике с тремя-четырьмя березками под окном, на которых болтались бы его враги, хотя бы по трое на каждой березе?
Билик в роли переводчика был сдержан и точен. И только однажды выдержка изменила ему. Отвечая на вопросы, пленный между прочим сказал, что слышал, будто есть секретный циркуляр о поголовном уничтожении целых народов, таких, как евреи, цыгане, и что этим делом занимаются гестапо и СС. Переводчик побледнел и уставился на пленного таким лютым взором, что Бауэр невольно попятился от него.
В эту минуту Яков понял, что близких его нет более в живых и что его маленькая сестренка и есть та самая мертвая девочка, с обрывками алой ленты в косичках, как бы пытавшаяся выбраться из керченского рва. На какое-то мгновение у него пропал голос, потом он овладел собой и перевел слова пленного, который вновь напоминал о своем предложении.
Воротаев помолчал, давая пленному время помучиться между надеждой и сомнением. Он думал о своем, о незащищенном участке, который неминуемо обнаружат немцы. Внезапно у него мелькнула мысль: а не применить ли ему способ психического воздействия, на что так падки немцы, не взять ли этот опасный участок, когда его обнаружат враги, в клещи, сосредоточив на нем ураганный огонь соседних орудий? Ведь если гитлеровцы шарахнутся в сторону, то они неизбежно попадут под огонь автоматчиков, которые действуют столь быстро и подвижно, что у противника возникло бы ошибочное впечатление, будто высоту защищает целый батальон. Но немцы могут и перехитрить его, отвлекут огневые средства батареи в одном месте, а ударят в другом, тогда что? Он посмотрел на пленного и вдруг задался вопросом: а как поступил бы майор Бауэр в таком случае?
Пленный сразу понял, о чем спрашивает русский офицер. Тем разумнее, ответил он, его предложение, потому что немцы, обнаружив слабое место, не задумываясь, ринутся напролом и быстро решат дело несравнимым перевесом сил.
То важное, но смутное, что ускользало так долго от Воротаева, словно капля ртути, сделалось простым и ясным, изумив Воротаева своей простотой. Он улыбнулся.
Майор Бауэр ложно, ошибочно понял его улыбку и тоже улыбнулся, заискивающе и подобострастно. Он сказал, что коль скоро не подходит его первоначальное предложение, можно устроить простой обмен: скажем, десять – пятнадцать военнопленных за него одного.
– Что говорить, цена завидная! – ответил Воротаев. – Будь у нас достаточно снарядов. Вот на снаряды обменять его – это я согласен. Так и скажи ему, товарищ Билик!
С лица пленного сошла улыбка, оно побелело и заострилось, как у покойника.
Тут из темного угла в полосу света от коптилки высунулось бородатое лицо старого Терентия с нависшими, как хвоя, бровями.
– Вот ведь что, – сказал он, подмигивая, – Гитлер, слыхал я, хочет, чтобы каждому фашисту досталась русская деревенька с колокольней. А мы даем на каждого по три аршина земли с крестом. Вот и рядимся.
Все засмеялись, а пленный быстро, судорожно затараторил, пытаясь урвать у жизни еще хоть минуту. Однако Воротаев не захотел продлить ему жизнь ни на минуту.
14. Кубрик
В кубрике было тесно и смрадно, пахло давно не мытым телом, слежавшимися перевязками, пропитанными кровью и гноем, и плошка пустила длинную струю копоти.
Бредил Митя Мельников, ворочался Федя, спал как будто Алеша Голоденко, и во сне у него странно подрагивали плечи, точно он плакал. А Бирилев лежал лицом вниз, подложив под голову руку, и думал свою неотвязную думу. Вероятно, если бы его не застиг Федя, когда он бился, как бесноватый, он бы поплакал, поскулил и пополз бы дальше, к немцам. Теперь ему казалось, что со страхом покончено, что не боится он больше смерти и даже способен на подвиг. От этой мысли сердце его наполнилось умилением. Тоска нет-нет, а все же теснила грудь, но где-то в тайниках души родилось стыдливое и робкое сознание своего малодушия, безволия. Так человек, проснувшись от кошмара в темной комнате, не ведая, где он и что с ним, вдруг обнаруживает освещенную под дверью щель.
Осторожно ступая среди спящих, Яков Билик прошел к плошке, чтобы поправить ее.
– Зачем, зачем тушишь?… – закричал Митя Мельников.
– А я не тушу, что ты! Ну как, легче тебе? – спросил Яков, склоняясь над ним.
Но Митя Мельников никого не узнавал, а метался, что-то невнятное бормоча.
– Ложись, Яша, сюда. Тут места на двоих хватит, – сказал Алеша Голоденко. Оказывается, он вовсе не спал, а смотрел на Якова блестящими в сумраке глазами.
– А ты почему не спишь? – спросил Яков, укладываясь рядом с ним.
Алеша пожал плечами.
– А я и сам не знаю. Уж как спать хотелось, а теперь – ни в одном глазу. – Он вдруг увидел, что Билик невероятно постарел, и подумал, что и он, Алеша Голоденко, должно быть, тоже постарел и переменился.
– По-очему та-ак? – растянул Яков сквозь охвативший его мгновенно сон.
Алеша ничего ему не ответил, так как Яков уже спал, беззвучно и мертво, как камень.
Тогда Алеша достал письмо, бережно разгладил его. Это письмо только и осталось от Ханона, верного друга. Его сразила снайперская пуля вчера перед вечером в час затишья. Письмо это было давнее, от матери Ханона, веселого и смелого цыгана, единственного человека, который мог поспорить с Алешей по тонкости слуха и зоркости глаз.
Что может быть ценнее письма на фронте? Недаром же почтарь с его кожаной сумкой – это существо почти священное.
И вот Алеша Голоденко в тишине кубрика перечитывал письмо от матери Ханона, горюя над погибшим товарищем и над страданиями его матери.
«…все только о тебе думаю, сыночек мой, встаю с этой думой, день-деньской хожу с ней, и спать ложусь с ней, и во сне ее вижу. Про нашу жизнь что сказать? Живем как все, работаем сколько надо и у каждого сердце на фронте».
Незаметно Алеша заснул, но и во сне он вздыхал и всхлипывал совсем по-детски.
В кубрик сунулся кок Лебанидзе, притащивший термос с кипятком.
– Эй, молодцы, кому горло промочить, налетай! Пустопорожний чай, первосортный капиток, сладкая какавелла на сахаре, шоколад-фри, черт его побери!
– Не трепись, Шалва! – остановил его Федя, досадуя на то, что кок разбудил его, когда он только-только начал засыпать. – Перебил ты мне лучшие сны. Попал я в продовольственную базу… Эх ты, «капиток»! Где твоя совесть? Как у тебя со стыда печенка не лопнет!
– Какой грозный, скажи пожалста! – буркнул ошарашенный нелюбезной встречей кок.
– Будешь грозный: на ремне дырок не осталось, затягивать некуда.
В ответ, как бы приставив к губам невидимую флейту, кок вдруг заиграл тихий и нежный мотив.
– Черт! На тебя и сердиться нельзя, Шалва! – сказал Федя и улыбнулся.
Кубрик оживлялся, одни вставали, чтобы заступить на вахту, другие возвращались с вахты. Все потягивались, зевали, облизывали пересохшие губы. Первую кружку с кипятком поднесли Мите Мельникову. Он пришел в себя.
Некоторое время люди молча и жадно прихлебывали горячую воду, вместе с которой, казалось, в них вливаются новые силы. Потом Алеша Голоденко с сердцем сказал:
– До чего как глупо человек устроен, жрать ему каждодневно подавай. В радости жрет и в горе не отстает. Крестины, свадьбы, поминки для того и придуманы, чтобы пожрать. Ох, хлопцы!
Белугу паровую с хреном
Умял бы, братцы, с три кила
И выпил бы, ей-ей, без крену
Бочонок крымского вина…
– Здорово! – с восхищением сказал кок. – Сейчас куплет придумал?
– Как же, держи карман шире. Не подсолнухи, вирши все-таки, понимать пора. Тут тебе и рифмы и ритмы.
– Стишки вроде и ничего, – сказал Федя. – Кружка пива – пены много, а пить нечего.
Алеша было обиделся. Но тут вдруг заговорил изнуренный лихорадкой раненый боец Панюшкин с горящими глазами.
– Чудной мне сон приснился. Будто провожают меня всем колхозом на войну. Ну, дома какие проводы – слезы. Слезы… – повторил он с хлипом. – А у меня жинка с характером… когда уходил на фронт, ни одной слезинки не проронила.
Митя Мельников, к которому ненадолго вернулось сознание, прерывисто засмеялся.
– Видать, у меня… никакого у меня характера. Слезами заливался, – проговорил он медленно, врастяжку.
Люди улыбнулись; кто-кто, а Мельников был известен своим непреклонным характером!
– А характер тут ни при чем, – сказал Федя. – Мы вон как провожали отслуживших срок службы – и то всплакнули. Пять лет вместе, не шутка. Боцман уж на что человек-кремень, а и тот прослезился. Какие там проводы без слез, да еще на войну…
– Нет! – упрямо и резко сказал изнуренный боец Панюшкин голосом, полным мучительного раздумья, смятения и страдания. – Оно и лучше… зачем нюни распускать? И без того муторно, полное расстройство чувств. – Он смотрел прямо перед собой каким-то сумасшедшим взором, точно видел свои злые воспоминания, и вдруг, сжигаемый мукой поздней ревности, обдал жену ушатом брани и проклятий.
Федю особенно поразил этот взрыв предсмертного отчаяния человека, который всегда отличался ровным, спокойным, сдержанным и деликатным характером. В то же время Сергей Панюшкин был малый ершистый и никому не позволял ездить на себе и воду возить. К женщине он относился с уважением, никогда не разрешал себе сальностей и не любил слушать скабрезные анекдоты. Воевал он вдумчиво, толково, с пленными обходился без лишней жестокости… Что же с ним случилось?
Федя было попробовал, по своему обыкновению, пошутить и начал рассказывать про боцмана, чей язык считается «самым длинным концом на корабле», но тут вмешался Яков Билик.
– Ну и гуся же ты поймал, Федя! Стопроцентный гад! Чистый ариец. «Сколько, говорит, вас здесь, на батарее, – батальон или больше? Валите, говорит, всем табуном к нам, мы вас помилуем». Слыхали, братва? – И, ожесточаясь с каждым словом, Яков рассказал, что немецкое командование обещает своим солдатам со взятием Севастополя бани, отдых и отпуска.
– Ишь паразит! – возмутился Федя. – Дорого ценит свою собачью шкуру: батальон или больше русских моряков… Ну, бани – это можно, пожалуйста, горячие, свинцовые, и отпуска тоже дадим – бессрочные, на тот свет.
Он вдруг подумал, что неспроста фашист предлагает за себя такой выкуп: чего-то боится, не прорвали ли наши кольцо окружения?
– Может, он чего пронюхал? – сказал Федя, всем сердцем поверив в то, что говорит. – Мы ведь отрезаны, ничего не знаем, а там, может, заварушка началась… Как под Москвой: отходили, отходили – и вдруг «в последний час»: на триста километров отбросили.
– А ведь верно! – подхватил Яков с заблестевшими глазами. – Как это я раньше не смекнул… Голова! Десант был под Керчью, а Севастополю вышла передышка. Как в лесу, крикнешь здесь, а эхо там…
И Мельников медленно проговорил, прерывисто и шумно дыша:
– Нам отсюда не видно… Собрались наши с силами. Довольно отступать… Будет… Куда пустили немца. Может, в другом месте штормит, а сюда волна пришла… – Он говорил отрывисто, негромко, с необыкновенной значительностью и верой.