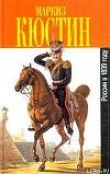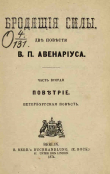Текст книги "Россия в 1839 году (не вычитано!)"
Автор книги: Астольф де Кюстин
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 35 (всего у книги 36 страниц)
С. 162–163. Император Александр был... иногда неискренен...– Характеристика, восходящая к знаменитому высказыванию Наполеона, назвавшего Александра хитрым "византийцем" (см.: Las Cases E. Memorial de Sainte-Helene. P., 1968. P. 182; первое изд.-1823). Кюстин цитирует эти слова со ссылкой на Наполеона ниже (см. наст. том, с. 346). С. 163. Императрица... так слаба, что, кажется, не имеет сил жить: она чахнет, угасает...– Во второй половине 1839 г. императрица Александра Федоровна (1798–i86o) перенесла тяжелую болезнь: "Она страдала легкими, и ей было запрещено не только выезжать, но много принимать у себя" (Сон юности. С. 115). "Императрица все нездорова,– писал А. И. Тургенев Н. И. Тургеневу 15/27 сентября 1839 г.– она простудилась от парижских башмачков и от танцев. О ней все жалеют, и я в особенности почти искренно. Она исчезает, хотя это состояние может продлиться. Кашель сошел в грудь (да к тому же у ней какой-то понос и часто возвращается). Боятся, что потеря эта может изменить к худшему еще характер государя. Кто ему ее заменит в домашней жизни? Детей переженит и выдаст замуж,
464
Комментарии
но дети– не жена, которую он очень любит. Горизонт здешней жизни может еще более померкнуть" (РО ИРЛИ. Ф. 309. No 706. Л. 41 об.). Французский посол Барант 28 сентября 1839 г. докладывал в Париж маршалу Сульту: "Императрица была тяжело больна. Теперь ей лучше, но состояние ее все равно внушает тревогу" (АМАЕ. Т. 195– Fol. 134);
a i2 октября 1839 г. уточнял: "Императрица чувствует себя гораздо лучше. Она оправляется от раздражения в груди, внушавшего самые серьезные опасения. Но возможно ли излечение от той слабости и того бессилия, в какие она, судя по всему, впала? Это пока сомнительно" (АМАЕ. Т. i95– Fol. 151)– Только совершенной невинностью Б. Парамонова по исторической части можно объяснить его трактовку этого сюжета: императрица якобы была совершенно здорова, Кюстин же так старательно подчеркивал ее болезненность исключительно потому, что сам был неравнодушен к императору и подсознательно желал устранить соперницу
(см.: Звезда. 1995– No 2. С. 185). ...от потрясения, которое пережила в день вступления на престол...– События 14 декабря 1825 г. произвели на Александру Федоровну такое сильное действие, что она заболела нервным расстройством, последствия которого давали о себе знать до конца ее дней. ...императору– слишком много детей.– Александра Федоровна родила четырех сыновей: Александра (i8i8–1881), Константина (1827–1892), Николая (1831–1891) и Михаила (1832–1909) ч трех дочерей: Марию (1819–1876), Ольгу (1822–1892) и Александру (1825–1844)
...сказала одна польская дама...– Ж.-Ф. Тарн предполагает (не приводя, впрочем, аргументов), что этой дамой была княгиня Анна Чарторыйская (урожд. Сапега; 1796–1864), жена лидера аристократического крыла польской эмиграции в Париже князя Адама Чарторыйского.
С. 164. ...император запрещает русским путешествовать...– Заграничные паспорта выдавались с разрешения императора людям благонадежным и способным объяснить цель поездки (например, для лечения), да и то если политическая ситуация была благоприятной. Ср., например, типичный эпизод николаевского царствования: "Доктора сперва разными лекарствами меня пичкали и, наконец, объявили, что мне необходимо ехать в Карлс-бад. Д. Н. Блудов выхлопотал мне, конечно, не без большого труда, дозволение мне ехать за границу, потому что вследствие июльской революции ^1830 г.) во Франции и последовавших затем беспорядков и возмущений в Польше и Германии император почти никому не разрешал отъезда в чужие края" (Кошелев А. И. Записки. М., 199' ^– б2)– Ч3 французской прессы Кюстин мог знать, что русское правительство постоянно подозревало подданных в желании обманом нарушить этот запрет; так, 30 декабря 1837 г– газета "Constitutionnel" сообщала: "Император, сочтя, что русские и польские дворяне нарочно записываются купцами, чтобы с большей легкостью получать заграничные паспорта, издал специальный указ о том, что всех дворян, даже если они числятся в списке купцов первой гильдии и платят подати как купцы, при испрашивании ими заграничных паспортов следует рассматривать как дворян, каковые могут получить эти паспорта
l6 А. де Кюстин, т.
Комментарии
лишь с высочайшего соизволения". Первый секретарь французского посольства в Париже Серее отмечал в августе 1835 г., что под давлением общественного мнения император "сузил сферу действия этой запретительной меры, распространив ее на одну Францию", и что указ о запрещении выезда за границу "постоянно нарушается бесчисленными исключениями" (АМАЕ. Т. 190. Fol. 161). Тем не менее официальных послаблений в этой области не происходило. Уже после выхода книги Кюстина, 15 марта 1844 г. был издан указ "О дополнительных правилах на выдачу заграничных паспортов", еще более ужесточивший эту процедуру: "Всякий платит сто рублей серебром за шесть месяцев пребывания за границею. Лицам моложе двадцати пяти лет совсем воспрещено ездить туда. 5 метра; высота Вандомской колонны, установленной по приказу Наполеона в 1806–1810 гг. на Вандомской площади (до Революции называвшейся сначала площадью Завоеваний, а затем площадью Людовика Великого) – 43'5 метра. Колонны эти могли считаться соперницами: если Наполеон воздвиг свою в честь побед над немцами и русскими в Аустерлиц-ком сражении, то Николай увековечил своей славу Александра I – победителя Наполеона. См.: Кириченко Е. П. Вандомская колонна в Париже и Александрийский столп в Петербурге: символика уподоблений и противопоставления // Россия и Франция. XVIII–XX века. М., 1995– С. 88–97...в том виде, в каком существовал при императрице Елизавете.– Зимний дворец в том виде, в каком видел его Кюстин (и в каком он существует и поныне),– это пятый вариант дворца, построенный в 1754–'7б2 гг. в царствование Елизаветы Петровны (1709–1761), императрицы с 1741 г-) архитектором В. В. Растрелли. К 1839 г. изменился также цвет дворца: из зеленовато-белого он был перекрашен в бело-желтый цвет (см.: Анциферов Н. П. Душа Петербурга. Приложение к репринтному воспроизведению. М., 1991– С. 93)
С. 174–175– дворец, Сената и другие подражания языческим храмам, в которых, впрочем, размещается военное министерство... одну-единственную площадь...– Хотя Дворцовая и Сенатская (иначе Петровская) площадь достаточно удалены Друг от друга и ныне представляют собой самостоятельные образования, в начале XIX века все пространство от Зимнего собора до Исаакиевского дворца воспринималось как единое целое (см.: Schni^ler. P. 226). Ниже (наст. том, с. 35') Кюстин дословно повторяет описание этой триединой площади – "Петровской, Исаакиевской и площади Зимнего дворца",– данное Шницлером. Именуя Сенат "подражанием языческим
470
Комментарии
храмам", Кюстин, очевидно, имеет в виду восьмиколонные лоджии коринфского ордера, украшающие его фасад, равно как и фасад Синода. В том же стиле ампир, использующем в выборе форм и декора наследие императорского Рима и древнегреческой архаики, выполнено и здание Главного штаба (построено в 1819–1829 гг. архитектором К. Росси), где размещались многочисленные министерства.
С. 175– –снискала незаслуженную славу благодаря шарлатанской гордыне воздвигнувшей ее женщины...– Имеется в виду Екатерина II, имя которой запечатлено в надписи на постаменте "Медного всадника": "Петру Первому Екатерина Вторая". С. 176. Северные пустыни покрываются статуями и барельефами...– Ср. сходное впечатление от тогдашнего Петербурга русского старожила: "Двое маршалов – перед Казанским собором; велико, и пространно, и пустынно" (А. И. Тургенев – Н. И. Тургеневу, 12/24 августа 1839 г., Петербург – РО ИРЛИ. Ф. 309– No 706. Л. 22). О Казанском соборе и установленных перед ним статуях Кутузова и Барклая де Толли см. примеч. к наст. тому, с. 352-Византии – первоначальное название Константинополя. ...в том, чтобы, худо ли, хорошо ли, подражать другим народам...– Мысль о способности к подражанию как одной из центральных черт русского национального характера, – непременный атрибут французских "отчетов" о путешествии в Россию конца XVIII – начала XIX вв.: ср., например, в "Путешествии в Сибирь" Шаппа д'0троша (1768): "У русских воображение обнаружить почти так же трудно, как и гений, зато они наделены исключительной способностью к подражанию" (Voyage. P. ii75)> B "Секретных записках о России" (i8oo) Ш.Ф.-Ф. Массона: "Русский характер, сказал кто-то, состоит в том, что у русских нет никакого характера, но зато есть восхитительная способность усваивать себе характер других наций. (...) Русский дворянин, единственный представитель русской нации, которого можно встретить за границей и с каким можно свести знакомство у него на родине, кажется, создан нарочно для того, чтобы усваивать себе взгляды, нравы, повадки и языки других народов. Он способен быть легкомыслен, как французский щеголь прежних лет, музыкален, как итальянец, рассудителен, как немец, оригинален, как англичанин, низок, как раб, и горд, как республиканец. Он способен менять вкусы и характер так же легко, как и моды, и эта гибкость органов и ума есть бесспорно его отличительная черта" (Voyage. P. 1187), или в "Десяти годах в изгнании" г-жи де Сталь: "Гибкость их природы делает русских способными подражать во всем другим народам. Сообразно с обстоятельствами они могут держать себя как англичане, французы, немцы, но никогда они не перестают быть русскими..." (Россия. С. 30); сходные мысли высказывает и Ансело (см.: Ancelot. P. 231–232). Больше того, если Ж.Ж. Руссо в "Общественном договоре" (кн. 2, гл. 8) утверждал, что подражательность лишит русских силы и приведет Россию к утрате самостоятельности не только культурной, но и политической, некоторые авторы видели в подражательности залог грядущей мощи России: "Русским предстоит многое копировать, многому учиться. Им незачем заниматься изобретениями, ибо гораздо больше пользы
471
Комментарии
доставят им подражания; они поступают очень верно, когда призывают к себе иностранцев, с которых берут пример и у которых перенимают новые для себя обыкновения. Лишь овладев всеми сокровищами, какими богаты соседние страны, Россия сможет заняться отделкой и усовершенствованием деталей" (Фабер Г.-Т. Безделки. Прогулки праздного наблюдателя по Санкт-Петербургу//Новое литературное обозрение. 1994– No 4– с– З^)-Подчас сами русские соглашались с подобными определениями и даже гордились ими (см. в дневнике Гагерна его беседу с воспитателем цесаревича генералом Кавелиным, заверявшим гостей, что главный талант русской нации– "гений подражания"– Россия. С. 686). Однако авторы антикюстиновских брошюр были иного мнения; Лабенский указывал на то, что подражание – не прерогатива русских: греки подражали египтянам, римляне – грекам, французы -понемногу всем европейским нациям: "Отнимите у французской цивилизации то, что она заимствовала у греков и римлян (начиная с языка), отнимите у нее то, что она почерпнула у арабов, испанцев, итальянцев, немцев и англичан, – и посмотрите, к чему сведутся собственные ее изобретения" (Labinski. Р. 59–6о). С. 177– Ледяной дворец был воздвигнут зимой 1740 г. между Адмиралтейством и Зимним дворцом по приказу не Елизаветы, а Анны Иоанновны, для потешного праздника -женитьбы шута императрицы, князя М. А. Голицына, на калмычке Бужениновой. С. 174. че испытывали один к другому ни малейшей приязни.– Можно полагать, что Николай I, внешне чтивший память "нашего ангела" Александра Павловича и увековечивший эту память в Александрийской колонне (см. примеч. к наст. тому, с 174)' испытывал к нему более сложные и не всегда благодарные чувства. Об этом, впрочем, можно судить только по косвенным данным. См., напр., фразу Бенкендорфа в разговоре с П. А. Вяземским: "Я сказал императору, что ваши ошибки были ошибками, свойственными всем нам, всему нашему поколению, которое прежнее царствование ввело в заблуждение", приведенную в письме Вяземского к жене от 12 апреля 1830 г. (Звенья. М., 1936. Т. 6. С. 234). С. i8o. ...более немец, нежели русский.– Русской среди предков Николая I была лишь прабабка Анна Петровна, дочь Петра I и мать Петра III, все остальные были уроженцы немецких княжеств (впрочем, ходили слухи, что Екатерина родила Павла не от Петра III, а от графа Салтыкова, или вообще родила мертвого ребенка, которого подменили крестьянским сыном).
С. i8i. Император беспрестанно путешествует...– Эту страсть с неодобрением отмечали французские дипломаты; Барант 12 ноября 1837 г. доносил тогдашнему главе кабинета графу Моле: "Страна не имеет от этого ^"стремительных переездов" императора) никакой пользы. Огромные траты обременяют бюджет, и без того неспособный удовлетворить все нужды. Никто, даже среди представителей образованного сословия, не видит у этих путешествий иной причины, кроме настоятельной потребности в новых впечатлениях и физической деятельности. w>eu главной страстью была армия, за что он и получил прозвище Король-Сержант. С. 233– ...Петербург создавали люди богатые...– К аналогичному выводу прежде Кюстина пришел Г.-Т. Фабер: "Повсюду заметно, что в Петербурге все клонится к удовлетворению нужд одного-единственного класса – класса богачей. Это совершенно естественно: в северной столице раньше других обосновались люди с большими состояниями, родовитые помещики, придворные. Первыми поселились в Петербурге помещики и их крепостные. Однако поскольку последних в расчет не брали, для них в городе ничего не строили" (Фабер Г.-Т. Безделки...//Новое литературное обозрение. 1993No 4. С. 358).
С. 236. ...взялся остановить сей нескончаемый поток.– Как раз в это время в политических кругах Европы обсуждалось наличие при петербургском дворе влиятельной "русской" ("старо-русской") партии, выступающей за усиление изоляции России от Европы и даже угрожающей безопасности других стран; Барант в донесении от 24 марта 1837 готмечал, что людей, хорошо знающих европейскую жизнь, в окружении Николая I становится все меньше, зато постоянно увеличивается число людей "достойных, сведущих в делах административных, мудрых советников, надежных и преданных слуг, которые являются русскими и только русскими и мало смыслят в том, что происходит на Западе" {Souvenirs. Т. 5– Р– 554; см– также:
The Diary ofPhilipp von Neumann. 1819-1850. Boston and New-York, 1928. V. 2. P. in; запись от 24 февраля 1839 г.; автор дневника -высокопоставленный австрийский дипломат). Из пристрастия к романтической концепции местного колорита и национальной самобытности Кюстин отзывается об этой изоляционистской политике одобрительно, хотя ее неизбежные следствия (такие, например, как запрещение русским выезжать за границу– см. примеч. к наст. тому, с. 164) вызывают– в других местах книги – его протест. На недостаток в Петербурге русских лиц и вообще "русскости" жаловался и Ансело: "Прибыв в Петербург, я пожелал увидеть на улицах этой искусственной столицы народ – увидел же лишь князей, дворцы и казармы. Русских, объяснили мне, следует искать не здесь. В Петербурге они, так сказать, теряются среди толпы ливонцев, литовцев, эстонцев, финнов и всевозможных чужестранцев, населяющих этот импровизированный город. (...) Конечно, французскому путешественнику приятно обрести в семистах лье от родины обычаи, язык и даже шутки нашей Франции, но я-то приехал в Россию не за этим и, глядя на этих офранцуженных русских, не раз восклицал вместе с Беранже: "Пусть будет русский русским, британец же -британским, и проч."" {Ancelot. Р. 39' 94)-О взгляде на подражательность как основную черту русских см. примеч. к наст. тому, с. 176.
493
Комментарии
С. 237– Борьба – это школа Провидения. – Примечание Кюстина к изданию 1854 г-'"Это следует отнести к полудиким народам, которые России, кажется, призвана включить в свою политическую сферу, дабы привить им зачатки цивилизации". ;' i
...было бы весьма предусмотрительно... поставлять русским топливо... Тогда бы северяне меньше жалели о солнце. – Намек на опасность завоевательных войн, которые Россия начнет вести, повинуясь извечной тяге северных народов на юг (см. примеч. к наст. тому, с. 88).
С. 239– ...составляют едва треть от общего населения города.– Цифры, возможно, восходящие к Шницлеру, который, со ссылкой на русские газеты, пишет, что в 1828 г. в Петербурге проживало всего 422 i66 душ, из них 297 445 мужчин, а в 1833 г. -соответственно 445 '35 и 29l 290 (Schnitaler. P. , 284). Еще ближе к утверждению Кюстина те цифры, которые приведены;
в отчете санкт-петербургского обер-полицмейстера за 1838 год; согласно? этому документу, в Петербурге на 333 669 мужчин приходилось всего 136051 женщина (Северная пчела, 5 января 1839 г.).
С. 240. Я никогда не видел, чтобы... так уважительно обходились друг с другом.-Возможно, на Кюстина это произвело впечатление по контрасту с парижскими нравами, которые В. В. В. (В. М. Строев), фельетонист "Северной пчелы" (впрочем, не слишком доброжелательный) описывает так:
"На грязных бестротуарных улицах теснится неопрятный народ в запачканных синих блузах, в нечищенных сапогах, в измятых шляпах, с небритыми бородами; он валит толпою, как стена, и не дает никому дороги. ^...) Неучтивость (говорю об улицах) дошла теперь до того, что все толкаются и никто не думает извиняться" (Северная пчела, ю марта 1839 г-)Письмо пятнадцатое
С. 242. Петергоф, гу июля...– По старому стилю 11 июля. ...но дает понять вельможе...– Примечание Кюстина к изданию 1854 г.: "Мы пользуемся этим словом, потому что не притязаем на создание слов несуществующих; однако не следует забывать, что в России слова значат не то, что в других странах. Там, где недостает свободы, нет и истинного величия: в России есть люди титулованные, но нет людей благороднорож-дснных".
Император Николай не первый прибегнул к подобному плутовству... – Обычай собирать "весь Петербург" на петергофский праздник в начале июля восходил к Александру I, который учредил эти празднества в честь своей матери, императрицы Марии Федоровны. С. 243– Сады Армиды – традиционное литературное сравнение, восходящее к "Освобожденному Иерусалиму" Т. Тассо (1580; песнь XVI); в своих зачарованных садах волшебница Армида колдовством удерживала рыцаря Ринальда. С. 244–245– Екатерина открывала школы... школы я учреждаю не для нас, а для Европы...– Созданная в 1782 г. "Комиссия об учреждении народных 494
Комментарии училищ" выработала через четыре года "Устав о народных училищах", утвержденный императрицей, согласно которому в губернских и уездных городах предполагалось открыть соответственно главные и малые училища; большой популярностью училища эти в самом деле не пользовались, и власти вынуждены были даже вербовать туда учеников принудительно. Близкие мысли об опасностях, которыми чревато просвещение русского народа, высказывал Жозеф де Местр в i8io г. в "Пяти письмах о народном образовании в России", адресованных министру просвещения графу А. К. Разумовскому и распространявшихся в списках среди русских католиков, и в "Четырех главах о России": "Дадим свободу мысли тридцати шести миллионам людей такого закала, каковы русские, и
– я не устану это повторять– в то же самое мгновение во всей России вспыхнет пожар, который сожжет ее дотла" (Maistre J. de. Quatre chapitres sur la Russie. P., 1859. P. 22; эта работа, написанная в начале i8io-x гг., была впервые опубликована только в 1859 г-; смСтепанов М. (ШебунинА. Н.) Жозеф де Местр в России // ЛН. Т. 29/30. М., 1937– С. доб-6о2). Николай I разделял эти опасения и, по свидетельству Баранта, "был озабочен нежелательными последствиями, какие излишняя образованность приносит средним классам, порождая в них тщеславие, зависть, уничтожая всякую иерархию, рождая невостребованные способности и тем умножая гибельную праздность. "Следует,– говорил император,– учить каждого тому, чем он будет заниматься на уготованном ему поприще"" (Notes. P. 80). С. 247– ...обделены подлинным счастьем...у русских же оно невозможно вовсе.-Комментарий Лабенского: "Если верить г-ну де Кюстину, тень смерти и страшный могильный покой царят во всей России 95). Наградой Гуровскому послужило разрешение вернуться в Россию, однако служба в провинциальных русских городах не принесла ему ни удовлетворения, ни повышения по службе, и в 1844 г. он бежал из России, в 1848 г. выпустил в Италии книгу о панславизме, а кончил жизнь в США, куда эмигрировал в 1849 г. После выхода "России в 1839 году" начали циркулировать слухи о том, что Адам Гуровский "сообщил некоторые подробности Кюстину, дабы отомстить русскому правительству за свой неуспех" (А. И. Тургенев – Н. И. Тургеневу, 21 июля / з августа 1844 г. – НЛО. С. из). Однако недавно опубликованное письмо Кюстина к Адаму Гуровскому от 31 августа/12 сентября 1839 г. из Петербурга, где маркиз высказывает сожаление о том, что ему не удалось повидать Гуровского в России, окончательно опровергает эту версию (см.: НЛО. С. 129). Гораздо более близким было знакомство Кюстина с младшим братом Адама, Иг-нацием. Познакомившийся с маркизом в 1835 г., юный поляк жил в его доме на правах любовника несколько лет, до тех пор, пока – уже после поездки 501
Комментарии Кюстина в Россию – не влюбился в испанскую инфанту Изабеллу, дочь инфанты ЛуизыШарлотты и инфанта Франсиско де Пауло, брата Фердинанда VII и Дона Карлоса, которую 8 мая 1841 г. похитил из монастыря, куда ее поместили родные (заметим, что инфанта была самая натуральная, а не "какая-то девка" по прозвищу Infanta, как полагает Б. Парамонов -Звезда. 1995– ^н 2– ^– '^Q)– Влюбленные бежали в Бельгию, где поженились, и впоследствии инфанта родила Игнацию девять детей. Одной из целей поездки Кюстина в Россию было желание замолвить слово за Игнация перед императором и упросить его, чтобы он возвратил младшему Гуров-скому конфискованное у него после восстания поместье в Польше. Несмотря на ходатайства Кюстина и баронессы Фредерике (ближайшей подруги императрицы), поместье Гуровского в октябре 1841 г. все же было конфисковано окончательно – вероятно, на решение императора повлиял скандал с похищением инфанты, прогремевший на всю Европу. Критики Кюстина были склонны связывать недоброжелательность его книги с неудачей ходатайства за Игнация Гуровского (см.: Gretch. P. ю) и ставить писателю в вину его "противоестественные" отношения с молодым поляком (Я. Н. Толстой сразу по выходе "России в 1839 году" доносил Бенкендорфу: "Он ^Кюстин) прибыл в Россию с тем, чтобы выпросить прощение для г-на Гуровского, того самого, который похитил испанскую принцессу ^...) Этот г-н Гуровский внушил г-ну де Кюстину гнусную страсть; он жил в его доме, распоряжался всем, как хозяин, и всецело подчинил покровителя своему влиянию: здесь его прозвали маркизой де Кюстин"– ГАРФ. Ф. 109. CA. Оп. 4. No 192. Л. 64; подл. по-фр.). Добавим, что за Гуровского просил не один Кюстин, но и П. Б. Козловский; в сохранившемся письме к нему от ю/22 июля 1839 г. чиновник Коллегии иностранных дел Григорий Петрович Волконский (сын министра двора П. М. Волконского) обсуждает способы добиться удовлетворения прошений трех поляков, о которых ходатайствует Козловский, причем имя одного из них – граф Гуровский (см.: BN. JVAF. No 16607. Fol. 333)– Козловский по праву пользовался репутацией заступника гонимых поляков, однако совпадение дат позволяет предположить, что в данном случае он действовал не по собственной инициативе, а по просьбе Кюстина. I С. 271– Слушала она меня с большим вниманием.– Некоторые читатели и критики Кюстина считали сцену в коттедже вымышленной или ненатуральной. Так, Сен-Марк Жирарден в первой части своей рецензии (Journal des Debats, 4 января 1844 г.) называет любезное обращение императрицы и цесаревича с Кюстином комедией, какую, по словам самого Кюстина, всегда разыгрывают перед иностранцами русские, причем комедией "стол" ловкой, что она ввела в заблуждение и Кюстина" (утверждение это было оспорено Я. Н. Толстым в брошюре "Письмо русского к французскому журналисту о диатрибах антирусской прессы"– Tolstoy. Lettre. P. ia–13)-Тем не менее известно, что Кюстин в самом деле обсуждал с императрицей судьбу братьев Гуровских, в частности Адама. В письме к Адаму от З1 августа/12 сентября 1839 г– он пересказывает слова императрицы: "Мы многого ждем от графа Адама Гуровского теперь, после того как он 502
Комментарии образумился и обратился на путь истинный" (Forycki R. Miedzy apostazja a palinodia polityczna; hrabia Adam Gurowski i markiz de Custine//Blok-Notes Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza. Warszawa. 1991. No ю. S. 320).
Я встречал его недавно в Эмсе...– Из письма Кюстина к Софи Гэ от 12 июня 1839 г. из Эмса известно, что И. Гуровский, приехавший в Эмс с английским паспортом, боялся столкнуться с кем-то из русских и потому сразу по приезде русского цесаревича со свитой почел за лучшее уехать в Бельгию; поэтому Ж.-Ф. Тарн называет упоминание о встрече великого князя с Гуровским неточностью (см.: Tarn. P. 5'3)> однако не исключено, что краткая встреча все-таки состоялась. Летом следующего, 1840 года в Эмсе, когда Кюстин еще раз увиделся с российской императрицей (см. примеч. к наст. тому, с. 263), Гуровский снова находился при нем и "порхал подле русских красавиц, которые, впрочем, весьма некрасивы" (Revue de France. 1934– Aout. P. 740).
Кому нужен нынче в России поляк...?– Император не доверял полякам, даже когда они изъявляли ему свою покорность, и на вопрос Баранта, не пытаются ли польские изгнанники вымолить у него прощение и вернуться на родину, отвечал: "Нет, благодарение Богу; это была бы покорность неискренняя; от них ничего хорошего ждать не приходится",– хотя, впрочем, тут же припомнил нескольких поляков, которые, "добившись права возвратиться, вели себя отменно и служили с усердием" [Souvenirs. Т. 5. Р. 49н; донесение от 6 ноября 1836 г.). Такое отношение Николая I к полякам находило отражение во французской прессе: газета "Commerce" 8 февраля 1838 г. пересказывала, якобы со слов Баранта, реплику императора в ответ на ходатайство за какого-то поляка-эмигранта: "У меня и так слишком много поляков; их у меня полно в армии, среди чиновников, а между тем ни один не внушает мне доверия.– Возьмите, например, моего обер-егермейстера графа Браницкого; его мать – племянница Потемкина, его отец был повешен поляками; он владеет в России миллионным состоянием, и несмотря на все это, он отдал бы половину своего состояния за то, чтобы послать меня ко всем чертям". Подозрения императора были далеко не всегда неосновательны; они оправдались, например, в случае с братом Игнация Гуровского, Адамом. "Характер поляков,– утверждал Отчет Третьего Отделения за 1844 год,– ясно выразился в графе Адаме Гуровском, который вместе с другими участвовавшими в польском мятеже удалялся за границу и в 1835 г. получил всемилостивейшее дозволение возвратиться в Россию; здесь он удостоен был многих монарших милостей, но, невзирая на это, в апреле 1844 г. скрылся за границу! Таковы почти все поляки: сколько ни изливают на них милостей, они все смотрят врагами России!" (ГАРФ. Ф. 109. On. 223. No 9– -^– l3^ н^-)С. 275. Ораниенбаум– местность, где в конце XVII века находилась мыза Теирис, подаренная в начале XVIII века Петром I Александру Даниловичу Меншикову (1673–1729)1 который в 1710 г. начал строить здесь Большой дворец, в 1727 г., после ареста и ссылки владельца отошедший вместе с территорией в казну. В 1743–'P^i гг. Ораниенбаумский дворец был резиденцией великого князя Петра Федоровича (будущего 503
Комментарии императора Петра III); с 1831 г. стал летней резиденцией великого князя Михаила Павловича и его жены.
...развалины маленькой крепости, из которой Петра III вывезли в Ропщу...– Во второй половине 11У>-^– гг. в Ораниенбауме возник небольшой военный городок– Петерштадт. В центре его была выстроена земляная крепость с пятью бастионами, а внутри нее – каменный двухэтажный дворец и несколько служебных построек. Если эти последние были разобраны в конце XVIII в., а земляные укрепления снесены в начале XIX в., то дворец Петра III сохранился до наших дней. Во дворце в Ропше император Петр III, низложенный Екатериной II 28 июня 1762 г., был 6 июля 1762 г. убит Алексеем Орловым. С. 276. Рюльер Клод Карломан де (17 35–'79')– французский поет и историк, в 1760 г. прибывший в Петербург в качестве секретаря французского посольства при после бароне де Бретее и ставший свидетелем переворота 1762 г., приведшего Екатерину к власти. По возвращении во Францию, в 1768 г., Рюльер получил заказ написать в наставление дофину, будущему королю Людовику XVI, историю смут в Польше; русский двор предлагал ему большие деньги за то, чтобы он отказался от этой работы, но Рюльер отверг посулы, обещав лишь ничего не публиковать до смерти Екатерины II, и в самом деле полностью "История анархии в Польше и раздробления этой республики" была издана лишь в 1807 г.; тем не менее фрагменты из нее были читаны в парижских салонах и даже открыли их автору путь во Французскую академию (1787); к книге о Польше примыкает сочинение, которое цитирует Кюстин: "Анекдоты о перевороте в России" (изд. 1797; рус. пер. см. в кн.: "Россия XVIII глазами иностранцев. Л., 1989)" которое цитирует Кюстин и которое рисует перед читателем картину государства, где всеми владеет страх и где деспотическая власть беспощадно угнетает всех подданных. В цитируемом Кюстином отрывке из Рюльера упомянуты:
княгиня Екатерина Романовна Дашкова (1744–i8io), сподвижница Екатерины П во время переворота; Григорий Николаевич Теплов (1717– 1779)– секретарь Екатерины II; князь Федор Сергеевич Барятинский (i742–1814) – поручик лейб-гвардейского Преображенского полка, впоследствии обер-гофмаршал Екатерины; граф Никита Иванович Панин (1718-1783)– дипломат, воспитатель великого князя Павла Петровича; Григорий Александрович Потемкин (i739–'791)" впоследствии светлейший князь Таврический и фаворит императрицы.
С. 277– тот... что утаил записку княгини Дашковой...– Намек на эпизод, рассказанный Рюльером ранее: накануне переворота 1762 г. княгиня Дашкова написала Екатерине записку: "Приезжай, государыня, время дорого" и послала ее с Орловым, а тот, "думая присвоить в пользу своей фамилии честь революции ( ') имел дерзкую хитрость утаить записку княгини Дашковой и объявил императрице: "Государыня, не теряйте ни минуты, спешите!" (Россия XVIII века глазами иностранцев. Л., 1989. С. 289). ...некто Потемкин, семнадцати лет от роду.– Формулировка, дословно повторяющая фразу из письма Екатерины II к Понятовскому от а августа 1762 г., посвященного событиям 6 июля. Потемкин (которому было в то