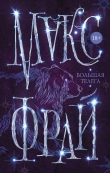Текст книги "In Telega (сборник статей)"
Автор книги: Асар Эппель
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 8 страниц)
И уж тут явно что-то ренессансное. Вспомнимте Бенвенуто Челлини, который для каждой новой работы измышлял невероятную технологию и способ, "какого еще не было". Только так и может работать человек цеха, искусный в рукодельной выдумке художник. Вот и Борис Мессерер, чтобы остановить и оставить навсегда пляски танцовщиц и двуручных пил, измышляет технологию офорта, "какой еще не было". Он научается изготовлять огромные листы, каких не изготовляет никто. Казалось бы, в офортной технике как все было триста лет, так и осталось. Еще Рембрандт раз навсегда ее постулировал. Борис Мессерер учиняет переворот. Он увеличивает талёр (рембрандтовский термин), дабы работать с большими листами, а переделать в одиночку огромный станок идея безумная. Сразу возникают тысячи конфронтаций с ГОСТом – размеры стальных листов, размеры бумаги, размеры стекол – все становится уникальным и труднодостижимым. "Не аэрографом ли сделано?" – разглядывая бархатную, почти гобеленовую поверхность огромного офорта, ломают голову коллеги. Как бы не так! Это через мессереровскую машинерию прошел за двадцать (sic!) прогонов лист бумаги, превратясь в мокрый некрасивый ком. Но Мессерер знает, как его разгладить, как натянуть на подрамник и окантовать (жаль только, что академические окна немилосердно бликуют на негостовских стеклах!), как создать невиданный колорит и сложнейшую фактуру цветовой гаммы, чтобы цвета совпали, а оттенки получились. Художники вообще знают много – они подмастерья Господни.
Шарабан Бориса Мессерера как въехал в Академию художеств, так и выедет. Обратно в мастерскую на импозантнейший московский чердак? Не только! Еще один маэстро, художник каких поискать, сотворил некий вечный привал, сиречь каретный сарай для шарабана, – Александр Коноплев, властелин над курсивами и эльзевирами, человек вдохновенный и невероятно дотошный, создал каталог, "какого еще не было", ибо это каталог не только выставки, но, пожалуй, жизни Мессерера, с листов коего говорят свое фотографии, и свое – строки поэтов и совсем свое – спокойно, уверенно и вдохновенно – голос протагониста этого издания – his masters voice!
А типографы-немцы сделали столько прогонов в своих типографских стуслах, сколько положено, и все цвета у них совпали, а все оттенки получились.
АЛЕКСЕЙ БАТАШЕВ
В мутном море советского житья, каковое "морщил" висельной веревкой тоталитарный Балда, при том что усилиями холуев и лакировщиков оно представлялось благолепной сверкающей лужей, хотя гнили в нем сплошь огрызки недосведений, недострастей и недосудеб, в послевоенные годы под одиночные синкопы и щенячий голос саксофона, прорвавшиеся сквозь глушилки, стало что-то створаживаться, какое-то смелое знание и познание. Появились некие мальчики хоть и с восторженным, но недоверчивым взглядом, на которых уже не было управы, – смешно одетые жертвы комсомольских проработок.
Нынешние смешно одетые мальчики, на которых нет управы, даже не представляют, насколько они тусклей и безуспешней, ибо те, послевоенные, стали по крупицам отмывать на крохотных своих отмелях золотой песок, ловить в мутной Гераклитовой воде рыбку (тоже золотую!) и становиться поводырями в Неокаянные Дни.
Это следует сказать и об Алексее Баташове (в данном же случае именно о нем), ибо в нашей с вами сказке Гаммельнский флейтщик не увел, а вывел детей из заполоненного крысами города. А потом... верней, а теперь этот элегантный и обходительный, очень симпатичный и очень вдохновенный человек, столько порассказавший нам о джазе и людях джаза, взял и написал занимательнейшую книгу...
Мы всегда доверялись его таланту и обаянию. Доверимся и сейчас.
МАРК ФРЕЙДКИН
Когда мы с Марком Фрейдкиным оказываемся рядом, людям кажется, что мы Лучано Поваротти и Пласидо Доминго. Я – Лучано Поваротти, он – Пласидо Доминго. Насчет меня народ ошибается явно, насчет Марка Фрейдкина – отчасти, ибо Марк все-таки поет. В сопровождении превосходного оркестрика, изредка потряхивая маракасами или стукая по чемодану, но поет.
И куда там вышеупомянутому Пласидо! Столь негромким и грустным голосом тому не спеть ни за что. А Марк Фрейдкин, он же вдобавок поет песни свои и, как их лучше спеть, очень хорошо знает.
Иначе говоря – поет поэт. И уже сама эта дефиниция звучит красиво.
А знаю я Марка Фрейдкина и как поэта, и как прозаика, и как переводчика. Все, что он делает, всегда в цеховом смысле весьма примечательно, потому что он человек не простой, а даровитый и самодостаточный. Из слов нашего с вами языка, из которых многим не удается составить ничего путного, он, обладая безусловным вкусом к изощренному, а также искусному сочинительству, составляет завершенные композиции, что особенно важно в переводах. Мне, много в жизни напереводившемуся, отчетливо видно, как высококачественно он перевоплощает в родимый стих сложнейшие французские строфы, буквально их клонируя.
Можно, удивляясь, порассуждать и о его книгоиздательском поприще, и о стезе "книгопродавца" (дефиниция пушкинская). И при этом не ошибиться, ибо лавка в Первом Казачьем навсегда останется в нашей культурной истории, как, скажем, остались смирдинская и сытинская. Поэтому, когда я слышу всем известное "Разговор книгопродавца с поэтом", мне тотчас представляется, как Марк Фрейдкин, по своему обыкновению, тихо и меланхолически разговаривает, но с самим собой...
"ЭРИКА" ПРЕКРАСНАЯ
В поликлинике громадный хирург, нет чтобы оглядеть мою коленку, поинтересовался сперва моей профессией, достал откуда-то общую тетрадку и, почему-то спросив "машинку "Эрика" знаете?", принялся надменно читать: ""Эрика" прекрасная, как зорька летом ясная!.." Тетрадочная ода машинке, красиво с применением черно-красной ленты отпечатанная, застряла в моей памяти навсегда...
Целый век поэты доверяли им душу, милиция – протоколы, канцеляристы волокиту. Еще вчера на "Немецкой волне" веселый степ клавиш, каретки и звоночков был клевой заставкой, но впредь, увы, не будет и наверняка никого уже не ошарашит концерт для машинки с оркестром эстонца Эркки-Свена Тюйра, ибо эпатажная солистка вскорости стала, пожалуй, допотопней музыкального орудия серпент.
Вот и моя лежит в глухом шкафу, в последний раз обслуженная семь лет назад скрупулезным Юрием Петровичем, сыскавшим к ней шрифт, звавшийся меж мастеров "крестик". В баульчике же, оклеенном тускло-зеленой рябенькой бумагой, упокоилась другая... Да-да! "Эрика"! И не пластмассовая времен упадка, а М-10! Великая гэдээровская модель, во мнении знатоков лучшая из всех, какие в начале шестидесятых появились на улице Кирова, – "Райнметаль", "Колибри", "Оптима"...
А другой безупречный специалист, элегантный, как эсквайр, Илья Самойлович, стоял в магазине на Пушкинской, заранее подавшись в сторону пока еще ехавшего в метро клиента...
Но по порядку. Как внукам о минувшем. Сперва в последнюю треть прошлого века американские механики измыслили все выдуманные в будущем типы машинок. Потом (по Брокгаузу) "в 1870 году русский изобретатель Алисов устроил пишущую машину на совершенно иных принципах... Она получила премии на многих выставках, но в ход не пошла...". Когда автор "в 1877 году получил первую партию, их приравняли к типографским по отношению к соблюдению цензурных постановлений... Посему никто не захотел их приобретать...".
Потом – "ремингтонная" у Льва Толстого, ибо вещие слова яснополянского старца перебеливала не только Софья Андреевна.
Потом "ундервуды" – вундеркинды советских контор и НЭПа.
Потом из воссоединившегося Львова некто привез в Москву партию товара с библейским шрифтом. Счастливые покупатели сменили соломоновы буквы на кириллицу и уселись печатать. Но не тут-то было. Каретки у товара ездили в нерусскую сторону.
Народ, однако, не остыл. А между тем всякую машинку велели регистрировать и на крупный шрифт получать разрешение, так что, помня, отчего Алисов опустил руки, опустим их тоже.
Потом уезжали дочери Михоэлса и уступили мне сберегавшуюся для внучки "Колибри" с французским шрифтом, каковую обрусил все тот же Илья Самойлович. И хотя у него уже от старости дрожали руки, сделано было все как надо, правда, для какой-то литеры (а какой, уже и спросить не у кого) пришлось пойти на черную кнопку – темно-зеленой было не сыскать.
Потом на славу потрудились Бравшие Пять Копий. Но кого теперь интересует самиздат?
Потом уезжавший Аксенов оставил Белле Ахмадулиной некое портативное чудо, мечту всякого дышащего и пишущего, и наконец под занавес явилось одно из величайших измышлений человечества – белая забивающая копирка.
Как же самозабвенно послужил нам великий механизм! Как хотел, чтобы попользовались от его рычажков! Увы, издерганные машинистки, отстукивая абзацы, так и не освоили даже табулятор... Пренебрегли они и упором страницы, ставя на каждой закладке глупый крестик. А тут еще родимая промышленность за почти столетие опросталась всего лишь консервно-баночной "Москвой"...
Но всё. Они уходят. Как паровозы и голубиная почта. Осталась индийская копирка и дефицитная лента. Лежат теперь сохнут. А я сочиняю реквием. Правильней бы отстукать его на ней же. Но где там! Отвык.
А ее под конец обобрали. Компьютер прикарманил клавиатуру, причем порождение прагматического времени, – наплевав на привилегию хранителей человеческой интонации – знаков препинания, без верхнего регистра стал набирать цифры.
Но я-то у себя всё переустановил как было.
КУПОРОСИТЬ НАДО
Халявой в малярном деле зовут маховую кисть на длинном черенке, каковою с пола или с подмостей белят потолки. Кроме нее в ходу торцовки, ручники, разные флейцы, и нормальный маляр возьмется всегда за кисть какую нужно. Но если ему лень или почему-то неохота (лишнюю кисть придется мыть), то, для отвода глаз заявив: "Купоросить надо, хозяйка!" – он станет орудовать кистью одной: скажем, в самом небрежном варианте – халявой. Отсюда – "делать на халяву", то есть нагло нарушать вековечную технологию. Эти вольности влекут извращение трудового навыка и деградацию ремесла. Следствием таковых деградаций бывает упадок материальной культуры, и на Русь приходится звать немцев.
Иное дело – искусство. Тут своеволие является желанным дополнением трудового порыва, иначе говоря, вдохновения. Сумма приемов – ремесло и сумма вымыслов – искусство когда-то были неразделимы; мастеровой считался равнозначен художнику, а талант – владению секретами технологии. Однако в новейшей истории связь осталась разве что на первичном уровне (загрунтовать холст, правильной методой из музыкального орудия извлечь звук, отчетливо сказать сценический текст).
Насчет последнего – хуже некуда. Наши актеры внятно текст не произносят. Они мордуются над переживанием. Скажем, актрисы прижимают для выразительности чувств стиснутые кулачки к декольте. Почти все.
Завидев кулачки, я ухожу со спектакля.
Помня, что креативная натура придана человеку лишь по образу и подобию, но сам он в возможностях не равен Творцу, можно все же дерзко предположить, что оба сопоставимы в пылкости намерений и в творческом порыве. А значит, искусство (искус, искушение) есть покусительство на создание несуществующей параллельной реальности.
Для такой блажи у человека тьма побуждений, включая природные. Скажем, любовь.
Охваченный страстью человек весьма неадекватен самому себе обычному и не влюбленному. Наладившись мыслить образами, далекими от реальности и собственных возможностей, когда мир не столько видится, сколько мерещится, человек ищет воплощений своему состоянию и, желая приноровиться, вовлекает слова в стихи, движения в танец, голосу придает распевность, которая лучше всего получается в музыкальном свершении, и т. п.
Мастеровой – дело другое. "Поскольку заливает стеарин не мысли о вещах, но сами вещи", изготовителю вещей сказанные фанаберии чужды. Его заботит, чтобы работа спорилась, ладилась и была долговечна, что гарантируется умением, если ты хорошо выучен, тщанием, если долготерпелив, и строгим соблюдением цеховых правил, если неукоснителен.
И все-таки общее у ремесленника с художником есть. Скажем, творческое отупение, то есть ограниченность количества энергии на единицу свершения.
Мой сосед, о котором уже было сказано, – часовой мастер старинной выучки Михаил Борисович, умел изготовить любую часовую деталь. Даже крохотное колесико для дамских часиков. Делалось это так: от бронзового стержня с нафрезерованными каннелюрами и диаметром с будущее колесико отрезалась, словно тоненький ломтик колбасы, заготовка, получавшаяся сразу с зубцами. Потом, что надо, протачивалось, дотачивалось, шлифовалось. Труд неописуемый...
– А сколько таких можно сделать за день? – спросил я.
– Одно, – ответил Михаил Борисович.
Так что, если у художника изначальна поэтизация намерения, тут единственно возможная поэтизация – элегический восторг свершения.
В брошюрке по ремеслам, какие бессчетно печатались когда-то для остепенения простонародья, а именно в книжице "РЕМЕСЛЕННИКЪ", составленной А. П. Классеном (уж не немцем ли?), а изданной книгопродавцем И. Л. Тузовым в С.-Петербурге в 1880 году, читаем:
"... У всех туфлей подошва делается самая тонкая и мягкая и пришивается к передку и задку, сшитым вместе и натянутым изнанкой на колодку. Края обшиваются ленточкой, а передок вырезывается с выемками или фестонами. Зимния туфли выкладываются пухом или дорогим мехом, как, например, соболь, горностай и пр. Этот род обуви чрезвычайно любим дамами, и ему должно отдать справедливость в легкости, удобности и красоте. Туфля снимается и надевается простым движением ноги, которую не только не отягощает, но значительно успокоивает. К тому же она выставляет лучше всякой другой обуви красивую форму и уютные размеры женской ножки, столь уважаемой эстетиками всех времен, начиная с Анакреона до Пушкина включительно".
Выходит, если соблюсти что положено (то есть, отложив когда надо халяву, взяться за флейц), можно закурить и оглядеть дело рук своих, и полюбоваться им, и подышать на поверхность, и протереть еще разок...
Мастеровой, сделав свое, отдыхает. Художник не успокаивается: "не спи, не спи, художник!" – а он и так не спит, хотя принимает транквилизаторы, а то и нейролептики...
Все сказанное спорно и во многом надуманно. И вы резонно возразите: а как же "...ай да Пушкин, ай да сукин сын!", восклицаемое помянутым, закончившим "Бориса Годунова" и довольным собой Пушкиным? Правильно. Оно так. Но это не значит, что, дохнув на рукопись и протерев ее рукавом, Пушкин раскурил кальян. Сколько он еще подбегал к рукописи и сколько потом, мучая текст (который впоследствии загробят актеры), не предавался сну, пушкинистам, полагаю, известно.
– Как же так? – не унимаетесь вы. – "И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма... И совершил Бог к седьмому дню дела Свои... и почил в день седьмый от всех дел Своих..." Разве же Создатель – не творец? Разве не залюбовался? Разве не Божественный перекур?
И мне вам нечего будет возразить.
Но я уверен, что Предвечный Мастер Первопричины технологию соблюдал неукоснительно.
III
ДЛЯ ОБОДРЕНИЯ СЕРДЕЦ
Советский фольклор сочиняли обычно литературные пройдохи. Подлинным его образчиком (кроме частушек и анекдотов) я считал только загадку "Сидит черт в стакане, играет тремя цветами" (милиционер). Но сказочников знал. Двоих.
...Вот еду я в окраинную школу от Бюро пропаганды, дабы заработать за выступление семь рублей пятьдесят копеек и неминуемо посадить голос, так как вместо оговоренных четырех третьих классов пригонят шесть первых, а учительницы станут врать, что "все-все дети хотели послушать вашу лекцию". Трамвай заиндевелый и пустой, а позади пожилая женщина рассказывает внуку сочиняемую на ходу, поразительную сказку про бычка, назначенного для сдачи в колхоз, и воробышка, упасшего беднягу от мясозаготовок. "Исщипал воробей носик бычку, а учетчики пришли, увидели бычок болявый и ушли..." А мне уже пора было сходить, и трамвай укатил по красивому снежному косогору...
Не будем путать сказку с байкой, каковая всего лишь – неправдоподобный сюжет. Когда, к примеру, в каком-нибудь городе появляется метро, горожане сразу божатся, что видели на эскалаторе полковника, а за ним бабку с корытом. Упущенное бабкой корыто подсекло полковника под коленки, и тот, держась за собственную папаху, полетел в корыте вниз... Или вовсе ужас: степь, стужа, шофер меняет колесо. Вдруг его рука застревает в домкрате. Помощи ниоткуда, кореша с автоколонны уже за горизонтом, и, чтоб не заколеть, он отгрызает себе кисть...
Байками нас морочат, но веселят; сказками дурачат, но тешат; мифами информируют и надувают – они всегда версия.
Примером возьмем Генриха Сенкевича, большого писателя и мифотворца. Его "Огнем и мечом", "Потоп" и "Пана Володыевского" зачитывали до дыр. Полякам не вполне точный исторический фон романов импонировал (украинским мифотворцам события "Огнем и мечом", наоборот, нет). Современниками триумфа вальтер-скоттовской этой музы были, кстати, Толстой и Достоевский. Но польский маэстро знал что делал. Родина его была разодрана на части, и писал он "для ободрения сердец...".
Чех Вацлав Ганка тоже ободрял сердца и, подгоняя начатки чешской культуры к временам "Слова о полку Игореве", взял и сочинил знаменитые Краледворскую и Зеленогурскую рукописи. "Побудить Ганку к фальсификациям могла... исключительно любовь к родине, желание показать, что Чехия была культурною страною уже в отдаленнейшия эпохи... Эта патриотическая цель была вполне достигнута, и всеобщий восторг, вызванный обнародованием "Краледворской рукописи", справедливо считается одним из важнейших моментов в истории чешского возрождения", – обинуется Брокгауз и Ефрон. Ганку при жизни разоблачили. Даже дознались, какой древний текст он соскреб, чтоб вписать пленительные выдумки. За гробом его шла со свечками вся Прага.
Но сказка – она и так параллельна жизни и местообитанию этноса. Она самоволка из уготованной участи. Для детишек же (самых подневольных существ) она – ярлык на свободу воли.
...Второй сказитель жил там, где дома вползали на новоафонскую гору, комната стоила семьдесят копеек в день, а во дворе вопила на русско-кавказском суржике тьма разноплеменных детей, живших в состоянии дружбы народов... Ашотик, отрешенный Ашотик, покормленный мамой, выйдя во двор, начинал бормотать как минимум "Энеиду", а зловредная Анаидка теребила его: "Ашотик, Ашотик! Давай прыгать кто выше!" "Погоди, Анаидка, погоди..." И заслонялся, и, торопливо бормотал свои небылицы маленький и невероятный мальчик...
А внизу был двор, где обитала обижаемая мужчинами в больших кепках мать множества детей от разных народов, русская женщина Симаха. Расставив руки, ступала она за слитно гомонившими гусями. "Хуси! Хуси! – направляла она распятыми своими руками гогочущую ораву. – Хуси! Хуси! – льстиво уговаривала она. – Лебедяты!.. – и вдруг: – У етит твою!" – это гусак в который раз увел мимо калитки дурацких птиц...
Копеечное курортное житье, дворовая куча мала народов, вдохновенный Ашотик – давно уже тоже сказка с надлежащим зачином "в некотором царстве, в некотором государстве...".
У МОЕГО ТОВАРИЩА ВЫШЛА КНИГА
Среди множества коллекционерских пристрастий существует одно почти напрасное увлечение – собирание стеклянных тростей. Напрасное оно потому, что коллекционного объекта как бы не существует, а не существует его потому, что трости эти изготовлялись, дабы непременно быть разбитыми. В некоей церемонии посвящения посвящаемого ударяли тростью по плечу, и она раскалывалась. Уцелевших экземпляров поэтому сохраниться не могло. Однако по разным причинам кое-что сбереглось, и нашлись чудаки, курьезный предмет собирающие.
Мой товарищ и вовсе сумасброд: он собирает как раз осколки – коллекцию чего-то когда-то сверкавшего и, как стеклянная трость, бессмысленного. Мусор времени. Точнее, мусор безвременья. Сперва он свой опыт, и наш с вами опыт, и опыт осквернителей нашей с вами юности составил в пьесу "Взрослая дочь молодого человека", осуществленную в театре блестящим Анатолием Васильевым и разыгранную замечательными актерами, а сейчас, добавив к ней историю вопроса и разную труху нашей с вами жизни, всё издал в виде книги, заметив, однако, на странице двести пятнадцатой: "Каждый из моих коллег... может привести нечто подобное из своей практики".
И замешанные в события ушедшей жизни современники коллекционера, а таких немало, с готовностью свидетельствуют, например, как ученик школы №287 Жора Гаранян (будущий Георгий Гаранян), замечательно игравший на рояле (саксофон появится потом, когда Жора станет студентом Станкоинструментального института), отогревал пальцы с мороза, прежде чем сыграть ученикам школы №277, куда его умолили прийти на вечер, а также приглашенным на этот вечер ученицам уже не помню какой школы вымечтанное и запрещенное "Сан-Луи".
А отвага ношения темных очков! Чего только не претерпевал щеголявший первыми очковыми переплетами, наглухо застекленными каким-то кавказским кустарем! "Зачем на курорт едешь, если слепой?" – не смолкал комментарий встречных ближних, готовых к воспитательному мордобою. А как ловили то ли на Иловайской, то ли на Харцызской (сейчас уже не вспомнить, на какой жаркой станции по дороге с Юга) местные кривоногие комсомольцы девушек, осмеливавшихся носить брюки, выскочивших из поезда съесть борщ (была такая железнодорожная форма питания – сопящий паровоз еще подволакивал поезд, а на перроне, на столах уже был разлит по тарелкам борщ, лежал хлеб и ложки. Пассажир борщ съедал, платил и ехал дальше). Как же эти харцызские савонаролы глумились над пойманными и задерживали даже отправление поезда, а девушки рыдали и бились в их красноповязочных руках. О нынешние прелестницы, облекающие свои бедра немыслимыми леггинсами, дольчиками и стрейчами, поклонитесь своим заплаканным сестрам, поставьте за них свечки, причем сделайте это в соборе Ново-Афонского монастыря, то есть в бывшем санатории №3, где происходили главные курортные танцы, где в росписи Нестерова были вколочены большие гвозди для объявлений об экскурсиях и процедурах, где на все это непотребство взирала Валаамова ослица, написанная столь искусно, что откуда бы на нее не поглядеть, она следила за тобой взглядом, как героиня плаката "Родина-мать зовет!", и где до сих пор никак не поймают меня дружинники за первое на этой самой Родине ношение рубашки навыпуск. Останки свободолюбивой рубашки можно обозреть хоть сейчас: они у меня в багажнике и служат для протирания лобового стекла.
Но что все это было? Неужели бунт? Можно считать и так. Однако мне сдается, что была это всего-навсего молодость. А молодость – насчет времяпрепровождения, одежды и повадок первая смутьянка. Природа предписала ей обновлять жизнь. Вопреки всему. Везде и всегда. И тогда, когда было сказано: "Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости во дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и по видению очей твоих..." И тогда, когда молодые Антинои появлялись на форуме, предосудительным образом закинув на плечо конец тоги, и когда Рафаэль разгуливал в невероятных одеяниях, и – в николаевскую эпоху, когда ловили на Невском молодых щеголей, раздражавших государя бритьем лица. Блюстители нравов не дремали всегда. Но всегда и всюду речь шла только о благопристойности, а на франтов, модников, пижонов и денди всех собак всего лишь вешали. И только в нашей, отдельно взятой за горло стране угрожающе заменили благопристойность благонадежностью, а всех собак на пижонов спустили.
Вот поэтому-то под одеялом у молодой особи стало происходить нечто странное: маленький танковый трофейный приемник – чудо техники, возрожденное умельцем соседом, – ловил вожделенный джаз, и про занятие это никто не должен был знать, ибо для совиного времени оно было наихудшим из всего, что может совершаться под одеялом в пубертатном возрасте.
Однако ошибочно думать, что завоевывалась новая духовность. Танцы, одежда и необширный сленг – все выглядело довольно скудно, ибо зеркально к всеобщему одичанию. Примитивность идеалов и ритуалов тогдашней фронды очевидна, что замечательно обнаруживает ее фольклор, приведенный в книге моего товарища. Ужас охватывает по поводу песенок и разных рифмованных прибауток. Даже маниакальные туристские камлания у костров про "струйки мутные так медленно стекают" или насчет того, что "это был не мой чемоданчик", дают им сто очков вперед, а ведь туристы по сравнению с нашими щеглами бесцветнее воробья, как по виду, так и по полету.
Получалось же все столь недоразвито, потому что мы были искусственниками, отлученными от груди упраздненной культуры, причем необходимого детского питания нам не полагалось тоже.
Любопытно, что процент доброкачественных особей в получившемся захолустном подвиде оказался, в общем-то, стандартным для любого времени, однако эти, пройдя через мишурную стадию боевой окраски и ритуального танца, для своего становления совершили нечто позначительней: сломали жесткий советский стандарт – назначаемую Родиной послеинститутскую пожизненную трудовую повинность, – сменив профессию на призвание. К примеру, помянутый Гаранян или Алексей Козлов и еще многие, коих, в общем-то, не так уж и много...
"Если в юности я имел сильного врага, значит, я сам был сильным..." заявляет беспутный Бэмс на шестьдесят третьей странице. Увы, Бэмс, ты был не сильным, а стильным. Но зато мог стать – ссыльным. Вот и скажи спасибо судьбе, что получил возможность разглядеть, оглянувшись, как твою поруганную молодость волокут сквозь строй. Самый передовой в мире.
А вообще, были ли мальчики-то? Были. Сплыли? Сплыли. Кроме, как сказано, считанных. Среди каковых – Виктор Славкин, подаривший нас книгой "Памятник неизвестному стиляге", написанной в редчайшем жанре приглашения к танцу – Begin the Beguine.
МУЗА ЧЛЕНА СОЮЗА
В переделкинском Доме творчества ослепший в войну поэт знал наизусть все тропинки, повороты, ступеньки и селился всегда в одной и той же комнате. Однажды мне довелось увидеть, как поэт вернулся с вечерней прогулки. Отворив дверь, он не сделал того, что делает каждый, – не зажег света. В комнатной тьме поэт снял шапку, пальто, размотал шарф и пошел к письменному столу рифмовать отголоски своей зрячей памяти...
Искусства полагаются в первую очередь на органы чувств: балет и живопись создаются зрячими для зрячих, музыка пишется не для глухих и только литература чуть ли не стопроцентный клиент подсознания, каковое у поэтов особенно изощрено. Но как его отголоски воплотить в образы, если налицо явный дефицит единственно необходимых слов? Для обозначения, к примеру, оттенков зеленого в русском языке наберется три-четыре именования, меж тем как у жителя джунглей таких слов – десятки. У эскимоса уйма лексики для нюансов белого. У нас с вами – почти ничего, хотя и мы подмечаем все оттенки снега. Вообще – в любом языке! – не хватает миллиардов слов для миллиардов ощущений и состояний, иначе довольно было бы соответствующего словца, и отголосок подкорки о предзакатном, скажем, часе в тихой беседке рядом с Нею, шуршащей шелками или прижавшейся к вам после ночного купания, передался бы читателю. Но такого единственного слова нет, и поэтому припадают к иносказанию. Это очень схоже с птичьим пением – весенние радость и любовь записаны природой на малюсенькую кассету в птичьем горлышке (у каждой птицы на свой лад) и возвещаются, возвещаются, возвещаются... Нам таких кассет не дано, и остается все протоколировать метафорой – наместницей единственно точного слова...
В безъязычье выручает еще и заклинание. Им пользуется поэзия рефлексивная, в расхожем виде именуемая гражданской, а в совсем приземленном варианте – сортирным стихом и политическими или рекламными рифмами. Например: "У меня большое горе./ Может быть, повешусь вскоре./ Однако, тем не менее,/ Охотно ем пельмени я!" (текст и курсив мой. – А. Э.). Заклятью не возразишь, противопоставить ему нечего. Одна барышня когда-то меня здорово поставила на место, сказав: "А моя подруга была в одной компании с Аркановым!" Мог ли я после такого отдуплиться своим приятельством с великим Аркановым, однажды даже занявшим у меня в буфете рубль (потом, ясное дело, отдавшим)?.. Конечно, не мог, ибо моя знакомая владела мантрой, а я фактом. Да чего там! Возьмем "я тебя люблю!" – древнейшее из уверений, покрывающее любое лукавство и вранье, и настолько убедительное, что непроизнесение его лихорадит даже самую нежную и долгую связь, а произнесение имеет силу нотариального акта.
Но при чем тут единственно точное слово, если сочиняющему плевать на подсознание, а стихи, – как говорил муж одной поэтессы, – у Светланы полились, а рука у стихотворцев набита, а мы с вами – всего лишь любители поэзии! У сочинителей же – слог, намеки, образы, парафразы, параллели. У кое-кого – угол зрения. У совсем кое-кого – даже точка зрения.
Как тут быть нам?
Мы же растеряны, нам ведь никак не разобраться в завораживающей этой белиберде?
Поэтому предлагаю простейший тест. Помните: "и празднословный, и лукавый"? Помните – о Ленском: "так он писал темно и вяло"? Вот и действуйте по схеме: празднословно? лукаво? темно? вяло? Потом спасибо скажете.
Но если поэт читает вслух и экспертизу провести не поспеваешь, тогда вообразите, что к нему явилась Муза. Буквально. В прозрачных одеждах, с персями и ланитами.
Как он себя поведет? Предложит вина? Пива с воблой? Поставит пельмени или музыку (Вивальди? Шуфутинского?), оробеет или станет валить гостью на не застилавшуюся с 8-го Марта постель?
Словом, как вообразите, так и судите.
И это – наша с вами простенькая метафора для уяснения прав Бубнящего С Эстрады потрясать нашу душу или сотрясать воздух вообще.
ОНА – ПОПРОСТУ СОВЕРШЕННАЯ
"Случиться могло./ Случиться должно было./ Случилось раньше. Позже./ Ближе. Дальше./ Случилось – да не с тобой". Это из стихотворения Виславы Шимборской "Всякий случай" и – конечно – не о Нобелевской премии.
И однако – случилось! Краковская Поэтесса в нобелевских лаврах потрясающая новость!
Лет сорок пять назад Ахматова переложила три ее стихотворения*, и хотя слава молодой сочинительницы была еще впереди, Ахматова знала, что делала. Знал, что делаю, и я, всю свою литературную жизнь переводя Шимборскую.
В сопредельных поэзиях – польской и русской – схожие дарования обнаружить легко, но есть голоса одинокие. Шимборская – из них. Никого созвучного ей у нас нет.
Начав публиковаться в конце сороковых, первыми книжками она читателей не поразила. Но потом что ни сборник – шедевр и событие. Увы, в СССР печатать ее не торопились. Не советовали "польские друзья" – стая холуев, евших с руки в советском посольстве. Да и поэтесса вела себя в ПНР строптиво, так что кураторы из ЦК, взвинченные "друзьями", при ее имени багровели, а журнал "Иностранная литература", публикуя смутьянку, совершал почти подвиг.