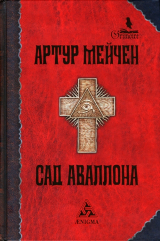
Текст книги "Сад Аваллона"
Автор книги: Артур Мэйчен
Жанр:
Ужасы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 43 страниц)
– Эй, Луциан, где ты купил эту ленточку?
– Замечательная ленточка! – тут же подхватил второй, судя по всему гость. – Не иначе как с котенка снял.
Потом они затеяли игру в крикет, и Луциан сразу же выбыл и, по единодушному приговору «юных джентельменов», осрамился так, что остаток дня вынужден был играть на подхвате. Когда Луциан пропустил мяч – довольно трудный, – его сверстник Артур Диксон, наплевав на все законы гостеприимства, обозвал юного Тейлора глупой скотиной. После пропуска еще нескольких мячей – которые, по словам Эдварда Диксона, взял бы и годовалый младенец – Луциан совсем расстроился и бессильно опустил руки. Наконец все единодушно объявили, что именно по его вине игра расстроилась, и тринадцатилетний Эдвард Диксон, розовощекий, рослый, с глазами навыкате, вызвал Луциана за это на драку. К возмущению присутствующих, Луциан трусливо отказался. Один из гостей, странноватый мальчик по имени Де Карти, не забывавший при каждом удобном случае намекать на свое родство с лордом Де Карти, громогласно заявил, что ему противно стоять рядом с таким трусом. В том же духе, мирно и ко всеобщему удовольствию, прошел остаток дня, и наконец всех позвали пить бесцветный чай с домашним кексом и незрелыми сливами. После чая Луциану позволили уйти, и он услышал за спиной прощальную реплику Де Карти:
– У нас дома мы привыкли одеваться хорошо. Его отец, наверное, совсем обнищал, раз выпускает отпрыска из дома в таком виде. Вы не заметили, что у него штаны сзади совсем вытерлись? А что, старого Тейлора считают здесь за джентльмена?
Луциан провел день в изысканном обществе, но, покинув жилище викария, испытал великое облегчение и отправился домой, наблюдая, как поднимающийся от реки туман смешивается с дымком, нависшим над черепичными крышами маленького городка, некогда прославленной столицы Силурии[215]215
Столицей Силурии был город Iska Silurum (Иска Силурийская), ныне Карлион‑на‑Аске в южном Уэльсе. В этом городе родился Артур Мейчен. По преданию, Карлион возник на месте легендарного Камелота короля Артура.
[Закрыть]. Сверху были видны пасшиеся на лугу лошади и свет в окошках прижавшихся к склону горы коттеджей. Перед Луцианом лежала вытянутая уютная долина, очертания которой таяли в сумерках, пока совсем не стемнело и видимой осталась лишь темная кромка леса. Было приятно идти по наполненной таинственными запахами долине, угадывая в темноте очертания домов и скрытые под покровом ночи леса и поляны. Теплый ветер доносил до Луциана сладкий аромат трав, росших на лугу у ручья; иногда мимо пролетала спешившая домой пчела, жужжание которой напоминало далекий орган; из глубины леса слышалось уханье сов; странные, чуждые голоса леса перемешивались с таинственными звуками и шорохами ночи. Сквозь пелену облаков выглядывала луна – словно огромный золотой фонарь, который время от времени вывешивали прямо над его головой, а в деревянной изгороди зеленовато мерцали светлячки. Луциан шел медленно, благоговея перед этой красотой: ночной пейзаж казался ему прекрасным и волшебным, будто полумрак большого собора. Он совсем забыл и «юных джентльменов» и их насмешки и жалел лишь о том, что не владеет словом или кистью, чтобы передать очарование этой тропы, сиявшей и переливавшейся в лунном свете.
– Надеюсь, ты хорошо провел день? – спросил его отец.
– Дорога домой была просто великолепна. А днем мы играли в крикет. Не могу сказать, чтобы мне это сильно понравилось. Там был мальчик по имени Де Карта – сейчас гостит у Диксонов. Когда миссис Диксон разливала чай, она шепнула мне, что он двоюродный племянник лорда Де Карти, и голос у нее при этом был такой торжественный, словно она молилась.
Отец усмехнулся и раскурил свою старую трубку.
– Прадедушка барона Де Карти был судьей в Дублине, сказал мистер Тейлор. – Его звали Иеремия Маккарти. Неблагодарные сограждане называли его Судьей Неправедным, или еще того лучше – Кровавым Судьей. Я слышал, что призывы повесить Маккарти звучали довольно громко все время, пока обсуждался вопрос об Унии[216]216
Имеется в виду уния (объединение) Англии и Шотландии в 1707 г. при королеве Анне Стюарт (Anne Stuart; 1665‑1714, английская королева с 1702 г., последняя из династии Стюартов).
[Закрыть].
Отец Луциана читал много и беспорядочно, но память у него была на редкость цепкая. Оставалось только удивляться, почему он так и не сделал карьеры. Однажды мистер Тейлор рассказал Диксону об очень смешном, буквально анекдотическом приключении, случившемся с их местным епископом в студенческие годы, – до сих пор он не мог взять в толк, почему этот самый епископ вдруг охладел к нему. Кто‑то объяснил мистеру Тейлору, что епископу не нравится его манера сжигать в церкви целую кучу свечей, но это, конечно, была сплошная глупость, поскольку достопочтенный Смоллвуд Стэффорд, сын лорда Бимиса, пекшийся о душах прихожан в главном городском соборе, жег гораздо больше свечей, а с ним епископ состоял в наилучших отношениях и даже гостил в его родовом замке Копси‑Холле, что к западу от Каэрмаена.
Луциан нарочно упомянул имя Де Карти, передразнив и даже преувеличив торжественные нотки в голосе миссис Диксон. Он знал, что это развеселит отца, имевшего довольно своеобразный взгляд на некоторые вещи, что, по мнению многих, было абсолютно неприемлемо для священника. Отсутствие почтения к столь серьезным вещам объединяло отца и сына, но отгораживало их от остальных. Многие с удовольствием пригласили бы мистера Тейлора на чай, вечеринку в саду или еще какое‑либо незатейливое мероприятие, но уж очень странным он был человеком – человеком крайностей. В самом деле, в прошлом году, когда мистер Тейлор, будучи приглашенным на чай, посетил замок в Каэрмаене, он принялся так неприлично потешаться над посланием епископа к миссионерам в Португалии, что находившиеся там же Диксоны, да и все прочие, кто его слышал, не знали, куда глаза девать. К тому же, как заметила миссис Мейрик, его черное пальто уже просто позеленело от старости. Словом, Джервейзы, пригласившие мистера Тейлора на то памятное чаепитие, больше его к себе не звали. Что же касается Луциана, то кому вообще нужен этот мальчик? Миссис Диксон, по ее собственному признанию, пригласила его исключительно из христианского милосердия.
– Боюсь, ему нечасто приходится есть досыта, – объясняла она своему супругу. – Я думала, ему пойдет на пользу чашка хорошего чая с пирогом. Но этот мальчик так нелеп – он взял только один кусочек великолепного домашнего кекса и, несмотря на все мои уговоры, съел всего лишь пару слив. Прекрасные, спелые сливы! Дети обычно так любят фрукты.
Никому не нужный, Луциан проводил каникулы в одиночестве, наслаждаясь спелыми грушами, которые росли вдоль южной стены отцовского сада. Был там такой особый уголок, где августовская жара, словно зажатая между стен, казалась еще сильнее. Туда‑то Луциан и забирался по утрам, когда в долине еще висел густой туман, там он бродил между деревьями и «околачивался», то есть мечтал, укрывшись за стенами, сложенными из мягкого кирпича. Его переполняли изумление, страх и радость, он хотел остаться в одиночестве, чтобы снова и снова возвращаться мысленно к тому дню в крепости. Несмотря на все усилия, воспоминание это поблекло. Луциан уже не понимал, что так испугало его и заставило мчаться сломя голову сквозь лес вниз с горы, но физический стыд был еще жив – тот стыд, который он испытал, проснувшись и увидев свое обнаженное тело. Он до сих пор содрогался при этом воспоминании, словно и впрямь совершил нечто дурное. Его преследовали два видения – обнаженный фавн, чья плоть сияла на солнце, и жалкий, пристыженный мальчишка, трясущимися руками собиравший свою одежду. Все перемешалось в его сознании, образы потеряли четкость, но, как и прежде, то наполняли его исступленной радостью, то повергали в отчаяние и стыд, и все происшедшее снова казалось ему нереальным и фантастическим. Он больше не отваживался забираться в крепость и теперь держался той дороги в Каэрмаен, что огибала заветный холм не менее чем за милю – между ней и высокими укреплениями оставался участок заброшенной земли и широкая полоса леса. Однажды Луциан все‑таки дошел до калитки в изгороди и остановился в раздумье, но тут за его спиной раздались тяжелые шаги, и, поспешно обернувшись, он узнал старого Моргана с Белой Фермы.
– Здравствуйте, мастер Луциан, – начал тот. – Надеюсь, мистер Тейлор здоров? Я иду домой: мои работники просят принести в поле еще сидра. Не хотите зайти и выпить кружечку, сэр? В этом году он у меня и вправду очень хорош.
Луциан не любил сидр, но ему не хотелось обижать старого Моргана, и потому он сказал, что выпьет с удовольствием. Морган был невысоким, крепкого сложения фермером из семьи местных старожилов, неизменно и в полном составе являвшихся по воскресеньям в церковь и столь же неизменно начинавших день с крепкого бульона и домашнего сыра. Зимними вечерами они пили горячее ароматное вино, а по праздникам употребляли джин. Ферма испокон веков принадлежала этой семье, и, поднявшись вслед за Морганом на высокое крыльцо, ведущее к вырезанной из дуба двери, войдя в вытянутую, темную кухню, Луциан почувствовал себя словно в семнадцатом веке. В стену было глубоко всажено единственное окно с толстым стеклом и решеткой. Стекло, изукрашенное кругами и завитушками, искажало очертания розового куста под окном, искривляло сад и видневшиеся за ним поля. Потолок подпирали две тяжелые дубовые балки, окрашенные в белый цвет, в большом очаге мерцали последние искры огня, синий дым поднимался из глубины очага в трубу – настоящий домашний очаг далеких предков, по обе стороны от которого стояли глубокие кресла. Здесь можно было прикорнуть в холодную декабрьскую ночь, наслаждаясь покоем, безопасностью и теплом, здесь можно было умиротворенно попивать вино и прислушиваться к прорывающемуся сквозь шорох огня грохоту бури. В стену очага были вделаны почерневшие плиты с инициалами «И.М.» и датой – «1684».
– Садитесь, мастер Луциан, садитесь, сэр, – сказал ему Морган. – Энни! – крикнул фермер, просунув голову в одну из многочисленных дверей. – Тут мастер Луциан, сын пастора, зашел выпить кружку сидра. Принеси‑ка нам кувшин!
– Сейчас, папа, – донесся голос из погреба, и через минуту, обтирая кувшин, в комнату вошла девушка.
Энни Морган волновала Луциана, еще когда он был совсем мальчиком; по воскресеньям он смотрел на нее в церкви, и удивительно бледная кожа Энни, ее блестящие, словно подкрашенные чем‑то губы, черные волосы, бездонные мерцающие глаза, весь ее облик погружал Луциана в странные, ему самому непонятные мечты. Но за последние три года Энни Морган превратилась в настоящую женщину, а он по‑прежнему оставался мальчишкой. Она вошла в кухню, слегка присела и улыбнулась ему.
– Здравствуйте, мастер Луциан. Как поживает мистер Тейлор?
– Спасибо, все в порядке. Надеюсь, у вас тоже все хорошо.
– Все хорошо, сэр, спасибо. Мне очень нравится, как вы поете в церкви. Я еще в прошлое воскресенье сказала об этом папе.
Почувствовав себя неловко, Луциан криво улыбнулся, а девушка поставила кувшин на стол и достала из буфета стакан. Она низко наклонилась над Луцианом, наливая ему густой, зеленоватый, пахнущий летним садом сидр, и, коснувшись его плеча, вежливо извинилась. Он взволнованно взглянул на нее – черные глаза, своим разрезом напоминавшие, миндалины, сияли, а губы смеялись. Простое черное платье, открытое у ворота, позволяло разглядеть прекрасную кожу девушки. На миг Луциан дал волю фантазии, но тут Энни снова присела, подавая ему сидр. Он поблагодарил, и она тут же ответила:
– Пожалуйста, пожалуйста, сэр!
Сидр и вправду был хорош – не слишком жидкий, не слишком сладкий и терпкий, но благородный, ласкающий нёбо напиток, в зелени которого на свету пробегали желтые искры, похожие на луч света, коснувшийся мягкой травы в густой тени старого сада. Луциан осушил стакан с наслаждением, одним глотком, и, похвалив сидр, попросил еще. Морган чрезвычайно обрадовался.
– Я так и знал, что вы понимаете толк в хороших вещах, сэр, – сказал он. – А сидр и вправду хорош, хоть я его и сам сделал. Мой дед посадил яблони во время войны, а уж лучше его никто в то время в яблоках не разбирался. Да и прививки он делал, надо сказать, знаменито. До сих пор ни одной царапинки не найдешь на деревьях, что он прививал. Взять хотя бы Джеймса Морриса из Пенирхола – он тоже в этом толк знал, что и говорить, а всё же на «красно‑полосатых», которые он мне прививал пять лет назад, пониже привоя кора уже вздулась. Как насчет яблочка, мастер Луциан? Там, в погребе, еще остался пепин.
Луциан сказал, что не откажется, и фермер вышел в другую дверь, а Энни осталась на кухне поболтать с гостем. Она сообщила о скором приезде свой замужней сестры миссис Тревор, которая собиралась у них какое‑то время погостить.
– У нее такой красивый малыш, – говорила Энни. – И уже все понимает, хотя ему только девять месяцев. Мэри была бы рада вас повидать, сэр. Может быть, вы окажете нам любезность? Если, конечно, у вас найдется время. Говорят, вы стали уже настоящим ученым, мастер Луциан?
– Спасибо, с учебой у меня вроде бы все в порядке. Этот год я закончил первым в классе.
– Подумать только! Слышишь, па, каким ученым стал мастер Луциан?
– Да уж, он будет ученым, как пить дать, – откликнулся фермер. – Вы, верно, в отца пошли, сэр. Я всегда говорю: что касается проповеди, то тут с нашим пастором никто не сравнится.
После сидра яблоко показалось не таким уж вкусным, но Луциан съел одно, сделав вид, что ему очень нравится, а другое, поблагодарив, положил в карман.
Уходя, он еще раз поблагодарил фермера, а Энни улыбнулась и ласково сказала, что они всегда рады его видеть. Уходя, Луциан слышал, как она говорила отцу, что мастер Луциан стал настоящим джентльменом. По пути домой он размышлял о том, как мила и красива Энни и что бы она сказала, если бы он подстерег и поцеловал ее вечером в долине. Почему‑то ему казалось, что она бы только рассмеялась и произнесла бы что‑нибудь вроде: «О мастер Луциан!»
Еще много месяцев воспоминание о крепости нет‑нет да и возвращалось к Луциану, бросая его то в жар, то в холод, но время все больше и больше размывало эти сладостные и тревожащие образы, пока наконец они не стали принадлежностью той страны чудес, на которую молодость оглядывается в изумлении, не понимая, почему когда‑то эти образы могли вызывать у нее восторг или ужас. В конце каждого семестра Луциан неизменно возвращался домой. Отец становился все мрачнее, все реже и реже оживал хотя бы на минуту, а мебель и обои в гостиной совсем вытерлись и потеряли вид. Обе кошки, столь любимые Луцианом в детстве, умерли одна за другой. Старушка Полли, их верная лошадка, свалилась под бременем лет, и ее пришлось пристрелить. Теперь по знакомым дорогам не проезжала больше старая двуколка. Лужайка заросла высокой травой, и яблони у стены стояли неухоженными. Когда Луциану исполнилось семнадцать, отец забрал его из школы – не было больше возможности платить за обучение. Печальный конец постиг все мечты разорившегося пастора об университетской стипендии, наградах, отличиях и блестящем будущем сына. Теперь отец и сын проводили вечера вместе в старой гостиной у тлеющего очага, наблюдая за тем, как растекается и уходит в небытие время, строя обреченные на провал планы и прекрасно осознавая, что впереди их не ждет ничего, кроме унылой череды лет. Однажды кто‑то из дальних родственников пообещал Луциану помощь, и было решено, что он поедет в Лондон. Мистер Тейлор раззвонил эту великую новость всем своим знакомым (его плащ стал слишком зеленым, чтобы у него еще могли оставаться друзья), да и сам Луциан поделился радостью с семьей доктора Барроу и мистером Диксоном. А когда из этого ничего не вышло, все очень сочувствовали старому священнику и его сыну и наперебой выражали свое сожаление, пряча в глубине души ту звериную радость, какую испытывает большинство людей, видя, как сорвавшийся с горы камень вдруг ненадолго задерживается на краю пропасти (нет, нет, где ему удержаться!), а потом еще стремительнее летит вниз и исчезает на дне поджидающего его озера.
Миссис Колли зашла к миссис Диксон обсудить предстоящее собрание матерей и поведала ей это чрезвычайно приятное известие. Миссис Диксон нянчила маленького Этельвига (примерно так звали сего достойного младенца) и высказала множество тонких соображений по поводу проявившейся в этой истории высшей справедливости. Неудача Луциана превратилась в ее устах прямо‑таки в образчик Божественного Провидения, который хоть сейчас можно было вставлять в «Аналогию» Батлера[217]217
Батлер (Butler), Джозеф (1692‑1752) – английский богослов. Родился в пресвитерианской семье, в молодости обратился в англиканство, был приходским священником, а затем епископом Бристоля (1738) и Дарема (1750); автор «Fifteen Sermous» (1726), «The Analoge of Religion» (1736).
[Закрыть].
– Ведь у мистера Тейлора и в самом деле чересчур крайние взгляды, не правда ли? – заметила она, когда они с мужем садились ужинать.
– Боюсь, что да, – ответил мистер Диксон. – Меня так расстроило его выступление на последнем собрании округа. Бедный старина епископ делал сообщение по поводу тайны исповеди – он был просто обязан это сделать после того, что случилось, – и скажу тебе, я никогда еще не испытывал такой гордости за нашу церковь.
Мистер Диксон с эпическими подробностями изложил все происшедшее на собрании и изобразил в лицах наиболее интересные выступления, восхваляя одних и сожалея по поводу других. По его словам, мистер Тейлор имел наглость процитировать в своем выступлении мнение авторитетов, которым епископ не мог возразить, хотя то, что они говорили, полностью расходилось с весьма разумным суждением самого епископа. Конечно же, миссис Диксон тоже была этим удручена – подумать только, священник вел себя подобным образом!
– Знаешь, дорогой, – заключила она, – я уже думала насчет этого бедолаги, сына Тейлора, и последней его неудачи, а после всего, что ты мне рассказал, я просто уверена, что это Бог наказывает их обоих. Право же, мистер Тейлор совсем забыл обязанности пастыря. Разве я не права, дорогой, – грехи отцов падают на детей, верно?
Луциан физически ощущал, как распространяется среди соседей успокоительная идея «Божьего наказания», и сторонился даже того небольшого общества, которое мог найти в деревне. Когда Луциан не «околачивался» на любимых им дорожках и среди полных счастливыми для него воспоминаниями лесов, он запирался в комнате, читая подряд все, что стояло в книжном шкафу. При этом порой он набирался совершенно ненужного, а то и опасного для себя знания. Луциан долго жил в семнадцатом веке, вместе с Пеписом[218]218
Пепис (Pepys), Самуэль {1632‑1703) – английский писатель, во время реставрации Стюартов – чиновник адмиралтейства. Пепис оставил после себя знаменитые «Дневники», расшифрованные только в 1825 г. и содержащие записи 1660‑1669 гг. После того как на престол взошел Вильгельм III, Пепису пришлось некоторое время провести в тюрьме.
[Закрыть] бродил по залитым солнцем улочкам веселого Лондона, отдавался соблазнительному очарованию Реставрации[219]219
Реставрация – восстановление династии Стюартов на английском троне в 1660 г. в лице Карла II, сменившее Английскую республику, детище буржуазной революции. Термин «Реставрация» также распространяется на весь период правления Карла II и Якова II Стюартов, длившийся до т. н. «славной революции» 1688‑1689, когда Яков II был низложен, а королем провозглашен Вильгельм III Оранский. Период Реставрации ознаменован отходом от жестких пуританских ограничений и, как следствие этого, распущенностью нравов, с одной стороны, и расцветом наук и изящных искусств – с другой.
[Закрыть], вместе с Исааком Уолтоном[220]220
Уолтон (Walton), Исаак (1593‑16S3) – английский писатель, самое известное сочинение которого, «Искусный рыболов», было опубликовано в 1653 г. Книга представляет собой беседу об удовольствии от рыбной ловли, происходящую между Пискатором (рыбаком, за которым угадывается сам автор), Венатором, или охотником, и Ауцепсом – сокольничим.
[Закрыть] и его католиками поднимался по реке, приходил в восторг от влюбленного аскета Герберта[221]221
Герберт (Herbert), Джордж (1593‑1633) – английский поэт метафизической школы. Самый известный его сборник, «Храм», вышел посмертно. Поэзия Герберта касается преимущественно религиозной тематики.
[Закрыть], преодолевая страх, восхищался мистикой Крэшо[222]222
Крэшо (Crashaw), Ричард (1613‑1649) – английский религиозный поэт «метафизической школы». После опубликования сборника латинских религиозных эпиграмм (1634) подался в Париж, где вступил в лоно Римской католической церкви. В 1646 г. выпустил поэтический сборник «Приближаясь ко храму».
[Закрыть]. Поэты‑кавалеры пели свои изящные песенки, мерные стихи Геррика[223]223
Геррик (Herrick), Роберт (1591‑1674) – английский поэт, ученик Бена Джонсона. В 1622‑1644 гг. и вновь с 1662 г. – священник в Девоншире. Будучи представителем «школы кавалеров», в творчестве своем прославлял по преимуществу радости земные. В 1648 г. вышел сборник его стихов «Hesperides, or the Works both Humane and Divine» («Геспериды, или Сочинения светские и духовные»), некоторые из которых да сих пор принадлежат к популярным английским песням.
[Закрыть] звучали для Луциана магическими заклинаниями. В пословицах и устаревших выражениях того времени – времени, полного изящества, красоты, достоинства и веселья, – Луциан находил былую прелесть Англии. Он все глубже погружался в чтение, пока ненужные старые книги не стали его единственной радостью. Всей душой ненавидя расхожую фразу «А какая от этого польза?», Луциан выбирал только самые никчемные и бесполезные книги. Он добрался до загадочной торжественности и символики каббалы[224]224
Каббала (др.‑евр . предание) – мистическое течение в иудаизме, соединяющее пантеистические построения неоплатонизма и мифологемы гностицизма с иудейской традицией аллегорического толкования Библии. Уже в трактате «Книга творения» (между III и VIII вв.) говорится о 32 элементах мироздания, к которым отнесены 10 первочисел (как и в пифагореизме) и 22 буквы еврейского алфавита. Каббала окончательно оформилась в ХШ в. в Андалусии. Ее основополагающий памятник – «Зогар», или «Книга сияния», написанная в Кастилии, по‑видимому, Моисеем Леонским, который, однако, предпочел выдать ее за наследие талмудического мудреца II в. Симона бен Йохаи. Особый аспект каббалы составляет т. н. практическая каббала, или каббалистика, основанная на вере в то, что посредством специальных ритуалов человек может вмешиваться в космически‑божественный процесс.
[Закрыть], до пугающих тайн средневековых трактатов, до обрядов розенкрейцеров[225]225
Розенкрейцеры – члены тайных (преим. религ.‑мистич.) обществ в XVII‑XVIII вв. в Германии, России, Нидерландах и некоторых других странах. Названы по имени легендарного основателя общества Христиана Розенкрейца (Ch. Rosenkreuz), якобы жившего в XIV‑XV вв., или по эмблеме Р. – розе и кресту. Общество активизировалось в 1614 г., когда были опубликованы его устав и биография основателя. Членство в обществе приписывается многим представителям европейской интеллектуальной элиты.
[Закрыть], загадок Вогена[226]226
Boгeн (Vaughan), Гeнpи (1622‑1695) – валлийский поэт и врач. Опубликовал несколько книг метафизических религиозных стихов и молитв в прозе. Его мистические взгляды на природу оказали влияние на других поэтов, в том числе на Вордсворта.
[Закрыть] и ночных бдений алхимиков – все это доставляло ему удовольствие. Луциан брал книги с собой, отправляясь на прогулки к холмам и лесам. Он устраивался с ними где‑нибудь на узком мосточке или на берегу лесного озера, и его подхлестнутое книгами воображение сливалось с колдовством лесной страны, образуя единое целое. В крепость Луциан не заходил: ему довольно было дойти до замыкавших дорогу ворот и оттуда увидеть насыпь, окруженную заколдованными стенами фиолетовую вершину и кольцо черно‑зеленых дубов, вечно хранивших тайну его давнего сна. Он посмеивался над самим собой и над видением, посетившим его жарким августовским днем, но в глубине души по‑прежнему жил отсвет того странного события – неугасимый, как пламя костра, разложенного цыганами посреди холмов в туманную ночь и осветившего безлюдные места. Порою, когда Луциан с головой погружался в свои книги, пламя тайного восторга, ярко вспыхнув, освещало его душу, все ее причудливые, залитые солнечным светом берега, но он всякий раз пугался своего счастья и своего восторга. Упорное и печальное уединение превратило Луциана в аскета, и слишком бурные переживания стали казаться ему опасными. Он уже начал писать – сначала робко и неуверенно, потом все с большим увлечением. Луциан показал свои стихи отцу, и тот со вздохом признался, что когда‑то, в годы учебы в Оксфорде, тоже мечтал стать поэтом.
– Очень хорошие стихи, сынок, – сказал старый священник. – Только вряд ли тебе удастся их где‑нибудь напечатать.
Так Луциан и жил, читая все подряд, подражая всему, что пробуждало его воображение, пытаясь перенести размеры греческой и римской поэзии на почву английского языка, пробуя себя то в комедии масок, то в пьесах в духе семнадцатого века, задумывая великолепные книги, в написании которых ему никогда не удавалось продвинуться дальше первой страницы, потому что он не умел перенести на бумагу свои чудесные видения. И все же этот пустой досуг, эти бесплодные радости творчества не были вовсе бесполезными – они превращались в броню, защищавшую его сердце.
Однообразно проходили месяцы, и нередко Луциан был близок к отчаянию. Он писал, задумывал все новые и новые книги, наполнял корзину для бумаг разорванными, неудавшимися набросками. Порою Луциан посылал стихи или статьи в журналы, простодушно не понимая правил издательской игры, но чувствуя ее безумную сложность. Счастье, что поле битвы пока покрывал туман и Луциан не мог представить численность выстроившихся войск. Ему и так было достаточно трудно: он бродил по извилистым дорожкам тоненьких безымянных книг – в их сумеречных лесах, среди их холмов он чувствовал дыхание мощного ветра, проносившегося из лощины в лощину – и возвращался домой, полный мыслей, восторга, тайн, которые так и просились воплотиться в записанные на бумаге слова, но результатом всех его усилий оказывалась лишь напыщенность. Его уделом были натянутая стилизация, одеревеневшая фраза, темная, неуклюжая речь – Луциан никак не мог постичь великую тайну языка, и ему уже казалось, что его звезды сияют лишь во тьме и исчезают при дневном свете. Периоды отчаяния затягивались, побед было мало, и они неизменно сменялись поражениями. Он засиживался допоздна – до того времени, когда отец, выкурив последнюю трубку, отправлялся к себе. С мучительным трудом Луциану удавалось написать страницу, после чего он в отчаянии рвал ее и шел спать, ощущая, что бессмысленно потратил еще один день. Порою привычный пейзаж вокруг родительского дома вселял тревогу, а безлюдные вершины холмов и темневшие вдали леса казались символами внутренней жизни чужого Луциану человека – его самого. Бывало, погрузившись в свои бумаги и книги или же задумавшись во время одинокой прогулки, а иной раз и посреди докучной болтовни местного «светского общества», Луциан с внезапной дрожью ощущал присутствие страшной тайны. И тогда трепещущее пламя пробегало по его жилам, и вновь возвращалось воспоминание о видении, посетившем юношу в чаще леса, а за ним вставало и более раннее видение – голые черные сучья деревьев и облако пламени над ними. И хотя Луциан остерегался той уединенной долины, а в последнее время даже избегал глядеть в сторону холма с крепостными укреплениями и черно‑зелеными дубами, видение преследовало его все настойчивее, превращаясь в символ чего‑то сокровенного и неопределенного. Там, в древних стенах, обрела убежище и храм буйная, пирующая плоть мира – и Луциан в тоске и страхе подумывал о побеге. Он мечтал укрыться от своих грез в пустыне Лондона, мечтал затеряться в грозном шуме и великом молчании современного города.








