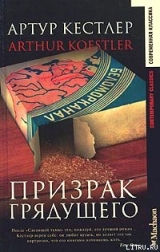
Текст книги "Призрак грядущего"
Автор книги: Артур Кестлер
Жанр:
Альтернативная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
– Терпение, товарищи. Тем, кто уходит, наверное, долго добираться до дому.
– Наконец-то разумная женщина! – прокомментировала Хайди.
Дождавшись, пока зал утихомирится, мадемуазель начала свою речь. Она побывала в Свободолюбивом Содружестве уже в пятый раз. К сожалению, на этот раз она пробыла там недолго, причем впервые – в одиночестве… Люди сочувственно притихли. Намек был понятен всем: в прошлых поездках мадемуазель Тиссье сопровождал ее коллега Пьер Шарбон, соавтор той самой великой книги и спутник ее жизни, умерший пять месяцев назад. Это был тихий книжник, почти такой же мА ленький и хрупкий, как сама мадемуазель Тиссье; они были неразлучны, и их преданность друг другу, как и то, что они из принципиальных соображений отвергли брак и скромно прожили во грехе почти пятьдесят лет, превратилась в элемент революционного фольклора, являя утешительный контраст по сравнению с кровавой памятью о Дантоне, Бланки и Шарлотте Корде.
Да, продолжала мадемуазель Тиссье, она пробыла там меньше времени, чем собиралась, и немедленно объяснит, почему. Народ Свободолюбивого Содружества всецело осознает нависшую над ним серьезнейшую угрозу. Он знает, что могущественный и злокозненный чужеземный враг плетет заговор, мечтая ввергнуть мир в пучину новой войны. Знает он и о том, что шпионы и заговорщики день за днем пересекают границы, зачастую рядясь в друзей его дела; поэтому вполне естественно, что у него развилось здоровое недоверие ко всем иностранцам, независимо от их истинных намерений. Она поняла это, как только ступила на его землю, и осознала, что сейчас неблагоприятный момент для визита. Только недруг Содружества затаил бы обиду на правительство, принимающее необходимые меры предосторожности для защиты своего народа. Поэтому – после откровенного, товарищеского разговора с властями и в полном согласии с ними – она приняла решение сократить долгое путешествие, планировавшееся до этого, и ограничиться посещением столицы. Тем не менее ей удалось побывать на тракторном заводе и в нескольких детских садах и школах, так что она может заверить слушателей, что никогда еще, ни в одной стране на свете ей не доводилось видеть столь трудолюбивых людей и таких милых, обласканных детишек. Пусть поверят ее слову – тут в уголках ее рта снова заиграла ее юная, завораживающая улыбка, – что, вопреки сообщениям некоторых газет, она не видала, чтобы зловещая тайная полиция хватала людей, и чтобы по улицам ползли закованные в кандалы узники, горько шепчущие слова «Дубинушки»!
Мадемуазель Тиссье, не переставая улыбаться, дала залу насмеяться вволю и возобновила свой рассказ. При том, что сокращение поездки несколько разочаровало се, она все-таки испытала захватывающее приключение, которое она не променяла бы ни на что на свете. Хотите верьте, хотите нет, но ее арестовали как шпионку!… Она помолчала, тихонько посмеиваясь от нахлынувших воспоминаний, аудитория же покатилась со смеху. Нет, действительно, так все и было! Вот как это произошло. Будучи безнадежно рассеянной и бестолковой, она как-то раз, направляясь домой, оказалась отрезанной толпой на станции метро от своего гида, переводчика и ангела-хранителя, любезно предоставленного ей правительством. Так она оказалась одна, подобно заблудшей овечке, в толпе – и в какой толпе! Народ Свободолюбивого Содружества ведет себя на станциях метро совсем не так, как затхлые французские буржуа, – здесь они кричат, толкаются и лягаются, совсем как счастливые детишки, что служит признаком бьющего через край жизнелюбия и здоровья нации. Поэтому она потеряла сперва чемодан, потом шляпку, и, прежде чем успела сообразить, что с ней происходит, была опознана как иностранка и задержана двумя огромными, непреклонными и очень чистенькими офицерами полиции. Конечно, она пыталась объяснить, что к чему, но никто не мог перевести ее слов, а ее паспорт не произвел на них ни малейшего впечатления. Откровенно говоря, – тут тон мадемуазель Тиссье стал более серьезным – если бы ей посчастливилось родиться гражданкой Содружества, то и она не видела бы особых причин доверять человеку, размахивающему паспортом такой страны… Эти слова вызвали громкие аплодисменты, и мадемуазель Тиссье, снова перейдя к прежней шутливой манере, поведала аудитории о том, как ее привели в один полицейский участок, потом в другой и как в довершение всего она очутилась в огромной современнейшей Центральной тюрьме, где, несмотря на ее протесты, никто не обращал на нее внимания на протяжении трех дней. В конце концов ее пригласили в чистую, залитую светом комнату с электрическим вентилятором, где очень вежливый офицер в безупречной форме, прекрасно изъяснявшийся по-французски, посоветовал ей во всем сознаться, ибо властям все о ней известно и имеется достаточно доказательств того, что она шпионка.
Публику снова разобрал смех, и мадемуазель Тиссье поделилась воспоминаниями о том, как она пыталась объяснить, что ее, должно быть, с кем-то спутали, и как милый офицер рассердился на то, как бестолково она разговаривает, вследствие чего ее взяли в такой оборот, что она не знала больше, мальчик она или девочка, и готова была поверить, что и впрямь занимается шпионажем!
Тут-то, воскликнула мадемуазель Тиссье, и наступает кульминация, из которой будет ясно, почему она решила обо всем этом рассказать. Тот милый офицер относился к своим обязанностям весьма серьезно, что в такие времена вполне естественно, и засыпал ее вопросами до тех пор, пока она не стала дремать на стуле, так что приходилось ее то и дело будить, отчего ей делалось очень стыдно. В конце концов, учитывая, что она продолжает отрицать свою причастность к шпионажу, ее отвели назад в камеру – кстати, прекрасную, отлично освещенную и чисто прибранную камеру, выделенную ей одной. И что же случилось потом? Ее пытали, избивали, заковывали в цепи за отказ сознаться? Ей очень неприятно разочаровывать охочих до сенсаций журналистов, которые вполне могут находиться здесь, – аудитория заворчала и закрутила головами, заподозрив присутствие непрошеных гостей – да, ей очень неприятно, повторила мадемуазель Тиссье, что ее история заканчивается столь буднично, но вместо того, чтобы четвертовать ее в «жутких пыточных камерах государственной безопасности» (мадемуазель Тиссье даже начертила в воздухе кавычки для вящей иронии), ее отпустили на следующий же день – просто так, без дальнейших разбирательств, отвезли на вокзал и посадили в поезд, уходящий в Париж. Только и всего.
Какова же мораль этого кошмарного приключения? Во-первых, она состоит в том, что жители Свободного Содружества проявляют высокую бдительность, так что любые злоумышленники, пытающиеся посеять недовольство и учинить акты саботажа, будут немедленно пойманы, и им крепко дадут по рукам, в этом не может быть ни малейших сомнений! Во-вторых, опыт пребывания в стенах тюрьмы Свободного Содружества позволяет мадемуазель Тиссье отвергнуть, опираясь на собственные наблюдения, все гнусные измышления – тут ее тонкий голосок задрожал от возмущения – о пытках, высылках и всем прочем. Наконец, третье и последнее. Налицо прямое доказательство того, что, хотя людей и могут время от времени арестовывать просто по ошибке, им совершенно нечего опасаться, если за ними нет никакой вины; им просто следует спокойно ждать, и правда восторжествует. Если же кто-то, в каком бы звании он ни был, сознался в совершенных преступлениях, то это указывает на его виновность и готовность понести наказание…
На этот раз аплодисменты прозвучали не так уверенно и громко. Мадемуазель Тиссье скромно вернулась на свое место рядом с лордом Эдвардсом, который похлопал ее по плечу с богатырским воодушевлением, от которого вполне могла пострадать ее ключица. Председательствующий тем временем объявил следующего оратора – Льва Николаевича Леонтьева, знаменитого писателя из Свободного Содружества, многократного лауреата академических премий, кавалера медали «Герой культуры», недавно удостоенного звания «Радость народа» и получившего от этого народа в подарок плавательный бассейн. Леонтьев оказался грузным широкоплечим человеком с низким лбом, седыми мохнатыми бровями и глубокими морщинами на лице. Пока он шел к трибуне, стойко, без тени улыбки принимая пламенные приветствия, у каждого была возможность убедиться, что перед ним – настоящий Герой культуры из страны, где к культуре относятся с надлежащей серьезностью, без всякой декадентской фривольности и эскапистской игривости, – страны, где наравне с оплотами грабителей-баронов взорваны и сравнены с землей башни из слоновой кости, и где поэты и прозаики стали солдатами культуры, дисциплинированными, с чистыми помыслами, готовыми по зову горна направить огнемет своего вдохновения туда, куда потребуется.
Герой культуры и Радость народа Лев Николаевич Леонтьев был в настоящий момент наиболее видным командующим на литературном фронте. Его передовицы появлялись по пятницам на первой странице газеты «Свобода и культура», набранные жирным шрифтом. По его слову одни возносились к небесам, другие низвергались в пыль, одни сочинения истреблялись, а другие выходили на японской бумаге. Он также регулярно председательствовал на заседаниях трибунала, где получали по заслугам поддавшиеся влиянию формализма, неокантианства, посттроцкизма, веритизма и всего прочего. Неудивительно поэтому, что к нему испытывали уважение и любовь не только писатели Свободолюбивого Содружества, но и те за его пределами, кто примкнул к Движению. Они тоже время от времени предавались заочному суду трибунала, но ввиду невозможности приведения приговора в исполнение, дело ограничивалось, как правило, чистосердечным раскаянием и наложением епитимьи.
Объявив Леонтьева в микрофон, председательствующий, Эмиль Наварэн, не покинул трибуны, а дождался докладчика и горячо пожал ему руку. В этот момент, словно по заранее оговоренному сигналу, засверкали фоторепортерские вспышки. Французский поэт и Герой Содружества стояли на помосте, трогательно держась за руки; перший демонстрировал свою улыбку развратного херувима, второй с мрачным неудовольствием взирал на вцепившуюся в его запястье руку, хватка которой разжалась лишь после того, как вспышки произвели второй залп. Фотографии были обречены на то, чтобы вызвать сенсацию, поскольку, как было известно посвященным, Наварэн переживал нелегкий период. Всего несколько дней назад в очередном пятничном выпуске «Свободы и культуры» Леонтьев дал французскому поэту легкую отповедь, обоз-Ш1В декаденствующим паразитом, пробравшимся в Движение путем двурушничества и обманов. Теперь же, однако, с появлением фотографий, всякому станет ясно, что период опалы остался позади: даже если Леонтьев попытается воспрепятствовать их опубликованию, его слово все равно не будет иметь веса для коррумпированной прессы в стране, где бушует культурная анархия.
Наконец Наварэн позволил Леонтьеву взойти на трибуну. Тот вытащил из левого кармана речь, положил се перед собой и собрался было открыть рот, как ему подали записку. Прочитав ее, он слегка приподнял свои кустистые брови, заменил текст речи другим, извлеченным из правого кармана, и начал читать.
До этой минуты Хайди, наслушавшись саркастических комментариев Жюльена, смотрела на него как на несколько комическую фигуру, но, стоило ему произнести первые слова, как она вынуждена была переменить свое отношение. Его глубокий, удивительно мягкий голос, выговором напомнивший ей акцент Феди, только более легкий, гулко и убедительно разносился по залу.
Сперва она только слушала голос, но спустя некоторое время стала обращать внимание и на смысл, который оказался еще более приятным сюрпризом. Речь Леонтьева не только резко отличалась от всего, что говорилось до него, но, если внимательно прислушаться, находилась в прямом противоречии с утверждениями предыдущих ораторов. Он ни единым словом не заклеймил реакционные правительства, не упомянул гадюк, милитаристов и низкопоклонников и даже обошелся без священной трескотни о «бесстрашных мучениках». Темой его речи было нерушимое общее культурное наследие человечества, столбовой путь восхождения людей к свету и истине, верстовыми столбами на котором высились фигуры Моисея и Христа, Спинозы и Галилея, Толстого и Фрейда. Чувствуя внимание аудитории, Леонтьев постепенно воодушевлялся, с его лица сошло траурное выражение, и взгляд под лохматыми бровями зажегся близоруким, меланхоличным светом.
Наварэн заметно побледнел. В своем обращении при открытии митинга он потребовал, чтобы обучение истории в школе начиналось с 1917 года, все же, что происходило до того, должно быть отброшено как незначительная чепуха; пусть мало кто среди присутствующих вспомнит об этом или обнаружит противоречие с линией Леонтьева – он все равно знал, что должен будет на протяжении многих месяцев брать назад свои слова и посыпать голову пеплом. Лорд Эдвардс важно кивал головой, словно свыше на него снизошло вдохновение и перед его мысленным взором побежали дифференциальные уравнения, доказывающие, что Вселенная все-таки неподвижна и не расширяется. Негр сидел смирно. Он не заметил никакого изменения линии, ибо его не волновало ничего, выходящее за пределы проблем его ущемленной расы. Профессор Понтье имел слегка озадаченный вид. Он мысленно повторил свою речь, чтобы проверить, противоречит ли она точке зрения Леонтьева, и с удовлетворением понял, что не противоречит – хотя оставалось сожалеть, что он не сделал акцент на тех же вопросах, что и Леонтьев. Одна мадемуазель Тиссье была совершенно счастлива и ничем не озабочена. Она внимала Герою культуры с восторженным вниманием: вот оно, авторитетное подтверждение – если вообще нужны какие-либо подтверждения – того факта, что Содружество всегда проводило либеральную, космополитическую, пацифистскую политику, как бы на него ни клеветала реакционная свора.
В заключение своей речи Леонтьев решительно заклеймил все агрессивные тенденции, будь то в сфере политики или культуры: «С какой целью писатель или политик принимается чернить свое культурное наследие, правительство и институты своей собственной страны? Если он намерен таким способом способствовать делу мира и прогресса, он допускает серьезную, непростительную ошибку. Возможно, он воображает себя революционером, фактически же он – отверженный, предатель своей страны, а Свободное Содружество не жалует предателей ни дома, ни за рубежом. Оно противится вмешательству в свои дела и отвергает вмешательство в дела других. Наш мир достаточно вместителен, чтобы в нем нашлось место для наций и общественных систем всех цветов и оттенков. Задача художника – приумножать общее культурное наследие, способное объединить всех». Напоследок он поведал о своей прекрасной мечте – о Всемирном Пантеоне героев культуры прошлого и настоящего, где будут красоваться имена поэтов, живописцев, философов и композиторов; он предложил и лозунг, который встречал бы всех у входа в Пантеон: «Обрети надежду, всяк сюда входящий».
Леонтьева проводили нескончаемыми овациями. Председательствующий торопливо объявил митинг законченным. Толпа спела революционный гимн и разошлась в прекрасном настроении.
– Это означает, – сказал Жюльен, когда они шли по ночной июльской улице к Сене, увлекаемые толпой, выглядящей теперь мирной и бодрой, как широкий поток воды после дождя, – это означает, что кризис позади. Наказание Кроличьей республики временно отсрочено, международная напряженность ослабла, и все мы можем жить в мире – по крайней мере, месяцев шесть.
В его голосе было еще больше горечи, чем обычно. Даже сигарета, прилипшая к губе, безжизненно повисла.
– Откуда вы знаете? – спросила Хайди.
– Разве вы не видели, как ему передали записку и он, прочитав ее, вытащил из кармана другой текст? Он подготовил два варианта, как они поступают всегда во время кризиса, и весть о том, что кризис исчерпан, достигла его как раз вовремя. Так что завтра автобусы будут бегать, как обычно, все вздохнут с облегчением и будут счастливы, как больной в промежутке между приступами.
– Не пойму, отчего вы так язвительны. Что бы вы ни говорили, но этот Леонтьев был искренен. Простая и красивая речь, и он ни разу не покривил душой.
Они присели на террасе кафе. Пол был усеян конфетти и рваными бумажными козырьками. На тротуаре еще оставалось несколько танцующих, но они выглядели полумертвыми от усталости. Их упорное стремление использовать веселье Дня Бастилии до последней капли не могло не вызывать уважения.
– Конечно, не покривил, – согласился Жюльен. – В конце концов, он – из старой гвардии, песни на его стихи распевали во время революции миллионы людей. Сегодня он был в хорошей форме, потому что в кое-то веки руководящая линия совпала с его убеждениями. Но, не поспей та записка вовремя, он, не моргнув глазом, разразился бы совсем другой речью; если же записка попала бы ему в руки на середине выступления, он заменил бы один текст на другой, снова не моргнув глазом. Он и выжил только потому, что превратился в проститутку; го, что вы зовете искренностью, – это переживания старой шлюхи, вспоминающей былую девственность.
Хайди пожалела, что рядом с ней сидит не Федя, а Жюльен. Пусть Федя дикарь, но как он свеж после мрака «Трех воронов»! Она вспомнила, что завтра ей предстоит поход с Федей в оперу и покраснела от удовольствия. Сразу же вслед за этим ее охватило чувство вины перед Жюльеном, у которого начинали подрагивать брови. Более, чем когда-либо, она почувствовала, насколько он уязвим под ироничной маской.
– Я просто хотела сказать, – произнесла она, – что переживания старой шлюхи – это луч надежды на будущее. Пока она способна на это, она не погибла; по-своему она тоже искренна, и вы не имеете права это высмеивать.
– Ваша беда в том, что вы не знаете, о чем говорите, – раздраженно отозвался Жюльен. Никогда раньше он не был с ней невежлив. – Вам никогда не приходилось иметь дела с проститутками – ни с настоящими, ни с политическими. Так тронувшие вас переживания – дешевейшая сентиментальность, ни в коем случае не мешающая ей залезть вам в карман или отвесить оплеуху. Так и наш Герой культуры преспокойно донесет в ГБна своих коллег и соперников.
– Я имела в виду совсем другое, – не унималась Хайди, – то, что вы и ваши друзья, вполне возможно, совершенно правы, что ненавидите их, но сама по себе ненависть никуда не ведет. Эту самую сентиментальность Леонтьева вы даже не хотите замечать, а если замечаете, то отметаете, как дым своей сигареты. А я думаю, что тут и пролегает различие. Французский поэт – просто шарлатан, но остальные – та милая глупышка, смахивающая на старую деву, Геркулес, даже философ – все они переживают по-настоящему. То есть у них есть вера – пусть и ложная. Может быть, они верят в мираж – но не лучше ли верить в мираж, чем не верить ни во что?
Жюльен окинул ее холодным, почти презрительным взглядом.
– Совершенно не лучше. Миражи заводят людей в никуда. Именно поэтому в пустыне валяется столько скелетов. Изучайте историю. Караванные тропы усеяны скелетами людей, которые алкали веры – и вера заставляла их пить соленую воду и есть песок в уверенности, что это манна небесная.
– О, какой прок спорить! – воскликнула Хайди. – Пойдемте.
В такси она сидела, забившись в угол, и чувствовала на горле знакомую хватку опустошенности. Ей хотелось крикнуть: а как насчет тех, которые так и не испытали этой жажды? Им не угрожает опасность пойти за миражом, они обречены брести по пустыне и ни разу не увидеть ни пальмы, ни колодца – ни воображаемой пальмы, ни придуманного колодца…
Жюльен и его друзья испытали эту жажду. Им предложили утолить ее соленой водой, и теперь они не в силах избавиться от соленого вкуса во рту и видят один только яд во всех реках и озерах Господних.
Такси выехало на бульвар Сен-Жермен. Теперь он был пуст.
VI Воспитание чувств
Комиссар, повстречавшийся им на пути в Москву, снабдил их рекомендательным письмом к московскому начальству, поэтому, спустя недолгое время, им дали комнату, старый Арин получил место контролера в кооперативе обувщиков, а Федя стал ходить в школу.
Комната была частью огромной квартиры в центре города, принадлежавшей раньше богатому торговцу древесиной. Когда разразилась революция, торговец сбежал со всей семьей за границу, а его квартира стала прибежищем множества людей, отличившихся перед властями. Теперь в семи комнатах обитало двенадцать семей – более просторные комнаты делились перегородками на две, а то и три части. Арину с Федей повезло: им на двоих досталась крохотная комнатушка прислуги. Когда они впервые переступили ее порог, Федя лишился дара речи, и его глаза наполнились слезами: никогда прежде он не видел такой роскоши. Вместо истоптанного земляного пола здесь был паркет; с потолка свисала электрическая лампочка, прикрытая бумажным абажуром. У стены стояла железная койка, оставалось место также для стола и стула, которые на ночь приходилось выносить в коридор, чтобы освободить на полу пространство для Фединого матраса. Прошло некоторое время, прежде чем Федя сумел свыкнуться с тем невероятным фактом, что все это принадлежало теперь им; и только тогда он, наконец, понял, что Великая Перемена свершилась.
Для Арина их новое положение тоже означало осуществление мечты всей его жизни: рядом с ним появился человек, который мог ему читать. Каждый вечер после ужина, состоявшего из хлеба, чая и соленой селедки, старый Арин усаживался на край кровати и закуривал свою махорку, а Федя устраивался у стола и читал ему вслух. К счастью, в первые годы после Великой Перемены школьникам не задавали уроков на дом; эта практика была отброшена вместе со всеми остальными формами закабаления. Идея состояла в том, чтобы к учебе побуждало не принуждение, а интерес и чтобы ученики занимались только теми предметами, которые им нравятся; не осталось ни наказаний, ни экзаменов, ни отметок, ни классов. Ученикам предлагалось собираться в группы или бригады и заниматься по собственному расписанию. После откровенных дискуссий с дедушкой Арином, Федя, которому шел тогда девятый год, решил посвятить свои школьные годы изучению угнетенных наций и классов. Первые книги, прочитанные им для Арина, повествовали о преследовании армян и принадлежали перу Фритьофа Нансена и пастора Лепсиуса. Федя читал, а Арин иллюстрировал текст историями, случившимися в Урфе и еще раньше; так История и жизнь сливались в Фединой голове в одно целое, чтобы никогда больше не распасться. Другие дети воспринимали Историю как сказки об абстрактных событиях в абстрактном прошлом; для Феди же жизнь стала частью Истории, а старый Арин, погибший Гриша и он сам были актерами на её подмостках.
Книги Нансена и Лепсиуса стали Фединой библией. Многое из прочитанного оставалось туманным, но некоторые эпизоды навсегда врезались в память. Русский царь хотел захватить Армению, но без ее упрямого народа. Поэтому он подстрекал армян восставать против трок, а его посол в это время побуждал турок убивать армян. Обобщением этой тактики служил классический совет князя Ростовского султану Абдул Хамиду: «Massacrer, majeste, massacrer [12] [12] Убивать, ваше величество, убивать (фр.).
[Закрыть]…»
Царь, султан, папа римский и правительство Британии превратились для Феди в дьявольских заговорщиков, спаливших заживо жену Арина и его шестерых детей. Книги оказывали на него еще большее влияние потому, что их авторы руководствовались не ненавистью, а состраданием. Их пронизанные жалостью обвинения власть предержащих в аморальности, а церквей – в лицемерии, усиленные бесстрастным языком цитируемых документов, служили для ребенка неопровержимым доказательством полного осквернения человечества перед Переменой и необходимости перевернуть мир, подобно тому, как плуг переворачивает пласт земли. Он не мог понять, почему человечество так долго сносило устройство мира, при котором короли были убийцами, государственные мужи – лгунами, а немногие аристократы и купцы превращали остальной народ в страдальцев и рабов. Но Арин знал ответ: люди прошли через все эти страдания, ибо были невежественными, неграмотными, некультурными. Арину же с Федей довелось жить во времена Великой Перемены, когда жизнь начинается заново, как после потопа.
Жизнь в начале 20-х и впрямь могла опьянить мальчишку. Вскоре после завершения войны с Польшей появилось много еды – только плати. Это сделал НЭП, о котором говорили все вокруг, но в котором ни Арину, ни Феде никак не удавалось разобраться. Маленький кооператив обувщиков, в котором трудился Арин, изготовлял и продавал больше обуви, чем когда-либо раньше. Теперь у них на обед нередко бывал белый хлеб, иногда кусок колбасы в дополнение к селедке, а то и по большей ложке прессованной красной икры. Все чаще им доводилось пить чай с сахаром – желтым кусочком, который полагалось класть на язык; горячий чай проникал сквозь него и к моменту проглатывания приобретал чудесный сладкий вкус. Федя стал обладателем ботинок из настоящей кожи, а Арин – очков в стальной оправе. Раз в неделю они отправлялись в кино, поглазеть на палящих друг в друга некультурных американских ковбоев или на банду преступников, покушающуюся на очаровательную девицу, у которой оказывается не одна, а девять жизней, как у кошки, и которая, как явствовало из надписи на экране, раньше была наследницей несметных капиталов, а теперь стала героиней революции. И раз в год по билетам, распределявшимся по кругу профсоюзом, они ходили на оперу или на балет в Большой театр. До Перемены такой жизнью могли жить только князья.
Не менее интересно было и в школе. Федя мог, если бы захотел, оставаться дома или околачиваться на улице, но он предпочитал ходить в школу. Это была одна из лучших школ в столице, предназначенная для детей, чьи родители делали революцию или погибли, защищая ее. Будучи сыном Гриши Никитина, одного из замученных бакинских комиссаров, имя которого к тому времени стало легендарным, Федя с самого начала пользовался привилегиями. В тринадцать лет он стал командиром пионерской дружины, поставившей себе цель произвести революцию в ботанике, переименовав все растения, подобно тому, как Французская революция переименовала все месяцы в календаре. Ученики и учителя на совместном совете, управлявшем школой, с энтузиазмом одобрили этот план и попросили учителя истории помочь дружине подыскать соответствующие названия. Гак, дуб стал «столпом революции», плакучая ива – «деревом либерального декадентства», цветы получили имена героев революции, а все сорняки скопом назвали «буржуазными паразитирующими растениями». По прошествии нескольких недель попытку пришлось, однако, оставить, потому что количество растений явно превышало количество мыслимых имен. Пионеры обвинили учителя истории, принадлежавшего к дореволюционной интеллигенции, в саботаже; но еще до того, как состоялся суд, старик умер от пневмонии, пав жертвой трудностей на фронте распределения топлива.
Постепенно старые учителя уходили на покой, увольнялись или просто не осмеливались показываться на глаза, опасаясь нападок своих учеников. Их заменили учителя нового типа: члены партии или комсомола, откликнувшиеся на призыв партии срочно ковать новые кадры образования. Это были крепкие ребята, в большинстве своем выходцы из рабочих и крестьян, заслужившие уважение учеников тем, что они сами были как дети, – так же юны и непосредственны, с такими же жадными глазами и с тем же рвением штурмовать высоты интеллекта. Их профессиональная подготовка ограничивалась курсами протяженностью в несколько месяцев, чаще вечерними. По уровню образованности они ненамного опережали учеников и часто допускали орфографические ошибки; им то и дело приходилось добродушно позволять девяти– или десятиклассникам, выросшим при прежнем режиме, поправлять их или заканчивать за них урок. Но все это не имело значения; важно было то, что вся школа – и дети, и ученики – переживала грандиозное приключение. Они жили в первые дни творения, когда от первозданного хаоса только отделялись небеса и земная твердь; перед ними простирался мир, который предстояло познать и подчинить себе. Их не пригибала к земле беспросветная перспектива с сумрачными закоулками несметных фактов, в которых пропадали их предшественники: ведь и учителя, и их подопечные взирали на знания, накопленные в прошлом, как на сор, как на останки затонувшего мира. Его поэзия была сентиментальной бессмыслицей, тома истории – сплошной ложью, философия – способом одурманить невежественный народ, применявшимся прежними хозяевами. Поколению, пришедшему после потопа, приходилось все начинать заново. Они тянулись к знаниям, жаждали культуры – но только к новым знаниям, новой культуре, не связанной корнями с прошлым. Среди тем, обсуждавшихся в Федином классе, были такие: «Как изменить климат нашей планеты?», «Когда и как наука преодолеет смерть?», «Останутся ли нужны школы после мировой революции?», «Социальное происхождение родительской тирании». Уже в третьем классе Федя мог претендовать на авторство нескольких резолюций, принятых дружиной после жарких дебатов: за отмену брака; за освобождение чернокожих рабов Америки; за обязательные прививки; против вредной теории о том, что чистка зубов есть капиталистический предрассудок; в поддержку теории о существовании других обитаемых планет.
Перед наступлением созревания Федей овладело смутное беспокойство. Школа больше не удовлетворяла его интеллектуального любопытства; он чувствовал потребность глубже зарыться в загадки жизни, дойти до атомов, до «чертенят», как их называл Арин, которые распоряжаются судьбами мира. Он читал много и беспорядочно – потрепанные книги со старой орфографией, трактующие вопросы физики, астрономии, истории, даже поэзии. Из-за недостатка элементарного научного багажа он понимал прочитанное только кусками, и это выбивало его из колеи.
Он пользовался уважением среди пионеров; через год-другой его примут в комсомол, а потом и в партию. Партийный же человек должен знать все, должен быть готов к исполнению обязанностей на любом посту, доверенном партией, представляя собой сияющий пример мудрости, твердости и присутствия духа. Но как достичь такой квалификации? Многих пионеров постарше его обуревали схожие сомнения, и они образовали специальную дружину «На штурм знаний», засыпавшую учителей протестами и требованиями. Учителя были беспомощны: старые учебники были в большинстве своем запрещены, новых же пока не появилось; школы испытывали нехватку во всем: в классах, карандашах, бумаге, досках, меле, а главное – в опытных преподавателях. Почему так произошло? И почему процесс Великих Перемен приостановился? Когда Феде было десять лет, все говорили о мировой революции как о чем-то совершенно реальном, способном принести вечный мир, счастье и изобилие. Теперь же ему почти пятнадцать, а она так и не материализовалась, и вокруг поговаривают о том, что революция ограничится отдельно взятой страной, окруженной кровожадными врагами, которая Бог знает сколько времени будет оставаться в осаде. Что еще хуже, даже дома дела оборачивались не так, как надо. Снова появились богатые и бедные; пусть богатых теперь называли нэпманами и дружно презирали – некуда было деться от того факта, что они могут покупать и есть, что захотят, в то время как остальным это было недоступно.







