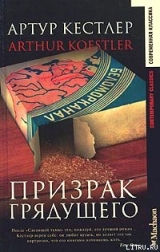
Текст книги "Призрак грядущего"
Автор книги: Артур Кестлер
Жанр:
Альтернативная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Patron, не выдержав этой сцены, покинул бар и ушел на кухню. Хайди, не желая спровоцировать новой ссоры, послушно проглотила все пять бокалов, наполовину. сожалея, наполовину радуясь тому обстоятельству, что, стремясь ее напоить, Федя самым кустарным образом обрекал на провал собственный замысел. Откуда ему было знать, что под влиянием винных паров ее неизменно покидала католическая терпимость плоти, взамен которой из-под плохо пригнанной мантии распутницы начинало выглядывать раздвоенное пуританское копыто.
– Теперь вы должны отвезти меня домой, – выговорила она, чувствуя, что ей изменяет зрение, – иначе я стану совсем пьяной.
– О, нет, – жизнерадостно возразил Федя. – Сперва мы выпьем кофе с бренди, а потом поедем ко мне в номер слушать пластинки. Арию из «Риголетто», – добавил он с улыбочкой.
– На кофе с бренди я согласна, – сказала Хайди. Она видела, что он не верит ей, и испугалась, что разразится новая сцена. Из окружившего ее красочного алкогольного марева негаданно выплыло вдохновение. Потягивая кофе и скромно опустив ресницы, она сказала мелодраматическим тоном:
– Вы хотите только моего тела, вам не нужна душа. Эти слова произвели совершенно неожиданное действие. Вместо того, чтобы заклеймить душу как буржуазную выдумку, Федя пустился в объяснения насчет того, что ее упрек несправедлив и оскорбителен для его глубоких чувств. Снова заказав бренди, он заявил, что, хотя было бы неправдой утверждать, что он никогда прежде не обнимал женщину, он никогда не делал этого, не будучи по уши влюблен в нее – в тело и в душу. После этого он упомянул о том, как ему одиноко в Париже, и о глубоком впечатлении, которое она произвела на него при первой же встрече.
Хайди вслушивалась в эти речи с жадным удовлетворением; каждое его слово было для нее медом, нектаром. Она подумала, что такие же чувства испытывает старая дева, получая и читая любовные письма, отправляемые ею самой себе.
В такси она позволила ему на одно мгновение привлечь ее к себе и поцеловать ей глаза. Даже этого мгновения – прежде, чем она оттолкнула его – хватило, чтобы понять, насколько совершенно было бы слияние их тел, как притягивает ее кожу его кожа, как свободно дается им прикосновение и объятие. Но тут же открылись шлюзы вины, и ее сознание затопил поток отвращения. Во избежание бесполезной борьбы, единственным результатом коей могло быть его унижение, ей пришлось прибегнуть к одиозному приему и солгать насчет временных трудностей. Прием подействовал незамедлительно. Он тут же оставил ее в покое, даже не пытаясь скрыть разочарование и неудовольствие, и велел шоферу ехать по названному ею адресу. К тому времени, когда машина прибыла по назначению, он сумел обрести прежнюю холодность и, прощаясь, поцеловал ей ручку; повой встречи он, однако, назначать не стал.
Когда Хайди добралась до дому, в комнате отца все еще горел свет. Повернувшись в кресле у стола, он приветствовал ее привычной фразой:
– Что хорошенького?
Это не значило, что он ожидает от нее отчета о том, как прошел вечер; это было всего лишь приветствием, но в то же время «хорошенькое» свидетельствовало о том, что худшее, что с ней может произойти, – это какой-нибудь безобидное озорство, так что ей всегда предоставлялось отпущение грехов на любой случай. Кроме того, если бы у Хайди случилась интимная связь с мужчиной, она бы сразу проследовала к себе в комнату.
– Я ужинала с русским, которого мы видели у мсье Анатоля.
– С Никитиным? Ну как, хорошо провела время? – Его тон был ровным и вполне нейтральным. Она присела на диван, сбросила туфли и подобрала ноги под себя.
– Мы большую часть времени ссорились. Он неправдоподобно примитивен и в то же время обладает хоть и незрелым, но острым умом, позволяющим на все глядеть просто; наши драгоценные сложности для него – пустой звук.
– Да, я заметил это, когда имел с ними дело.
– Они все такие?
– Ну… Помнишь историю о чудаке, который считал, что все французские официанты – рыжие? Но у меня впечатление, что там у них и впрямь все официанты ходят с рыжими шевелюрами…
Хайди не хотелось развивать эту тему.
– Ты рад, что тебе больше не нужно составлять списков? – спросила она.
Он откинулся в кресле, утомленно улыбаясь ей.
– Как ты сказала в тот раз, страшно бывает только во время передышки. Сейчас как раз такая передышка. О списках забыли – всем немного стыдно за недавнюю панику, так что до следующей паники никто не пошевелит и пальцем, а тогда будет уже поздно. У нас есть несколько месяцев, может быть, несколько лет, после чего мы снова займемся этой чепухой.
Хайди пожалела, что завела этот разговор. Одновременно ее тронуло озадаченное выражение его розовой физиономии – маска Озабоченного Либерала, которая казалась ей столь трогательной и была бесконечно дорога.
– Беда в том, – продолжал он, не заботясь, слушает ли она его, – что нельзя спасти того, кто не желает быть спасенным. С Европой что-то случилось – Бог знает, как это произошло, но это что-то ужасное. Как ты считаешь, может целый континент вдруг утратить волю к жизни? Если это так, то нам надо сматываться отсюда, пока и мы не подцепили этого смертельного микроба.
– Ты ведь так не считаешь – более того, ты сам отлично знаешь, что так не считаешь, – непоколебимо парировала Хайди.
– Конечно, черт возьми! Не считаю. Но нельзя же бесконечно обманываться. А если прекратить это занятие, станет еще хуже. Что вообще-то может предложить твое поколение? Как правило, молодые располагают собственными программами, запатентованными решениями, а к старшим относятся, как к слабоумным. Если разобраться, то самое страшное в том, что ваше поколение слишком уважает нас. Это очень плохой признак.
– Кто-то сказал, что бывают ситуации, из которых заведомо нет выхода. Нельзя плыть в подошве волны.
– Это все, что ты можешь сказать? Ну и ну, ну и ну… – Он потер свой гладкий лоб. – Конечно, в четвертом веке нашей эры ни один мудрец не смог бы предложить средства для замедления галопирующего увядания Римской империи… Знаешь, надо будет почитать Фрейда – что он там пишет об этом микробе? История ничему не учит. В ней полно аналогий, обрубающих оба конца… Черт, должно же быть какое-то решение!
– Что касается меня, то решение будет такое: виски со льдом – и на боковую.
VIII Падшие ангелы
На следующий день после ужина с Федей в маленьком бистро Хайди уже сожалела о своей победе. Все ее мысли о Феде были какого-то дерматологического свойства: она думала о нем одной кожей. Она не хотела звонить ему, ибо не сомневалась, что то, что она чувствует, обязательно дойдет до него, коснется его; это переносилось по воздуху, как радиация. Это была какая-то кожная телепатия, которая пока вполне ее устраивала.
После полудня она отправилась по магазинам. Это развлечение нарушило телепатический контакт и вызвало у нее чувство пустоты. Она собиралась пойти на коктейль, но вместо этого позвонила Жюльену. Поскольку Жюльен был оппонентом Феди и полной противоположностью ему, общение с ним восстанавливало прерванный ток, устремлявшийся к отрицательному заряду.
Он как будто был польщен ее звонком и предложил ей зайти, потому что у него собрались друзья. Но к тому времени, когда Хайди попала к нему, из друзей остался один профессор Варди. Маленькая квартирка Жюльена располагалась на третьем этаже в старом доме Сен-Жерменского предместья. Кабинет Жюльена выходил окнами на узенькую улочку и затрапезную гостиницу на другой стороне, окна которой навевали по ночам мысли о силуэтах раздевающихся женщин на занавесках. В квартире приятно пахло ученой пылью с книжных полок; здесь царила атмосфера покоя, которой она никак не ожидала. Даже профессор Варди, восседавший в глубоком кресле с рюмочкой сладкого вермута в руке, казался здесь более умиротворенным. Он остался сидеть, когда Жюльен ввел в кабинет Хайди, и, как ни странно, это воспринималось как комплимент, как признак того, что ее принимают за свою.
– Вам повезло, что вы задержались, – сказал Жюльен, делая ей коктейль из каких-то сомнительных ингредиентов. – Иначе вы стали бы свидетельницей скучнейшего озлобленного спора, участники которого вечно клянутся, что больше ничего подобного не повторится, а потом снова принимаются за старое.
– Спор с полудевственницами, – вставил Варди, словно это могло служить объяснением.
– Как увлекательно! – вежливо отозвалась Хайди. – Вы пытались их соблазнить?
– Ха-ха-ха! – сказал Варди. Смех ему заменяло невеселое, но вежливое мычание. – Полудевственницами мы зовем определенную категорию интеллектуалов, которые флиртуют с революцией и насилием, пытаясь в то же время остаться целомудренными либералами.
– Мы же, – дополнил Жюльен, размахивая рюмкой, – мы, отдавшие все, что может предложить невинность, и не требующие ничего взамен, – падшие ангелы.
Он прислонился к книжным полкам, забитым изорванными, обернутыми в бумагу книгами, делающими все французские библиотеки похожими на кладбища литературы.
– Сегодня, – продолжил он, – их здесь было трое: писатель, художник и девушка. Девушка замужем за писателем, которого любит, но спит с художником, которого ненавидит, и раз в полгода совершает самоубийство – правда, неудачное. Этот клубок занимает их последние пять лет, так как мы, французы, – консервативная нация, стремящаяся к тому, чтобы даже беспорядок нес на себе печать организованной преемственности. Вторая их важнейшая забота – революция, которая возвестит райское царство и распутает их клубок, как и все остальные клубки. У Варди и у меня не было желания вступать в спор, но Варди по неосторожности упомянул одного общего знакомого, недавно казненного на той стороне, и вся троица набросилась на нас, хуже фурий: во-первых, он не казнен; во-вторых, он, как-никак, предатель; в-третьих, революция имеет право убивать даже невиновных во имя возвышенных интересов, и так далее – всякая чушь. Сами видите, что все это было бы отъявленной глупостью, если бы этот вид умственного извращения, вопреки распространенному мнению, не пользовался значительным влиянием… – Он умолк, утомленный собственной напыщенностью.
– Давай-ка уточним, – подхватил эстафету Варди. – В том, что касается позитивных идей или улучшения художественного вкуса, интеллигенция влияет на массы крайне слабо. Но в отрицательном смысле, как проводник коррозии и разрушения, она очень влиятельна, особенно в этой стране.
– И вся чертовщина в том, – снова подключился Жюльен, – что интеллектуальная полудевственность такого сорта практически не поддается лечению. Мужчина, переспавший с революцией, знает, о чем говорит. Эти же остаются вечными кокетками, они никогда не отдаются идее целиком, а в лучшем случае мастурбируют, мечтая о ней. Стоит вам сказать им, что на самом деле представляет собой предмет их одиноких воздыханий, они назовут вас циником, разочаровавшейся личностью, а то и обвинят в мании преследования…
Он умолк, моргая от дыма воображаемой сигареты.
– А вам-то что за печаль? – удивилась Хайди. – Решив стать ренегатом, вы должны были быть готовы к таким вещам.
– Позвольте заметить, – вмешался Варди, глядя на Хайди с суровой благосклонностью, – что в данном контексте слово «ренегат» употреблено неверно. Если мы отказались от революции, то только потому, что сама революция отказалась от своего идеала; наша позиция – это просто отрицание отрицания.
Он говорил с рассерженной четкостью и пафосом, которому было бы не грех поучиться начинающему раввину, однако в его тоне слышались нотки оправдания, словно ему всегда приходилось занимать оборону. Его и Жюльена, видимо, сильно расстроил провал попытки убедить тех, кого все равно невозможно было убедить никакими силами.
– О, замолчи! – раздраженно бросил Жюльен. – Хайди права. Люди не возражают, если ты станешь предавать человечество, но если ты предашь свой клуб, они сочтут тебя ренегатом, а ренегатов не любят, какими бы ни были их мотивы. Вас никогда не удивляло, почему даже атеисты уважают принявших католичество, зато священника, заделавшегося атеистом, все дружно ненавидят? Как бы мы ни протестовали – нас все равно никогда не простят за то, что мы отказались от собственных ошибок.
– Ты – неизлечимый мазохист, – сказал Варди. – Я отказался не от ошибки, так как ошибку совершил не я, а партия.
– Дорогой мой, отступник остается отступником, даже если папа спит с собственной сестрой.
– Был такой Савонарола…
– …с которым у тебя есть некоторое сходство, – подхватил Жюльен. – Его сожгли заживо.
– И что это доказывает? – спросил Варди, обернувшись к Хайди за поддержкой. – Яспрашиваю вас: что это доказывает?
Хайди перемещалась вдоль книжных полок, разглядывая корешки и прислушиваясь к спору. Слова Жюльена о сбросивших мантию священниках показались ей очень верными; это объясняло, почему она чувствовала себя, как дома, в этой комнате, и почему существовала странная связь между ней и Жюльеном и даже Варди, несмотря на его помпезную самоуверенность. Их не только никогда не простят за отказ от прежних ошибок другие – хуже того, они сами не способны простить себя.
– Я думаю, – ставя на место книгу, сказала она своим звонким голоском, каким всегда разговаривала в гостях, – я думаю, что тот факт, что Савонарола был сожжен, доказывает правоту Жюльена.
– Очень просто, – пояснил Жюльен. – Люди осуждали продажность священнослужителей, но отступников среди монахов они ненавидели еще пуще.
– Чепуха! – не уступал Варди. – А как насчет Лютера? Или Генриха VIII?
– Оба были для Рима чужестранцами. Поэтому к ним относились не как к ренегатам, а как к бунтовщикам, поддержанным крепнущим национальным самосознанием. Кроме того, Лютер дал народу Библию. А что можем предложить мы, Варди?
– Сожалею, – язвительно отозвался Варди, – но никаких пророчеств я предложить не смогу. Я просто педантичный, категоричный радикал с четко формулируемой программой, отвергающий как капиталистическую анархию, так и тиранию тоталитарного государства, а также все военные блоки – как на Востоке, так и на Западе.
– Вот ты и сидишь на ничейной земле между линиями фронта, подвешенный между небом и землей, как гроб Мухаммеда, – высказался Жюльен.
– …с четко разработанной программой, – повторил Варди, игнорируя невежу, – которая, да будет мне позволено скромно напомнить, пользуется возрастающей поддержкой в некоторых слоях мыслящей публики. Более того, – тут он снова повернулся к Хайди, – Жюльен – один из соавторов этой программы, и, будучи в нормальном настроении, выступает активным членом нашей Лиги.
– Да, – мечтательно молвил Жюльен, – мы, как ты говоришь, быстро завоевываем поддержку. За последний год число наших последователей выросло на пятьдесят процентов: от восьми до двенадцати…
– Ха-ха, – выдавил Варди и поднялся. – Шутка не нова, но всегда эффектна. Мне пора идти; надеюсь, ты справишься с припадком мазохизма… Время от времени на него находит, – объяснил он Хайди. – Это как приступ малярии. Может быть, вы окажете на него целительное влияние.
– Хотелось бы, – холодно сказала Хайди, – но мне тоже пора.
– Не надо! – взмолился Жюльен. – Почему вы не можете остаться и еще немного выпить?
– Хорошо, но что подумает профессор?
– Самое худшее – ха-ха! – откликнулся Варди тоном, галантно отметающим любые вульгарные подозрения на ее счет, и церемонно, хоть и чуть-чуть неуклюже, потряс ей руку на прощанье.
– Как вам нравится мой друг? – спросил Жюльен после ухода Варди.
– Сначала он произвел на меня ужасное впечатление. Теперь же он кажется мне очень милым.
– Не надо недооценивать Варди, – сказал Жюльен. – Его мозг сродни самозаводящимся швейцарским часам. Но, хотите верьте, хотите нет, у него комплекс насчет женщин выше его ростом. Они мешают ему развернуться; поэтому он и становится таким напыщенным в вашем присутствии.
Хайди вздохнула.
– Чужие комплексы – всегда загадка. – Она вспомнила об ожоге у Жюльена на лице, который он по-прежнему старался ей не показывать.
– Верно. К примеру, я никогда в жизни не смогу осмыслить ваш комплекс по поводу разрыва с Церковью. В то же время для вас он так же важен, как для нас – разрыв с партией.
– Я вам об этом рассказывала?
– Нет, но были кое-какие намеки, об остальном же нетрудно было догадаться.
Он сел на подоконник в неглубоком алькове, привалившись спиной к стальной решетке. Узкую улочку уже окутывали сумерки; в нескольких окнах гостиницы напротив уже зажегся свет, и за жалюзи начинали шмыгать тени. Внизу раздался женский голос: «Marcel! Tu as oublie ta bicyclette! [14] [14] Марсель, ты забыл свой велосипед! (фр.)
[Закрыть]» Тот факт, что Марсель ушел, забыв, что приехал на велосипеде, казался одной из маленьких поэтических тайн, которыми изобилует жизнь и которые никогда не удастся разгадать. В голове у Хайди мелькнула неясная мысль о том, что стоило бы повнимательнее отнестись к таким тайнам: вдруг в них есть какой-то ключ? Захватив рюмку, она села на другом конце подоконника, опершись о решетку локтем, и посмотрела вниз. Зрелище людей, не спеша бредущих по двое-трое в предвкушении аперитивов расхлябанной, шаркающей походочкой парижан с Левого берега, подействовали на ее настроение умиротворяюще. Она вспомнила, что уже несколько часов не думала о Феде, и ее сердце сжалось от знакомого чувства сладостной боли. Жюльен снова говорил, теперь уже на другую тему; она пропустила начало.
– …причина, по которой Европа валится к чертям собачьим, – это, конечно, то, что она признала конечность личной смерти. Этим актом отречения мы перерезали свою связь с бесконечностью, изолировали себя от Вселенной, или, если хотите, от Бога. Эта утрата космического сознания, последствия которой заметны всюду – в рассудочном характере современной поэзии, живописи, архитектуры и так далее, – привела нас к поклонению новому Ваалу – Обществу. Я не имею в виду обожествление Тоталитарного Государства или даже Государства как такового: истинное зло – это обожествление общества. Социология, общественные науки, социальная терапия, социальная интеграция, все прочее «социальное»… Раз мы признали смерть конечной, на смену Космосу пришло Общество. У человека нет больше прямых сношений с Вселенной, звездами, смыслом жизни; все эти космические сношения монополизированы, а все трансцендентные импульсы поглощены новым фетишем – «Обществом». Мы больше не говорим о Homo Sapiens, человеке разумном; мы говорим об «индивидууме». Мы не устремлены больше к доброте и благодеяниям; наша цель – «социальная интеграция». Антропологи не изучают более привычек людей: они работают «на общественной ниве». Так что…
– Что?
Он нервно поморщился.
– Я вас утомляю. Я бы предпочел заняться с вами любовью.
– Лучше уж продолжайте говорить. Жюльен натянуто рассмеялся:
– Допустим, вы правы. Но почему?
– Потому что я умею хорошо слушать, а еще потому, что мне интересно.
– Хорошо. – Жюльен покорно сложил руки. – Я имел в виду вот что. Поскольку религиозные убеждения заменены социальным идолопоклонничеством, мы все обречены на гибель в качестве жертв своей мирской лояльности.
– Разве это не то же самое, что пасть в религиозной войне?
– Нет. В религиозной войне вам было даровано хотя бы то утешение, что вы отправитесь в рай, а ваш противник – в ад. Но дело даже не в этом. Суть в том, что обожествление общества влечет за собой культ логистики и целесообразности. Теперь представьте, что целесообразность осталась единственным критерием; умножьте этот фактор на эффективность современной технологии, и пусть произведение будет задействовано в конфликте, где задета безграничная мирская лояльность. Неизбежным результатом будет взаимное истребление. Единственную, отчаянную надежду на предотвращение катастрофы сулит лишь возникновение новой трансцендентной веры, которая смогла бы оттянуть людскую энергию с «общественной нивы» в просторы космоса – тогда восстановятся прямые сношения между человеком и Вселенной, а у мотора целесообразности появятся тормоза. Иными словами: рождение новой религии, лояльности космосу, с приемлемой для человека двадцатого века доктриной.
– Кто же ее изобретет? – спросила Хайди.
– В этом и загвоздка. Религии не изобретают, они материализуются из ничего. Подобно тому, как, благодаря конденсации, из газа получаются капли жидкости.
– И все, что мы можем, – дожидаться, когда это произойдет?
– О, пока можно забавляться с программами и платформами. Но результат от этого не изменится.
Улица под ними гудела от сумеречной жизни, всегда просыпающейся в часы, когда по долине Сены разливается особый голубой свет. В открытом прилавке молочной лавочки выставка бесчисленных сортов сыра постепенно расплывалась в неяркий натюрморт под названием «Различные сыры, 195…» Заскучавший полицейский рассматривал гирлянду мирно почивших кроликов, развешанных на крючьях напротив магазинчика битой птицы; его заложенные за спину руки поигрывали белой дубинкой. Все тот же голос, обладательница которого так и не показывалась на глаза, продолжал взывать: «Marcel! Marcel! Tu as encore oublie ta bicyclette!» Тайна сгущалась, вместе с ней сгущались вечерние тени. За углом, на Университетской улице, уже зажигались огни.
– Почему вы не пишите, а возитесь с платформами и спорите с полудевственницами? – спросила Хайди.
– Потому что я больше не могу писать, – ответил он безразличным тоном. – Я говорил вам об этом еще в первый раз, в такси, только тогда я подвыпил, и речь вышла слишком торжественной. – Он слез с подоконника и стал рассеянно расхаживать по комнате. Хайди совсем запамятовала, что он прихрамывает; в эту минуту хромота сильно бросалась в глаза. Он заметил ее взгляд, и хромота почти прошла.
– Это, – пояснил он с гримасой, – а также шрам у меня на физиономии – воспоминания о битве при Теруэле в 1937 году от рождества Христова. Испания была последним актом в комедии невинности – климаксом, апофеозом великой буффонады, предшествовавшей Падению. Кстати, там был и Варди. Это вас удивляет, не правда ли? Он то и дело ронял из рук винтовку и никогда точно не знал, в какой стороне фронт, но выстоял до самого конца… Я лежал в госпитале, когда газеты написали, что последние могикане Революции все как один признались в шпионаже и взмолились о пуле в затылок, подобно корчащемуся от боли, требующему морфия.
– Вы говорили о том, почему не можете больше писать.
– О, если вам и вправду интересно, я могу предложить целый каталог причин. Что до поэзии, то с ней было покончено в тот день, когда я вышел из партии. Падшие ангелы не пишут стихов. Бывает лирическая поэзия, священная поэзия, любовная, бунтарская; но поэзии отступничества не существует. Какое-то время это беспокоило меня; потом я смирился с этим как с эмпирическим фактом и взялся за романы. Первый получился довольно успешным – он должен был стать первой частью трилогии; но тут разразилась война, поражение, Сопротивление и все такое; когда все было кончено, я понял, что никогда не напишу второго тома и вообще никаких новых томов.
– Но почему?
Он стоял в нескольких футах от нее, между столом и окном. Мягкий, угасающий свет падал на здоровую часть его лица, оставляя в тени изуродованную; не было видно ни шрама, ни горькой складки губ – только неизменная докуренная до половины сигарета в зубах. Наконец, он сказал:
– Искусство – умозрительное занятие. В то же время оно не ведает жалости. Приходится либо безжалостно писать то, что ты считаешь правдой, или помалкивать. Сейчас я верю в то, что Европа обречена, и что данная страница истории скоро будет перевернута. Вот моя умозрительная правда. Отрешенно глядя на мир с позиции вечности, я даже не нахожу, чему тут тревожиться. Но одновременно я продолжаю верить в этический императив борьбы со злом, даже если такая борьба безнадежна, – достаточно вспомнить о судьбе, постигшей семью Бориса. В этой плоскости моя умозрительная правда превращается в пораженческую пропаганду, то есть в нечто аморальное. Из дилеммы «созерцание или действие» нет выхода. В истории бывали идиллические периоды, когда находилось место и тому, и другому. Во времена же, подобные нашим, это несовместимо. И я – далеко не исключение. Европейское искусство отмирает, ибо не может жить без правды, правда же его стала мышьяком…
Он умолк. Хайди покачала головой:
– Ваши слова звучат вполне логично, но одновременно в них слышится попытка оправдаться.
Он как будто не заметил ее слов.
– В искусстве есть еще одна сторона – объективность. Представим себе, что мне надо попытаться вывести вас и вашего друга Никитина в качестве персонажей романа… – Он испытующе посмотрел на нее, как опытный фотограф, изучающий фотомодель. – Страниц на двадцать меня бы еще хватило, но дальше все пошло бы насмарку, потому что под моим пером фигура Никитина неизбежно вышла бы низкопробной. Понимаете?
– Нет, не понимаю. Неужели нельзя избежать перехода на личности?
– Нельзя. Вы спросили, почему я больше не могу писать, а это более личный вопрос, чем если бы вы спросили у мужчины, почему он импотент. Кроме того, я не собирался говорить плохо о реальном Никитине; я говорил о нем как о вымышленном персонаже. Беда вымышленного Никитина как раз в том, что он не вымысел, а реальность.
– Я все еще не понимаю.
– Давайте скажем вот как. Реальность нельзя напрямую перенести в сферу вымысла; ее надо переварить, усвоить, а потом выжать из себя маленькими капельками, как пот. Любому известно, что если вы собираетесь написать об убийце, вам надо как бы проглотить его и самой стать убийцей – подобно дикарю, проглатывающему голову врага, чтобы пропитаться его храбростью, – только тогда убийство сможет сочиться из ваших пор. Это как симпатическое колдовство; писатель должен обладать пищеварительной системой каннибала – от этого зависит качество его продукции. Но Никитина переварить невозможно: он провалится в мой желудок, как камень; от Никитина свернутся чернила в моей авторучке…
– Разве обязательно писать о Никитине?
– О чем же еще? Если вы сидите в камере смертников, единственный, кто вас интересует всерьез, – это палач. Но мое воображение отказывается превращаться в Никитина. Оно – мое воображение – прожорливо, ненасытно, аморально, похотливо, оно не чурается каннибализма, но стоит ему натолкнуться на Никитина – и оно начинает артачиться, внезапно вспоминает о педантизме и целомудренности, переполняется моральным гневом и эстетическим отвращением. Единственный взгляд никитинских глаз – и оно просится в монастырь, рвется читать проповеди, а стоит писателю превратиться в проповедника – и он пропал.
– То есть вы так ненавидите Федю, что неспособны нарисовать его объективный портрет?
– А-а, так его зовут Федей? Я даже не знал, что у него имеется христианское имя. Для меня он – просто шаблон массовой выпечки; доисторический неандерталец с мозгом современного робота. Я же говорил, что лично о нем не собирался говорить ничего дурного.
Хайди встала и, опершись о решетку, посмотрела вниз, на улицу, почти отвернувшись от него.
– Вы не говорили дурно, – спокойно резюмировала она, – просто вы завидуете…
Он хотел прервать ее, но она покрутила головой.
– …завидуете не как мужчине. У вас вызывает зависть то, что он верит во что-то такое, во что вы перестали верить.
– Это-то вполне очевидно, – сказал он. – Вопрос в том, считаете ли вы, что такая вера стоит зависти.
– Вопрос как раз не в этом. Вас гложет зависть, потому что вы утратили свою веру и не можете обрести другой. Я это знаю, потому что то же самое творится и со мной. Иногда я чувствую себя змеей, сбросившей старую кожу, но не способной отрастить новую. Чувствуешь себя такой голой и беззащитной! Вот и приходится разгуливать с фальшивой кожей…
– Дорогая моя, кто же может этого избежать?
– Федя. И мсье Анатоль… Что мне больше всего в вас не нравится, – продолжила она тихо, но отчетливо, – это ваша надменная поза человека с разбитым сердцем.
Он улыбнулся у себя в дальнем углу комнаты, а потом сказал:
– Один-ноль.
– Мне все равно. – Ее голос становился все более бесстрастным, оставаясь по-прежнему тихим, но отчетливым. – Мне бы больше хотелось, чтобы вы сказали мне, чем кончится наша с Федей история – как если бы мы были персонажами вашей книги.
Он попытался разглядеть выражение ее глаз, но она все так же рассматривала улицу.
– Зачем вам это знать?
Она продолжала смотреть вниз в ожидании ответа.
– Она может кончиться только по двум классическим канонам. Первый – Укрощение Строптивой. Второй – Самсон и Далила.
Она ничего не ответила. Он устремил взгляд через комнату на ее склоненный профиль, уже казавшийся в темноте неясным силуэтом, и неуверенно добавил:
– Есть, конечно, и третий вариант: Юдифь и Олоферн…
Хотя он произнес это, запинаясь, сама мысль на мгновение показалась ей совершенно очевидной. Она резко обернулась и звонко произнесла:
– По-моему, вы сошли с ума. Мне пора. С улицы снова раздался женский голос:
– Марсель! Марсель…
– Кто это? – не выдержала Хайди.
– Кто?
– Та женщина, которая зовет Марселя?
– Зовет? Я глух к уличным шумам.
– Там кто-то забыл велосипед.
– Простите?
Он взглянул на нее в изумлении. В комнате стало совсем темно. У нее возникло необычайно четкое ощущение deja vu.
– Может быть, вы включите свет? – напомнила она ему.
– О, конечно. Извините меня. – Он включил свет и сказал, моргая, пока она шла к распахнутой для нее двери:
– Между прочим, Бориса увезли в больницу.
После той встречи она почти не вспоминала ожесточившегося поляка. Теперь же его костлявая фигура встала перед ней, как живая.
– Что-то серьезное?
– Положение опасное. Если бы вы смогли к нему заглянуть – естественно, если вы не слишком заняты встречами с господином Никитиным…
Его голос не звучал оскорбительно, в нем была лишь спокойная враждебность, заставившая ее понять, что он вспомнил о Никитине не в связи с ней, а из-за Бориса. Не отвечая на его замечание, она сказала:
– Я бы с радостью, но я его едва знаю – кроме того, мне определенно показалось, что я не пришлась ему по душе.
– Борису никто не может прийтись по душе. Но визит женщины, да еще с цветами… Не думаю, чтобы у него в Париже нашлась хоть одна знакомая женщина.
– Тогда ладно. Дайте мне адрес.
Он повиновался: это была общая палата в государственной больнице для нуждающихся.
Выйдя на улицу, Хайди заколебалась – ужинать ли в ресторане одной или с кем-нибудь созвониться. Но она не испытывала голода и к тому же знала, что, оказавшись в телефонной будке, тут же наберет Федин номер. Она отказалась от приглашения Жюльена под тем предлогом, что ее ждут, так что он теперь уверен, что она будет ужинать с Федей. Она жалко переминалась с ноги на ногу на тротуаре бульвара Сен-Жермен, пока к ней не пристали два американских студента. Услыхав от нее отповедь на типичном бостонском диалекте, они извинились и вынуждены были ретироваться. В эту самую секунду ей показалось, что она слышит, как в ее квартире в Пасси надрывается телефон. Она торопливо окликнула такси и предложила двойную оплату в случае быстрой доставки по назначению. Возясь с ключами перед дверью, она действительно услышала нетерпеливое позвякивание телефона; тональность звонка подсказала ей, что ее разыскивают уже давно. Но стоило ей прикоснуться к трубке, как трезвон прекратился. Она поняла, что ее ждут долгие часы безнадежного ожидания; то же будет и завтра, и послезавтра. Оставалось принять это со смирением хронической больной. Теперь, по крайней мере, у нее хватало смелости признаться самой себе, что она увлечена не на шутку.







