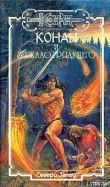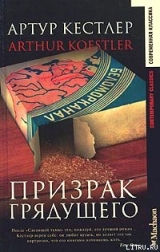
Текст книги "Призрак грядущего"
Автор книги: Артур Кестлер
Жанр:
Альтернативная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Товарищ Максимов встал и зашагал взад-вперед по кабинету. Через некоторое время он спросил, словно делая над собой усилие:
– Случай с метро был единственным в своем роде?
– Нет. Она часто нас дразнила. Помню, как-то раз кто-то делал доклад о перевыполнении плана по выпуску марганца, а она и говорит: «Жалко, что я не могу набить марганцем брюхо…» В другой раз мы пошли с ней на фильм, в котором вождя революции в другой стране пытали в келье реакционные монахи, пока рабочие не взяли штурмом монастырь и не освободили его. Она все время хихикала, а когда картина окончилась, она сказала, что ничего более глупого никогда в жизни не смотрела…
Товарищ Максимов остановился и, как ни в чем не бывало, сказал:
– Но ты же говорил на том собрании, что она всегда старательно выполняла все поручения?
– Так оно и было. Она делала все, но не так, как мы, – играючи, – он поискал слово, – поверхностно. Она никогда не подходила к поручениям серьезно. Она поверхностно относилась к социалистическому строительству.
Товарищ Максимов возобновил прогулку вокруг стола. Он выглядел утомленным, и Феде показалось, что он ему надоел, хотя он никак не мог понять, почему. Что ж, ему все равно. Его долгом было сказать правду, вот он и делал это, нравится это товарищу Максимову или нет.
Наконец Максимов молвил:
– Слушай внимательно. Я сказал, что у нас есть доказательства против нее. Теперь представим, что я сказал так, чтобы попугать тебя. Доказательств у нас нет, одни подозрения. В этом случае ее судьба будет зависеть от твоих показаний. Повторишь ли ты в этом случае все, что сейчас сказал?
– Конечно. Все, что я сказал, – чистая правда.
Товарищ Максимов покрутил в пальцах карандаш.
Тон его голоса стал очень серьезным:
– Ты все равно станешь утверждать, что ее поведение было направлено на подрыв боевого духа товарищей?
– Да.
– На преднамеренный подрыв?
– Не знаю. Какая разница? Такие были у нее манеры. Социальное происхождение заставляло ее вести себя именно так.
Феде было невдомек, куда клонит товарищ Максимов своими непонятными вопросами. Можно подумать, что он пытается защитить эту саботажницу! Враг повсюду, его агенты умудряются просачиваться на самые высокие посты, в самые неожиданные места. Даже главный архипредатель в свое время подвизался в Красной Армии. А вдруг товарищ Максимов просто испытывает его?
Молчание затянулось. Неожиданно Максимов сказал:
– Ладно. – Он что-то сказал в телефонную трубку и вызвал стенографистку. Дожидаясь ее прихода, он проговорил:
– Может статься, в один прекрасный день ты поймешь, что ты наделал. Но скорее всего ты этого никогда не поймешь.
Каким бы небрежным ни был тон товарища Максимова, Федя понял, что эти слова оскорбительны для него. Он сидел перед столом товарища Максимова, поджав губы и слегка прищурившись. Товарищ Максимов быстро продиктовал вошедшей стенографистке главное из Фединых показаний, в том числе случаи с метро и с марганцем; было буквально повторено Федино заявление о поверхностном подходе Надежды Филипповой к задаче строительства социализма; в завершении говорилось, что ее поведение объективно вело к подрыву боевого духа ее товарищей. Федя внимательно прислушивался на случай, если какие-то его слова окажутся опущенными, но его волнения оказались напрасными. Если и Максимов был саботажником, он заботился о том, чтобы не выдать себя.
После того, как Федя подписал показания, секретарь ушла, и Максимов холодно спросил:
– Что ты собираешься делать, когда окончишь школу?
– Поступлю в университет.
– Ты никогда не подумывал о том, чтобы пойти работать в органы госбезопасности?
– Нет.
– А тебе бы хотелось?
– Да.
– Ты очень подошел бы для этой работы. Может быть, мы еще увидимся. До свидания.
Допрос завершился. Последние слова Максимова были величайшим комплиментом, о котором мог мечтать Федя, однако тон, которым они были произнесены, снова показался Феде оскорбительным – хуже того, презрительным. Но не исключено, что это входит в проверку.
Федя был рад снова оказаться на свежем воздухе. К черту товарища Максимова, подумал он. Мимо громыхал битком набитый трамвай; Федя поглубже натянул кепку на голову, припустился следом и ловко запрыгнул на подножку, отдавив ногу скрючившемуся там немолодому очкарику. Тот беззлобно пробормотал что-то про себя, и Федя, посмотрев на его когда-то шикарное пальто, понял, что перед ним представитель дореволюционной интеллигенции. Так вот почему он не осмелился возмутиться вслух! Федя добродушно ухмыльнулся. К черту их всех: и этого, в пальто, и товарища Максимова, и всю остальную старую шайку, партийные они или беспартийные. Все они принадлежат прошлому; что они такого совершили, чтобы так собой гордиться? Затевали заговоры, метали бомбы, проводили партизанские вылазки – все это очень романтично, но больно старо! Они не построили ни единого завода и понятия не имеют о производстве и о Пятилетнем Плане. Даже отцовские друзья, бакинские адвокат и доктор, теперь были бы просто старыми маразматиками, усталыми мухами, ползущими зимней порой по раме окна, которое скоро распахнется в будущее… Феде стало вдруг очень весело. Ему и его одноклассникам будет всего по двадцать, когда будет завершен пятилетний план, и они станут командовать парадом – парадом, каких еще не видывала История!
Он снова заломил кепку на затылок и принялся насвистывать, не обращая внимания на старого ворчуна. Что за счастье – быть молодым и жить в такое героическое время! А вдруг Максимов не шутил, и его, Федю, пошлют за границу, к диким финансовым баронам в цилиндрах и во фраках, чтобы он был там миссионером, пекущимся о спасении человечества?! Они могут подвергнуть его пыткам, даже убить, как убили Гришу и родню Арина, но ему не страшно. Единственное в жизни, чего он и впрямь боялся, просто не может произойти: его никогда не выкинут из Движения, как Надежду, он никогда не очутится в кромешной тьме, никогда не окажется изгнанником в пустой, иссохшей и безводной земле.
VII Телячья голова с шампанским
Я-то думал, вы наденете шелковое вечернее платье и драгоценности, – разочарованно протянул Федя. Он снова отпихнул стул ногой, прежде чем сесть, но руки целовать не стал. Хайди и на этот раз пришла в кафе раньше него. На нем был черный костюм; короткие волосы были тщательно прилизаны. Но час за часом волосок поднимался за волоском, и под конец все они снова топорщились. Хайди завороженно наблюдала за этим процессом, как когда-то – за разлетающейся при поджаривании воздушной кукурузой.
– Я не приоделась, потому что мы не пойдем в Оперу, – объяснила Хайди.
– Почему? Я купил билеты, так что надо пойти.
Он был до того сбит с толку, что ее охватила волна нежности. Она ободряюще произнесла:
– Лучше поужинаем в каком-нибудь недорогом местечке, и вы расскажете мне о себе. Это будет куда забавнее демократичной музыки.
Лицо Феди приняло уже знакомое ей неопределенное, настороженное выражение. Затем глаза его снова загорелись:
– Ага, выходит, это внезапный каприз избалованной американки?
Хайди рассмеялась.
– Навешивание этикеток делает вас счастливее?
– А как же! Всегда необходимо понять причины события. Но теперь нам надо поторапливаться.
– Почему?
– Я должен успеть отвезти вас домой на такси и не опоздать в Оперу. Было бы невежливо бросить вас в этом кафе.
Он встал и галантно дождался, пока встанет и она. Хайди прикусила губу. Секунду поколебавшись, не сомневаясь, что все взгляды в кафе обращены именно на нее, она в конце концов поднялась и направилась прямиком к двери. Федя последовал за ней. Снаружи им пришлось подождать, пока появится такси. Он испытал только минутную растерянность, пока она выходила из-за стола; растерянность улетучилась, когда ее плечо коснулось его – топография заведения вполне позволяла избежать такого контакта. Распахивая перед ней дверцу подрулившего такси, он расплылся в улыбке. Хайди забралась в дальний угол сиденья и произнесла похоронным тоном:
– В Оперу.
После этого, стараясь держаться на максимальном удалении от него, она изо всех сил сдерживала слезы и думала о том, что никогда в жизни не ненавидела никого больше, чем этого чудака в смехотворном одеянии с невозможными манерами, клялась себе, что у Оперы велит шоферу везти ее домой, зная в то же время, что этого не произойдет, и ужасалась предстоящему: трем актам «Риголетто» и неизбежному продолжению вечера.
У «Мадлен» такси попало в пробку. Уставившись на греческие колонны, украшающие фасад, озаренный розовыми лучами прожекторов, она подумала: что за отвратительный и жестокий город Париж, как отчаянно одиноко должно быть его жителям, задыхающимся в тесных квартирках, огороженных закопченными перилами балконов. Внезапно, с удивлением, от которого она чуть не подпрыгнула на сиденье, она почувствовала на своей руке жесткую Федину ладонь и услышала его воркующий голосок:
– Вы действительно не хотите идти на «Риголетто»? Она покачала головой, не в силах вымолвить ни слова.
– Почему же вы не сказали об этом в среду, когда я вас пригласил?
Она беспомощно пожала плечами.
– Надо было меня предупредить, тогда бы это не показалось мне просто капризом. Но если вам и вправду не нравится «Риголетто», то мы поедем в дешевый ресторан.
Ей захотелось обнять и поцеловать его, но она предпочла воздержаться от излишней прыти и вместо этого назвала шоферу нетвердым голосом адрес ресторанчика на Левом берегу. Сделав это, она извлекла пудреницу и принялась успокаивать нервы, производя отвлекающие маневры пуховкой и губной помадой.
– Жалко, что вам не нравится «Риголетто», – подал голос Федя. – Это хороший пример коррумпированности класса феодалов накануне буржуазной революции и самоуничижения, навязанного феодальной структурой общества своим жертвам. И музыка там неплохая.
Хайди подумала, что ей не дано понять, когда Федя говорит серьезно.
– Наверное, под хорошей музыкой вы подразумеваете la donna e mobile.
– Что это значит?
– Это по-итальянски. Означает «у любви, как у пташки, крылья».
– А-а, знаменитая ария. Очень красиво, не считая слов.
– Чем же провинились слова? О, что же вы такой педант?! – опечалилась она.
Он пожал плечами и объяснил терпеливым тоном:
– Вся эта болтовня насчет женской летучести, капризности и прочего – скучная чепуха. В продажном обществе и нравы продажные, продажными становятся даже инстинкты, и продажные артисты зарабатывают на жизнь, красиво прославляя продажность, как делал автор этой арии. Как говорит Леонтьев в своей последней статье, они уподобляются червям, отплясывающим на трупе.
– А в вашем непродажном обществе все женщины свято хранят верность?
– Бывают и исключения. Некоторые люди, идя на поводу у инстинктов, вступают в конфликты с обществом и его институтами. Но в целом, когда женщина имеет детей, любит мужа и чувствует себя сексуально удовлетворенной, она не обладает этой вашей «летучестью», а наоборот, чувствует себя прочно стоящей на земле. Возможно, время от времени на нее находит желание немного полетать, но в нормальной семье нормального общества такие незначительные желаньица мало что значат. В вашем же загнивающем обществе, лишенном веры, убеждений и прочности, вы относитесь к таким желаньицам исключительно серьезно, ибо нет больше ничего, к чему можно было бы отнестись всерьез.
– Знаете, – заметила Хайди, – мой дед говорил то же самое.
– Он участвовал в революционном движении? – с интересом спросил Федя.
– Нет. Он владел замком и знаменитой сворой гончих в графстве Клэр.
– А идеи у него были очень прогрессивные, – твердо заключил Федя. – Но нам ни к чему спорить. Я просто хотел сказать, что моя позиция в отношении этой арии из «Риголетто» заключается в том, что когда женщины начинают безумствовать, то это происходит потому, что они живут в обществе, лишенном веры.
– Совершенно с вами согласна, – мрачно произнесла Хайди.
Ресторан на набережной Сены, выбранный Хайди, был как нельзя более дешевым. Скатерть не блистала чистотой, солонка оказалась выщербленной, а пружины диванчика моментально просели под их весом. Федя разочарованно огляделся.
– Почему вас тянет в такие места? – спросил он.
– Вам не кажется, что тут рай? – Она показала ему на вид за немытым окном; их стол помещался в неглубоком алькове, они были здесь совсем одни. – Можете смотреть на Нотр-Дам и на рыболовов на мосту, которые никогда не выуживают ни единой рыбки, но и не думают сдаваться. Вот вам и вера – даже в буржуазном обществе…
– Но, – поспешил возразить он, – на берегу реки есть много более приличных ресторанов, чистых и культурных… – Он снова посмотрел на нее с внушавшим ей страх недоверчивым, опасливым выражением лица. Это было хуже, чем стеклянная клетка, – здесь стояла стена, разделяющая два континента. Неожиданно его глаза разгорелись, лицо снова просветлело.
– Ваш отец очень богат?
– Не очень, но достаточно, – смиренно ответила она.
– Теперь понятно, – успокоился он. – Очень интересное явление.
– Что за интересное явление? – спросила она, довольная, что все утряслось.
– Самое интересное – то, что вам самой невдомек, почему вам нравятся такие местечки. Вы, наверное, читали Веблена [13] [13] Торнстейн Веблен (1857 – 1929) – американский экономист и социолог, основоположник институционализма и сторонник социального дарвинизма. Здесь игра слов, поскольку Хайди (чуть ниже) явно путает его с Верленом.
[Закрыть]?
– О, Боже! Всегда притворялась, будто читала. Лучше сами расскажите мне, что он писал о парижских бистро.
– О парижских бистро – ничего. Но он объяснял законы эволюции вкусов у правящих классов. Пока определенный класс, скажем, капиталистическая буржуазия, занят накоплением богатства, его представители соревнуются в тратах и мотовстве, чтобы произвести друг на друга впечатление. Но когда класс совсем разбогатеет, его представителям уже нет нужды доказывать, насколько они богаты, и роскошествуют только те, кто на самом деле не богат, но жаждет казаться таковым, или кто совсем недавно приобрел богатство. Так что на этой стадии роскошь кажется вульгарностью, и Рокфеллер влачит аскетическое существование. Вот и вы приучены считать, что это и есть культурность, и что такие старые, грязные ресторанчики хороши именно своей стариной и грязью.
Хайди засмеялась.
– Кое-что из того, что вы говорите, верно, но лишь частично. Как скелет – только часть правды о человеке. Бистро, к примеру, не только стары и грязны – им присуща особая атмосфера.
– О, да, атмосфера. Атмосфера бедности, «простонародья», мелкой буржуазии – вы-то сами принадлежите к крупной буржуазии, и вам можно играть в Га-рун-аль-Рашида. Вы посещаете бистро, подобно туристам, устремляющимся на Восток.
Больше всего ее задевало то, что в его тоне не было агрессивности, напротив, в нем слышалась мягкая ирония, словно он снисходил до нее с высоты неприступной крепости своей веры. Ей оставалось с завистью взирать на него снизу вверх, ежась от холода и неуверенности, как все те, кто живут вне ее стен.
– Вы позволите мне заказать ужин? – спросила она. – Еда тут по крайней мере хороша, и я знаю их коронные блюда.
Он добродушно согласился, как взрослый, уступающий детской причуде. Она заказала устрицы в вине, омлет и телячью голову в уксусном соусе. Хозяин, угрюмый толстяк, пожал им руки, желая, видимо, оказать Хайди особую честь.
– Вы чувствуете себя очень гордой и демократичной, – произнес Федя с улыбкой, когда хозяин отошел.
– О, вы всегда все испортите! Почему?
– Потому что я не одобряю ложных чувств.
– Что же ложного в том, что мне нравится толстый patron? Видели бы вы его жену! Она еще толще, а грудь у нее задрана чуть ли не до плеч.
– Вы бы пригласили их к себе на вечеринку?
– Они не подошли бы к компании, но это тут совершенно ни при чем.
– Значит, они вам на самом деле не нравятся. Она в отчаянии пожала плечами.
– В такой игре вам нет равных.
– В какой игре?
– Вы отлично ловите человека на слове.
– Не понимаю. Если вас подловили в борьбе, вы проигрываете.
– Но я не хочу с вами бороться.
Он бросил на нее памятный кошачий взгляд.
– Что же вы хотите со мной делать?
– Бог его знает. Лечь с вами в постель, наверное,
вот и все.
Наконец-то она испытала удовлетворение, видя, как он шокирован. Он вылупил глаза, и на его щеках проступили веснушки – так он, по-видимому, краснел.
– Теперь вы наверняка сочтете меня страшно «некультурной», – ядовито добавила она, уже готовая перейти к обороне и снова напялить маску послушной ученицы, если только представится такая возможность. Ее успокоил неожиданный огонек понимания в его глазах; он решил очередную загадку, и все снова встало на свои места.
– Не некультурной, а просто немного испорченной, – ответил он на ее последнее замечание. – Это и есть фривольность праздного класса. Вы говорите такие вещи, подобно тому, как дети произносят грубые слова, не понимая их смысла.
Хайди не стала развивать эту тему. Тут как раз подоспели устрицы. Она ощущала внутри себя пустоту и, следовательно, сильный голод. Она мысленно взмолилась, чтобы он не пригвоздил поедание устриц как испорченность пли некультурность, но они ему как будто понравились. У них был волшебный вкус чеснока и чего-то еще.
– Вам нравятся устрицы? – осторожно осведоминась она, не желая вновь ступать на зыбкую почву.
– Очень хорошие! Французы их любят, – вежливо добавил он.
– А какие блюда любите вы?
Его лицо просияло.
– Шашлык, шушкбаб. А напоследок – немного рахат-лукума, – стыдливо признался он.
– Так вы с Кавказа?
– Откуда вы знаете?
– Все знают, что шашлык – кавказское блюдо.
– Я родился в Баку. В Черном городе. – Он как будто слегка оттаял от крепкого рейнского вина, поданного к устрицам.
– Вы мне расскажете немного о своей жизни? – робко спросила она.
– Это неинтересно.
– А мне интересно! У меня нет ни малейшего представления о жизни по ту сторону.
– Наши люди самоотверженно трудятся и счастливы, что строят будущее.
– Аминь. Теперь расскажите о себе.
Он поставил рюмку, отодвинул тарелку и посмотрел на нее, со смешным выражением лица приглаживая непослушные волосы – высохнув, они топорщились, как швабра. Хайди внезапно поняла, чего недоставало его лицу: мягкой черной кепочки, которую он мог бы сбить на затылок или надеть набекрень – в зависимости от настроения.
– Это не очень интересно, – повторил он. – Мой дед был выходцем из угнетаемого национального меньшинства – армян. Он был ремесленником. Так как он был из угнетаемого меньшинства, то вся его семья погибла, и ему пришлось бежать. Отец принадлежал уже к революционному пролетариату и был убит контрреволюционерами. Мать жила в бедности и невежестве, как все женщины Востока, а после заболела и умерла. Потом, во время Гражданской войны, я вместе с дедом пробрался из Баку в Москву и там стал учиться в школе. Вступил в молодежное движение, потом – в партию. Когда богатые крестьяне воспротивились коллективизации с целью торпедировать пятилетний план, я был мобилизован партией и направлен обратно на Кавказ, чтобы помочь сдаче урожая, необходимого для городских рабочих, занятых индустриализацией. После этого партия послала меня в университет, после же университета я занимался различными делами на культурном фронте…
Он одарил ее лучезарной улыбкой, словно дядюшка, порадовавший ребенка подарком. Хайди покрутила в руках рюмку.
– Теперь я все о вас знаю! – радостно воскликнула она.
– Да.
– Что вы изучали в университете?
– Историю, литературу, диамат и вообще культуру.
– Что такое «диамат»?
– Диалектический материализм. Это наука об истории, – терпеливо пояснил он.
– Это ваша первая заграничная командировка?
– Я бывал и в других странах, – туманно ответил он.
– И что вы там делали?
– Работал в культурных миссиях, как и здесь… Теперь ваш черед обо всем рассказать.
– Идет. Я родилась в среде загнивающего правящего класса; с материнской стороны мои родичи были ирландскими землевладельцами-кровопийцами, с отцовской – наемными вояками из Вест-Пойнта. Разложение буржуазного общества довело мою мать до алкоголизма, а отца – до донкихотской мании спасения Европы, меня же – до врат католического монастыря… Теперь и вы все обо мне знаете.
– Да, – великодушно согласился Федя. – Знаю – не все, но многое, хотя вам казалось, что вы просто шутите. Вы, выражаясь вашими словами, нарисовали скелет – но, зная скелет, можно представить себе все животное.
– Одно «но», – возразила Хайди. – Скелеты вечно ухмыляются. Вы тоже умны и «культурны», но ваша культура – это какой-то скелет: сплошь оскаленные зубы и выпирающие челюсти.
– Почему вы ушли из монастыря? – спросил Федя, с улыбкой отметая ее последнее замечание.
– О-о… обычные причины. Мне не хотелось бы об этом распространяться.
– Почему?
– Если бы вам пришлось покинуть свою партию, стали бы вы об этом разглагольствовать за омлетом?
Федя усмехнулся.
– Это разные вещи. Партию не покидают. А ваш монастырь – вы ведь знаете, что все это суеверия…
– Если бы вам открылось, что и партия – сплошное суеверие, разве вы бы ее не оставили?
Он продолжал улыбаться, но улыбка теперь выходила пресной.
– Вы рассуждаете о вещах, в которых не разбираетесь. Я спросил: почему вы ушли из монастыря?
Он сказал это настолько нелюбезным тоном, что Хайди решилась на последнюю попытку отстоять свое достоинство.
– Я ем омлет, – сказала она ровным голосом, чувствуя, как колотится ее сердце.
Федя наполнил ее рюмку и осушил свою. Он не сводил с нее пристального взгляда.
– Почему вы ушли из монастыря?
Фантастика какая-то, подумала Хайди. Но и это не помогло. Сердце билось теперь как сумасшедшее.
– Это допрос? – спросила она с храброй улыбкой.
– Вы не станете отвечать на мой вопрос?
– Интересно, за кого вы себя принимаете, и что дает вам право так со мной разговаривать?
– Ладно. – Он положил на скатерть нож и вилку, оперся обоими локтями на стол и устремил на нее свой испытующий взгляд. – Вы вовсе не глупы, так что вы поймете. Мы встречаемся на балконе. Вы провоцируете инцидент, забираете мою записную книжку, изучаете ее, звоните мне и предлагаете встретиться, чтобы ее вернуть. Вы заигрываете со мной и принимаете приглашение пойти на «Риголетто». Потом вы говорите, что не хотите идти на «Риголетто», потому что вам хочется со мной поговорить. Вы задаете мне вопросы о моей жизни. Когда же я спрашиваю вас о вашей жизни, вы отвечаете, что едите омлет. Вы – вконец испорченная женщина из высшего класса, меня же вы считаете выходцем из страны некультурных дикарей, с которым можно вот так поступать.
– Боже мой, – ахнула Хайди, комкая платок, – клянусь, что вы все неверно поняли. Прошу вас, поверьте мне…
– Вот теперь я вижу по вашему лицу, что вы понимаете, насколько неправильно себя повели, и готовы заплакать, потому что вам кажется, что тогда все утрясется.
– Но это же чудовищно! Вы все поставили с ног на голову! Я вовсе не намеревалась вызывать вас на откровенность, я совсем не испорчена, я не презираю вас и не ощущаю никакого превосходства над вами, наоборот! Поэтому я и не захотела говорить о том, как я… утратила веру. Ведь это дает вам такое огромное преимущество передо мной!
– С какой стати?
– Как же вы не видите – ведь вам есть, во что верить, а мне, нам… не во что.
Ему было видно по тому, как трясется ее рука, до чего отчаянно она комкает под столом свой платок. Ее лицо исказилось от волнения. Он знал – когда с женщиной происходит такое, то это значит, что она говорит правду.
– Значит, вы ведете себя со мной так потому, что завидуете моему участию в общественном движении, где я могу приносить пользу?
– Какой смысл говорить о таких вещах? Слова делают все сентиментальным и смешным.
– Это потому, что вы так испорчены и кичливы. У нас люди, совершившие ошибки, подвергаются прилюдному осуждению, наказание же или прощение зависит от преступления. Но вы не захотели ответить на мой вопрос, потому что вам недостает смирения, чтобы покаяться в своих ошибках, потому что вы не очистились от своих вредных воззрений открытым отказом от них как ото лжи и суеверия.
– О, Боже! Неужели нельзя прекратить это? – На какое-то мгновение его голос показался ей эхом ее последнего, выматывавшего нервы разговора с духовником, ибо с той же безжалостной монотонностью колотился о гордость ее духа и восставшей совести. Федин голос доходил до нее сквозь фильтр этого воспоминания, словно из далекого прошлого:
– Как хотите! Я действую в ваших же интересах. Вы жалуетесь, что не можете ни во что поверить, но происходит это только потому, что вам не хватает смелости вырвать из своего сердца суеверие и ложь… Теперь можно вернуться к омлету, а потом я отвезу вас домой, потому что уже поздно.
Patron принес им телячью голову и буркнул Хайди, что лучше есть ее горячей, на Федю же взглянул с мрачным неодобрением. Она сидела молча, с белым, измученным лицом, для утешения patron'a ковыряя вилкой телячью голову. Внезапно, к своему удивлению, она услышала собственный ровный, почти скучный голос:
– …во время войны одно крыло школы было превращено в госпиталь. Некоторые из нас работали там сестрами милосердия. У нас было несколько пластических операций – в основном, сбитые и обгоревшие летчики. У некоторых из этих двадцатилетних ребят не было носов, и они походили на сифилитиков. Один лишился нижней челюсти; другой дышал через резиновую трубочку, вставленную в дырку в горле. Некоторые проводили по много дней с пришитыми к подбородку руками и ногами, чтобы прижилась пересаженная кожа, – скорченные, как эмбрионы-переростки. У некоторых были скрюченные, как птичьи лапки, руки, другие спали с открытыми глазами, потому что у них сгорели веки. Помню одного, у которого вообще не осталось лица – одни бинты, как у уэллсовского Невидимки в фильме. Перед смертью он написал на дощечке: «К черту Бога. Искренне ваш». Мне следовало ужаснуться, я же обнаружила, что согласна с ним. Быть может, я превозмогла бы и это, но одна девочка в школе заболела менингитом. Ей было всего восемь лет, но она была развитой не по годам, хорошенькой и очень веселой. Она была очень привязана ко мне, и я настояла, чтобы мне позвонили ее выхаживать… При менингите, чтобы вы знали, возникает головная боль, несравнимая с болью при любой другой болезни. Ребенок – у нее было такое глупое имя: Туту – лежал на спине восемнадцать часов, прежде чем наступила предсмертная кома, и все восемнадцать часов она беспрерывно крутила головой и издавала каждые тридцать секунд особый крик – тонкий птичий щебет, характерный для менингита. Перед тем, как впасть в кому, ей стало ненадолго легче, и ее глаза, перед этим все время закатившиеся, нашли меня. Я склонилась над ней и произнесла что-то глупое насчет великой Божьей любви, но она прошептала мне на ухо: «Хайди, Хайди, мне страшно – я думаю, что Он сошел с ума». После этого наступила кома, и спустя три дня она умерла. Но эта мысль, посетившая истерзанную головку восьмилетнего ребенка, овладела мной, потому что в то время мне казалось, что она никому больше не знакома. Мне казалось, что она многое объясняет: злобную глупость силы, обрекшей это дитя на муки и исторгавшей из него нечеловеческие, птичьи крики; ужасы, которых я навидалась в отделении пластической хирургии, а потом – газовые камеры и поезда смерти, засыпанные хлоркой. Понимаете, я не могла представить себе мир без Бога, так же, как не могла представить себя без рассудка, просто как живую ткань – да и сейчас мне это, наверное, не удалось бы. А раз ничто не могло происходить без Его воли, раз творились такое, единственное объяснение могло состоять в том, что Бога поразила какая-то злокачественная форма безумия…
Она умолкла, взяла себя в руки.
– Вот вам. Полнейшая исповедь… Федя взглянул на нее с любопытством:
– Замечательно! Воспитанница культурных кругов живет в двадцатом веке в монастыре и выдумывает дикие теории о сумасшествии Господа. Ваши родители были религиозны?
– О, нет! Отъявленные безбожники!
– Вот, видите! В Средние века суеверие было вполне естественным делом. Но вы родились во время первой пятилетки и ринулись назад, в средневековье, ибо негодность вашей цивилизации утянула вас в прошлое. Так же происходит со многими вашими поэтами, писателями, учеными. Они капитулируют и сдаются средневековью, ибо не могут вынести жизни в пустыне.
– Вы хотите сказать, что читали Элиота? – Хайди была приятно удивлена.
– Конечно. Я же учился в университете.
– И его там преподают?
– Некоторые его стихотворения предлагаются студентам в качестве примера явления, о котором я говорил.
– Понятно.
– Так что же случилось с вами после того, как вы оставили монастырь?
– Ничего особенного. Вышла замуж за первого, кто подвернулся под руку, развелась. А потом помешалась на разбивании стеклянных клеток. Раз вы читали Элиота, вам нетрудно догадаться об остальном. – Она откинулась на спинку стула и продекламировала, улыбаясь ему в глаза:
Стремясь к теплу, я превращаюсь в лед
И корчусь в очистительном огне…
Его лицо утратило осмысленность.
– Этого я не понимаю. Формализм какой-то…
– Ничего. Теперь мы знаем друг друга гораздо лучше. Мне уже знакомы, к примеру, почти все варианты выражения вашего лица. Настороженный, недоверчивый взгляд, когда опущены все жалюзи. Яркая вспышка, когда вам удается решить очередную загадку, подброшенную загнивающим миром. Беззаботный, радушный взгляд, словно вы сдвигаете на затылок мальчишескую кепчонку. Сексуальный взгляд – об этом распространяться не будем. И, наконец, ласковый взгляд, сопровождаемый участливым, сострадательным голосом, когда вы объясняете вашей невежественной и послушной слуге законы истории. – Она завершила свою речь легким поклоном.
Федя рассмеялся – впервые за все время это был сердечный, искренний смех, сопровождаемый заламыванием кепочки и даже похлопыванием ладони по столу. Хайди почувствовала, что готова зардеться от гордости за содеянное, и мысленно заклеймила себя презрением.
– Очень остроумно. Просто блестяще! – вымолвил он с наивной восторженностью. – Надо будет запомнить и рассказать друзьям. Сколько всего выражений?
– Пять. Могу сосчитать по пальцам. Его снова разобрал смех.
– Теперь придется выпить шампанского.
Она попыталась возразить на том основании, что шампанское не слишком сочетается с телячьей головой, но он проявил настойчивость. Patron принес бутылку с видом философического презрения, избегая смотреть Хайди в глаза. Как только он удалился, Федя выхватил бутылку из ведерка со льдом и ловко откупорил ее с хлопком, похожим на пистолетный выстрел.
– Теперь, – объявил он, – по пять бокалов, за каждое выражение лица.
– Не хотите ли вы заставить меня выпить один за другим пять бокалов?
– Именно так. Вам наверняка не чужд азарт. Все американцы азартны, разве нет? Мое лицо будет каждый раз принимать новое выражение. Получится очень забавно.
Он притворился настороженным и неприступным, звякнул своим бокалом об ее и осушил его одним глотком. Хайди последовала его примеру, и он снова взялся за бутылку. Представление продолжилось, причем ему до конца не изменял юмор, и он искренне пытался хорошо сыграть свою роль, гримасничая, словно стремясь развеселить ребенка.