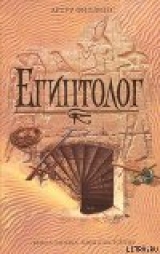
Текст книги "Египтолог"
Автор книги: Артур Филлипс
Жанр:
Исторические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 28 страниц)
Об авторе: Профессор Ральф М. Трилипуш родился 24 ноября 1892 года. Единственное и обожаемое (если не решительно избалованное) дитя прославленного воителя и исследователя Экгберта Трилипуша, он вырос в зеленой идиллии и неге Трилипуш-холла, графство Кент, Англия. Занимаясь с домашними учителями, он проявил не по летам поразительную способность к языкам и с головой погрузился в историю Древнего Египта. К десятилетнему возрасту он овладел тремя древнеегипетскими формами письменности и занялся переводом древних текстов на английский. В возрасте двенадцати лет он пересмотрел хронологию правления египетских царей и династий и с точностью, не достигнутой никем из признанных авторитетов, указал на пробелы в современной египтологии. Восторгая сверстников и обращая на себя внимание взрослых, он рано поступил в оксфордский Баллиол-колледж, где многие полагали его и его близкого друга Хьюго Сент-Джона Марлоу «величайшей надеждой египтологии». В Оксфорде оба студента трудились под водительством покойного профессора Клемента Векслера, пытаясь вместе с ним убедительно доказать либо опровергнуть существование царя XIII династии и мастера эротической лирики Атум-хаду, в те времена считавшегося апокрифическим. Трилипуш защитил магистерскую работу, однако его докторантуру прервала мировая война, во время которой его и Марлоу отправили в Египет офицерами контрразведки. Там под огнем противника двое исследователей, раскопав тропу на склоне холма близ Дейр-эль-Бахри, сумели извлечь из-под земли отрывок «С» «Назиданий» Атум-хаду, совершив гигантский шаг к тому, чтобы доказать: великий царь существовал, и именно ему принадлежит авторство переведенных ранее отрывков «А» и «В». Вскоре после этого открытия Трилипуш был назначен советником австралийской армии при взятии Галлиполи, был ранен в бою, пропал без вести и некоторое время считался погибшим. В одиночку Трилипуш добрался до Египта, прибыл туда после заключения перемирия – и узнал, что его лучшего друга Марлоу убили, когда тот отправился в экспедицию в небезопасный район египетской пустыни. После демобилизации Трилипуш, оберегая отрывок «С», привез его в Соединенные Штаты Америки, где сделал блестящую академическую карьеру. Он осуществил окончательный, пусть и неоднозначный перевод и разбор всех трех отрывков Атум-хаду и опубликовал их под названием «Коварство и любовь в Древнем Египте» (изд-во «Любовный роман Коллинза», 1920 г.). Сногсшибательные продажи этого емкого шедевра подтвердили репутацию Трилипуша – непогрешимого ученого и популяризатора науки о Египте.
Получение профессорского звания и скорое назначение на должность главы кафедры египтологии Гарвардского университета последовали за совершенным 24 ноября 1922 года, в тридцатый день рождения Трилипуша, открытием гробницы самого Атум-хаду и опубликованием захватывающего, однако же академически безупречного труда, который вы держите сейчас во вспотевших руках. Открытие гробницы Атум-хаду было мгновенно признано беспрецедентным и успешнейшим как с финансовой, так и с научной точек зрения открытием за всю историю египетских раскопок.
В 1923 году профессор Трилипуш был возведен в рыцари и восчествован правительствами и университетами всего цивилизованного мира.
Он женат на урожденной Маргарет Финнеран из Бостона, штат Массачусетс, США, фантастически богатой наследнице владельца универмага.
Среда, 11 октября 1922 года
Дневник: Встал поздно. Второй завтрак в городе. Освежаю теплые воспоминания о сказочном Каире. Изучил рынки. Приобрел карты Каира, Луксора, Фиванской долины. Приобрел лишний набор домино. Потрясен фруктовыми лавками: круглые фрукты уложены совершенными разноцветными рядами, точно великанские счеты. Свежие желтые финики. Почти черные сливы, кожица – будто ночные небеса: рассеянные облака, мерцающие звезды. Обнаружил лавку, торгующую патефонными иглами, которые, уверил меня славный лавочник, подойдут к моей переносной «Виктроле-50». В итоге по возвращении в гостиницу я испортил первые секунды песни «Ты – дивный сон, проснусь – и плачу». Вернулся к своим заметкам; продолжаю подготовку бумаг и планов, редактирую написанное вчера.
Обращение к читателю: Книга, которую ты держишь в руках, не похожа ни на один египтологический труд, ибо для того, чтобы позволить тебе уразуметь совершенное нашей командой открытие, этот том предложит тебе введение в историю правления царя Атум-хаду, а также сей дневник, который я вел во время экспедиции ежедневно, а то и ежечасно, со времени прибытия в Каир и до момента, покуда не было очищено, омыто и занесено в каталог каждое завораживающее сокровище Атум-хаду.
Мой читатель, сейчас, когда приключения наши увенчались ударным финалом и мы с дорогим другом и коллегой, исследователем Говардом Картером, сидим в гостеприимном доме нашего дорогого друга Пьера Лако, неподражаемого генерального директора египетского Департамента древностей, всего в трех милях от гостиницы «Сфинкс», откуда в октябре, три месяца назад, пустился я в свой путь, я устремляю взгляд к вечернему Нилу и приглашаю тебя вместе со мной пережить изумительное приключение всей жизни, которое готовилось 3500 лет.
Профессор Ральф М. Трилипуш 18 января 1923 года
Резиденция генерального директора Департамента древностей Каир, Египет
[До набора уточнить даты 24 ноября и 18 января – Р. М. Т.]
Дневник: 11 октября, я только закончил составление некоторых необходимых для понимания целого частей моего труда, которые позже займут в нем сообразные места. Теперь я могу приступить к дневнику с начала и пригласить моего читателя в Египет.
Я добрался до Каира вчера, а в последний раз лицезрел сей чудесный город в 1918 году. Я приехал на поезде из Александрии, где сошел с борта «Кристофоро Коломбо», который перевез меня (после железнодорожного путешествия из Бостона) из Нью-Йорка через Лондон и Мальту, где, готовя себя к предстоящей работе, я неделю основательно расслаблялся. Свою временную штаб-квартиру я разместил в розово-златом Фараонском номере мраморно-прожилистой каирской гостиницы «Сфинкс». Роскошь меня не влечет, однако где-то же нужно развернуться, чтобы переделать множество насущных дел и мириады дел грядущих, да и бостонскому консорциуму ученейших и богатейших светил египтологии и коллекционеров, снабжающих мою экспедицию деньгами, вряд ли понравится, если их лидера еще до того даже, как он отправится на юг, на участок, изнурят апартаменты без элементарных удобств.
Ибо на взгляд непосвященного обилие стоящих перед археологом задач удивительно. Приведу пример: оказавшись на участке, я стану директором огромного предприятия, который распоряжается армией рабочих и отвечает за их поведение, самочувствие, добросовестность, эффективность и жалованье. Мне предстоит обмерять, зарисовывать, включать в описи и зачастую спешно консервировать сотни различных предметов, разнящихся по величине от брильянтовой сережки до украшенных изысканными изображениями и резьбой стен огромной погребальной камеры. Я буду вести переговоры с чиновниками египетского правительства, за которыми по сей день для их же блага надзирают мудрые и неподкупные правительства Франции и Англии. Одновременно я займусь сочинением научного труда, уточнением событий, имевших место три с половиной тысячелетия назад, и, весьма вероятно, переводом новооткрытых эротических, политических и блещущих едким остроумием текстов, написанных гением на языке, уже две тысячи лет как вышедшем из обихода. Кроме того, мне придется готовить детальные отчеты для мудрых компаньонов, оплачивающих весь этот бешеный бедлам. Следовательно, если моей отправной точке не чужд некоторый стиль, того требует научная необходимость.
Кстати сказать, несмотря на всю свою хваленую роскошь, гостиница «Сфинкс» являет следы нынешнего египетского упадка. Гостиница предназначена туристам (в стране, которая неизменно была для меня рубежом науки либо армейским форпостом) и выражает характерную, очевидно неистребимую тягу современного египтянина выменять свое благородное отечество на шиллинг. Имеющийся на всякой доступной поверхности гостиничный герб щеголяет нелепой триадой в составе грифа, сфинкса и кобры, увенчанной иероглифической выжимкой девиза, предостерегающего (а кого – ума не приложу, ибо кто из постояльцев способен разобрать иероглифы?): «ГОР ПОЖИРАЕТ СЕРДЦА ПРОКЛЯТЫХ».
Гор, воплощавшийся в каждом египетском царе сокологлавый бог неба, эту гостиницу явно бы не одобрил, но и сюда, в средоточие псевдофараонских вычурных древностей, сквозь открытые окна патио доносится с Нила запах и дух истинного Египта – моего Египта, – и под паром дыхания исконного царства, что обжигает меня сквозь тысячелетия, весь современный luxe[2]2
Роскошь (фр.).
[Закрыть] номера съеживается и истлевает. Зов властителя и триумфатора Атум-хаду настигает меня даже здесь, в то время как я на балконе из хрустального бокала глоток за глотком цежу (без страха перед псами американского сухого закона, о которых я думал даже в приватном баре Финнерана) лимонад с джином и наблюдаю мой Нил, а на установленной у балконной двери «Виктроле XVII», великолепной исполинской кабинетной модели, совершает семьдесят восемь оборотов в минуту песня «Он идет своим путем, и кто ему судья?».
Отдыхая от трудов, я с беспримесным наслаждением лелею воспоминания о недавних бостонских проводах, состоявшихся, кажется, годы назад, и о вечеринке, на которой гости, включая поддержавших экспедицию заимодавцев со своими половинами, провозглашали тосты за нашу скорую удачу в Египте и отмечали мою помолвку с хозяйской дочерью. На стекло памяти наслаиваются образы: накрахмаленные вечерние туалеты и современные легкие платья, пылающие бумажные фонари, негритянский джаз-банд, размещенный во внутреннем садовом дворике; музыка дрейфует сквозь открытые двери и окна особняка Честера Кроуфорда Финнерана, что на авеню Содружества, по неуместному раннесентябрьскому зною:
Собаки – друзья
Человека от века.
Ах ты мой песик!
Дом Финнерана, и так изнемогающий от египетского декора, по случаю вечеринки обогатился двумя золотыми тронами, которые Ч. К. Ф. установил на квазикирпичном помосте в самом конце бальной залы. Вечер достиг кульминации, когда он по трем ступенькам возвел на помост нас с Маргарет, водрузил нам на головы эпатажные (и конструкционно неточные) фараонские короны, волком посмотрел на главу джаз-банда, сказал «эй, в джунглях, уймитесь!» и, подняв свой кубок, выдавил из гостей одну-две алкогольных слезинки: «Бог с ними, с песками пустыни! Во всем мире нет такого сокровища, которое сравнилось бы для меня с девочкой, сидящей на троне – и там ей самое место!» По зале прокатился шквал «о-о-о!», «у-у-у!» и «наш Ч. К. милый-милый!»; ухмыльнувшийся старый увалень захлопал в ладоши, и гомон отступил. «Но это не значит, Пыжик, что ты вернешься с пустыми руками!» Всеобщее веселье. «Не, парни, а парни, я серьезно: на что только отец не пойдет, чтобы заполучить такого зятя, а? Английский джентльмен, отменное образование, исследователь. Честно, тут мы с Маргарет заодно – мы самая счастливая девчонка на свете! В общем, топай за золотишком, Пыжик, мальчик мой, и если вернешься в золоте с ног до головы, со слитками, драгоценностями и коронами, то… – хитрый взгляд сквозь извилистые кольца сигарного дыма, – у Маргарет будет отличное приданое!» Его блистательная речь справедливо нашла отклик в сердцах гостей. Мы с моей невестой махали им руками так, что куполы наши ходили ходуном, и я сжимал ее кисть, чтобы она не уснула, поскольку от волнения хрупкий ее организм, конечно, обессилел. Веки Маргарет отяжелели, она улыбнулась и прошептала: «Здорово, правда, любовь моя? Вся эта фиеста. Мне бы сейчас сиесту…» Даже в томлении она была упоительна и благодарна отцу и мне. Толпа одобрительно заголосила, приветствуя наше обручение и успех моей операции – возможно, не совсем в таком порядке, ибо многих гостей Ч. К. Ф. подбил на партнерство в «Изыскания Руки Атума»; он в сей компании президент, я – технический консультант и акционер. Джаз-банд заиграл изощренный фокстрот и запел старую как мир и не лишенную египетских аллюзий песню о каверзах животного мира:
Коль не по сердцу тебе на одном трястись горбе,
Обходи ты с видом гордым дромадеров одногорбых.
Если ж хочешь ты болтаться, колебаться и мотаться
Между шишек между двух…
«Не так быстро, парни, – прервал их Ч. К. Ф., и инструменты замолкли один за другим, причем непонятливее всех оказались цыкающие цимбалы, – у нас тут небольшой сюрприз!» И Ч. К. Ф. вызвал из зала Кендалла и Хилли Митчелл, веселую парочку из Бикон-Хилл, с которой я уже встречался на собрании инвесторов. С Кендаллом, кроме того, я поглощал весьма благонравные коктейли в его более чем благонравном клубе, там он расспрашивал меня о прошлом и о Египте в обстановке повышенной прилипчивости и секретности. Я понял, к чему был этот допрос, лишь когда Хилли, смешливо толкнув черного пианиста едва прикрытым бедром, согнала его с места, а Кендалл, ослабив галстук, принял стойку звезды кафешантана. Пока Маргарет пыталась удержать тяжелеющие веки, я слушал музыкальный номер, сотворенный двумя завсегдатаями вечеринок, чью психику расстроили деньги и унаследованная недвижимость, двумя героями-добровольцами песенного фронта, совершавшими подвиги на полях развлечений Бикон-Хилла и Бэк-Бэя. Стихи я воспроизвожу по записи на отмеченной кружком от выпивки салфетке, которой меня одарили после выступления («Посвящается Ральфи! Откопай „мумулю“ для своего нового „папули“! Много-много щастья желают тебе твои янки, X. и К. Митчеллы»), Хилли молотила по клавиатуре неуклюжими кулачками, а Кендалл заливался соловьем:
Отпущен из Оксфорда раньше срока,
В солдатских галифе, за спиною ранец,
Шагал молодой Р. М. Трилипуш,
Зная, что век болеть этой ране.
Послали в далекий Египет его —
Сражаться с кайзером, что б ни случилось;
Несколько лет он провел на войне,
Но на кайзере это не отразилось.
В это время он потом исходил,
На карачках на Востоке пребывая.
(Не подумайте дурного – я о том,
Что копался он в песке в пустынном крае!)
Перелопатил с другом он немало земли,
Когда винтовки бошей их нашли,
Но тут раздался крик: «Черт подери!» —
Не так уж и долго копались они.
[В этом месте, как сейчас помню, Ч. К. Ф. закричал: «Не то что некоторые!» Его слова относились, я полагаю, к официантам, которые медлили с очередной порцией выпивки. «Папочка, ну что ты!» – мягко пожурила его моя Маргарет, упершись подбородком в коленки.]
О том, что они раскопали в тот день,
Все знают прекрасно и там, и тут,
Наши жены из-за этой штуки не спят,
От нее наши (гм!) мечты растут.
Они нашли веселую иероглифику,
Ее сочинил какой-то фараон.
Пыжик без купюр издал ее на английском —
И читатель вздрогнул, как испуганный слон.
[В том клубе я то и дело поправлял Митчелла, с растущим раздражением объясняя, что находят иероглифы, а не «иероглифику», и что термин «фараон», употребленный в отношении египетского царя из династии до XVIII или XIX, есть вопиющий анахронизм, который, честно сказать, оскорбляет мои уши. Атум-хаду из XIII династии следует именовать «царем», а не ивритизированной метонимией «пер-аа». Я повторил эти слова раз десять, пока на нашем столе один за другим сменялись серебряные шейкеры, в которых плескался (как официант всякий раз зычно провозглашал с неясной для меня целью) «ваш чай со льдом, мистер Митчелл!». Все же следует нехотя признать, что, быть может, «иероглифике» отдали предпочтение в угоду рифме.]
Так старик Р. М. Трилипуш сделал и имя, и состояние,
Так он воздвиг себе монумент, снискав у всей планеты признание.
Гарвард доверил ему молодежь, ну а потом он девчонку встретил —
И все мы теперь в курсе того, что он – лучший друг Ч. К. Ф. на свете!
Прихватив сердечко Маргарет, Пыжик вновь спешит на Нил,
При нем – деньжата Честера…
[музыка прерывается, и Кендалл кричит]
…и мои! И мои!
И мои! И мои!
[и показывает на гостей, которые, как и он, вложились в «Руку Атума»]
Он молил нас, он заклинал нас,
Битый час скукотищей терзал нас —
Но, клянемся Изидой, Гором и Ра,
Нам Пыжик заплатит, когда наступит пора!
[Я бы заметил, что слово «молил», пусть оно и облегчило Митчеллам задачу ритмизации строк, достойно особого разбирательства. Если не сказать жестче. Я еще вернусь к тому, кто и кого молил.]
Клянемся Изидой, Гором и Ра —
Нам Пыжик заплатит, когда наступит пора!
Затвердив этот куплет, толпа распевала его несколько головокружительных минут. В это время, к моему бесконечному удовольствию, Маргарет сверкала и сияла под полной луной, извергавшейся со стеклянного потолка бальной залы, и серебряный свет лизал синие искрящиеся веки (тем вечером они с Инге добивались «эффекта Клеопатры»). Задремала она или просто наслаждалась представлением, сомкнув очи, красота ее в тот миг, как и в любой другой, ошеломляла. На секунду мне показалось, что я достиг всего, о чем когда-либо мечтал. Парадоксально, ведь экспедиция не успела еще начаться. Я баюкал своею рукой ее изящную, мягкую кисть; всякий тонкий и длинный палец ее сочленен, словно грациозный нарцисс, склоняющийся к воде. В своей дремотной истоме она, как и всегда, представала воплощением многочисленных древних образов, украшавших залы дворцов и стены гробниц, и походила то ли на праздных дев, вырезанных в извести и светлом алебастре, то ли на длиннопалых прислужниц и богинь – манивших, пробуждавших и провожавших мучимого ностальгией мертвеца на пути в следующий мир.
Я перенес мою обессилевшую красавицу наверх, поцеловал ее на ночь и укрыл одеялом до подбородка, будто вырезанного из слоновой кости, после чего вновь низошел и отдался танцам с Инге и компаньонскими женами, часть которых близкий контакт со всамделишным египетским исследователем толкал на несовместимые со своеобычной бостонской скромностью поползновения, так что мне более чем однажды хотелось твердо, но ласково напоминать леди о сообразном положении рук в ряде популярных танцев.
Миновала полночь, из бальной залы Финнерана вечеринка выплеснулась на Арлингтон-стрит. (Сцена, которую я буду хранить в памяти вечно: мой будущий тесть, аттестующий себя «кроток аки агнец», похрюкивая от напряжения, с мальчишеским задором пинает распростертого на земле человека, попытавшегося, когда мы переместились в Общественный парк, на бегу выхватить тестевы карманные часы. Кающийся грабитель зовет на помощь полицейских. «Не волнуйся, сынок! Мы тут!» – спешно отзываются четверо служащих бостонской полиции, которых Финнеран пригласил на вечер, дабы ему не досаждали «спиртные» инспекторы. «Благодарю вас, офицеры», – спокойно произносит Финнеран и отступает, позволяя копам избить карманника более профессионально и вмешавшись лишь раз – дабы выгрести из кармана скулящего преступника деньги на «чистку ботинок, которые ты, бандит эдакий, избрызгал кровищей».)
Ч. К. Ф. велел установить в Общественном парке палатки и вертелы для жарки; зримое благоухание жареных молочных поросят поднималось к длинным серо-голубым облакам. Одни гости, увиваясь за официантками в экономных нарядах египетских девочек-прислужниц, тянули руки к их подносам либо ягодицам – в зависимости от того, чего им в тот момент хотелось. Другие кутилы, упившиеся не столь сильно, брели к утиному пруду и там производили реквизицию общественных водных велосипедов в форме исполинских лебедей либо, разоблачившись до рубашек и прозрачных сорочек, погружались в хладную воду, цепляясь друг за друга скользкими руками в мурашках.
Я стоял в стороне, довольствуясь обычной ролью исследователя-очевидца, ненадолго освобожденного от обязанностей почетного гостя. Я просто светился от счастья, и тут слева, оттуда, где гигантской зеленой медузой колыхалась низко склонившаяся ива, некто угрюмо вымолвил мое имя. Столь плотен был свод ивовых ветвей, что мы под ним были словно цирковые карлики, ждущие сигнала, дабы вылезти из-под беспросветного заплесневелого кринолина бородатой женщины. Меня влек во тьму идеально круглый, пульсирующий оранжевым огонек Финнерановой сигары, что освещал редкие струйки синего дыма (и, по всей видимости, мое лицо) – и ничего более. «Хотел пожелать тебе удачи, – сказал мой невидимый патрон, и оранжевый кружок истаял до тускло тлеющей серой окружности. – Мы тебя оценили. Не подведи нас». Оранжевый кружок разбухает и тает, разбухает и тает. «Никогда, Ч. К.» – «Я сделаю все, чтобы Маргарет была счастлива, ты же знаешь, я для нее и отец, и мать». – «Разумеется, Ч. К., разумеется», – «Я рад, что мы с тобой – одна семья», – «Премного благодарен», – «Она тебя выбрала, я тебя одобрил. Я тебя выбрал, она тебя одобрила. Не важно, кто и что, понимаешь?» – «Разумеется, Ч. К.» Оранжевый кружок ярко вспыхивает и блекнет. «Не знаю, как там у английских аристократов, а в нашей стране семья – это серьезно», – «Разумеется, Ч. К.» Оранжевый кружок. Пауза. «Помни об этом, и все дела». – «Разумеется, Ч. К.» – «Люди на тебя рассчитывают, Ральф. Много людей. От тебя многое зависит. Тебе многие доверились». Все эти слова были только робкой прелюдией к тому, чтобы вручить мне большую деревянную сигарную коробку с инкрустированным орнаментом в виде черных завитков, полную сигар, лично отобранных лучшим табачником Бостона и снабженных ярлычками с серебряной монограммой «Ч. К. Ф.». И оранжевый кружок его сигары таял и рос, таял и рос…
…прямо как сегодня утром, на восходе 12 октября, оранжевая заря появляется на восточном берегу Нила. Я провел эту ночь за работой, подкрепляясь лимонадом с джином и подслащенным мятным чаем из высоких золоченых бокалов. Мой палец движется по черным как смоль резным завиткам сигарной коробки, в недрах которой ныне помещается набор отличных кистей и чернил – дабы перерисовывать настенные росписи, которые я надеюсь отыскать в гробнице Атум-хаду. (Я не курю сигар, но из них получится отменный бакшиш, да и сама коробка чрезвычайно красивая.) Сидя на еще теплом балконе, я наблюдаю рассвет и изучаю полурастворившийся в чае кусок сахара, весьма похожий на крошащийся краеугольный камень храмовых развалин.
Полтора месяца спустя мне стукнет тридцать, а я с давних пор хотел отметить эту дату здесь, в стране моей мечты, одержав к сему рубежу беспримерную победу, коя оправдает тридцать прожитых лет. Вспоминая бостонский прием в честь моего отбытия и царя, чей покой не тревожили 3500 лет, я почти желаю, чтобы здесь, на стремительно светлеющем балконе каирской гостиницы, мгновение остановилось.
Я вовсе не хочу ляпнуть, что, мол, не желаю стареть, предпочел бы избежать тучности среднего возраста и блуждания в смутных сумерках старости. Нет, я желаю сказать, что здесь и сейчас, в начале начал расцвета моей жизни, меж незамолкшим пока треньбреньканьем репетиции победы и громогласным триумфом, до которого остались считаные недели, может же хотеться вечно внимать сопрано конкретного москита, зудящего в самое ухо; вечно наблюдать именно и только за этими мошками, бесконечно вьющимися в нервической нерешительности, завороженными тем солнцем, что вскоре их спалит; ощущать колючее тепло вот этой вот чашки с мятным чаем, которая вечно греет каждую клеточку кожи на кончиках трех пальцев; вечно следить за этим сахаром, что медлит распадаться. И кровь закипает в жилах, когда подумаешь, что этот трепещущий, сияющий оранжевый миг со всеми его вероятностями и возможностями каким-то образом удастся схватить и удержать в едва сжатом кулаке. Что можно гладить и изучать словленный момент и ощущать ладонью его бархатистость, что в моих силах застыть и дрожать на краю, и не бросаться стремглав в будущее, пока я сполна не наслажусь настоящим. Представь себе, мой читатель, человека, взбирающегося на высокий, крутой холм. Идут годы, и вот впереди уже маячит вершина, и ты осознаешь, что выбор невелик: либо перейти вершину и спускаться все ниже и ниже, либо… продолжать двигаться в том же направлении, к которому приспособился, которое возлюбил, продолжить путь, которым шел, шагать неизбывно вверх, забыть о тенетах сомнительной земли и возвыситься, презрев всё и вся.
Ты в своем мягком удобном кресле сейчас привстаешь и удивляешься: как так? Почему Египет? С чего бы желать зарываться в песок? Я могу сказать лишь одно: египетские цари продолжали подъем. Они завладели изысканными мимолетными мгновениями и заточили их в удобные клети. И спеленутые трупы, и разложенные по канопам органы, и картиночный алфавит, и боги со звериными головами убеждали лучших из египтян, что им задолжали вечность, что они жили и будут жить в ими же избранном настоящем, забыв о наваждениях прошлого и угрозах будущего, окруженные роскошью настоящего, которое продлится так долго, как они того пожелают, и когда отпускать миг блаженства на свободу – решать только им, и не будет над ними деспотии каких-то дней и ночей, луны и солнца.
Маргарет, позволь, я поделюсь с тобою темным воспоминанием из моей сияющей юности? Тебе оно не понравится, зато многое объяснит. Помню, когда я был мальчишкой, деревенский викарий метал громы и молнии (и предметы потяжелее) из-за того, что я был одержим Египтом. (Такое случалось, разумеется, лишь когда отец мой уезжал за границу, в экспедицию, и не мог защитить меня от гнусного священника. Бывало, я уходил из поместья, прочь от родного очага, и бродил по деревеньке, располагавшейся близ наших угодий; тамошний викарий не понимал, кто я и откуда.) Так или иначе, время от времени он внезапно представал передо мной. Меня легко было застать врасплох, я с детских лет привык грызть гранит науки и пребывал в счастливом неведении относительно того, что происходит вокруг. Он выхватывал мои бумаги и комкал листы с умело нарисованными иероглифами. Он разражался зычными угрозами и заводил в угаре свою обычную песню: «Мальчик, думаешь, это мудро – увлекаться культурой, почитающей смерть?» В десять лет я уже знал правильный ответ на вопросы его катастрофического катехизиса. «Вы правы, отец. Куда лучше радоваться жизнеутверждающим картинам культа, возводящего в абсолют прибитый к доскам и истекающий кровью труп». Разумеется, отвечая так, я должен был приготовиться к порке или чему похуже.
Но вот что мне стало понятно уже тогда: египетская культура – обращаю внимание читателя, который этого пока не ведает, – невзирая на мумии, печенки в бутылках, людей-шакалов и цариц-кобр, не почитала смерть. Египтяне изобрели бессмертие – первые люди, осознавшие, что их удел – жить вечно.
Атум-хаду писал:
Иду с богами я. Неспешно мы гуляем.
А то и вовсе, утомившись разговором,
На камень сядем и, расслабясь, наблюдаем
Е*ущихся козла с козою под забором.
(Катрен 13, есть только в отрывке «С», из книги Ральфа М. Трилипуша «Коварство и любовь в Древнем Египте», изд-во «Любовный роман Коллинза», 1920 г.)
Дом престарелых «Гавань на закате» Сидней, Австралия 6 декабря 1954 года
Мистер Мэйси!
Изучив людей (а мне, сказать по чести, случилось повидать все, что только бывает на этом свете), я пришел к выводу, что за любым действием скрыт один из пяти мотивов. Мотивы эти, сами понимаете, не тайна за семью печатями: деньги, голод, похоть, власть, самосохранение. Вот и все. В зале суда и в кино по-разному объясняют, почему-де такой-то стал премьер-министром или кокнул соседей, да только это все маскировка. Прислушайтесь – и вы поймете, что они жонглируют все теми же пятью шарами, пытаясь отвлечь вас болтовней не по делу. Никто и никогда ничегошеньки не сделал по иной причине, кроме этих пяти.
Все это имеет прямое отношение к рассказу про Пола Колдуэлла и Кэтрин Барри, большевичку, прежде работавшую в библиотеке. Это рассказ про властолюбивую изменницу, которая заправски играла на чувствах ранимого юноши и увлекла его в бездну разврата. История трагической гибели Пола в Египте начинается в тот момент, когда Кэтрин Барри, холодная, опасная, жгучая красавица, подтолкнула восьми-девятилетнего мальчика к его судьбе.
Передо мной сейчас лежат реконструкция беседы с мисс Барри (10 июля 1922 года), ее письмо с типичными оправданиями, запись разговора с ее братом (11 июля 1922 года) и краткое заключение, которое я написал для окончательного рапорта, отправленного в Лондон. Еще у меня есть письмо от Рональда Барри (брат), в котором он просит меня разыскать любые свидетельства того, что Пол жив, а коли жив – конфиденциально сообщить Рональду, где тот проживает. Рональд, зуб даю, хотел Колдуэлла прикончить. Само собой, до этого не дошло, и все же разумно будет вспомнить, что никто не нанимал меня Пола Колдуэлла защищать.
В итоге память моя освежена, ей не мешают даже вопли собратьев по престарелости, которые немощно тузят друг друга, пытаясь завладеть неполной колодой драных карт. Я делал записи по ходу, расшифровывал их дома, потом опять переписывал для рапорта в Лондон, теперь вот наново дополняю текст для вас. Согласитесь, нашим читателям откроется убедительная картина. Коли вы посчитаете нужным что-то добавить – пожалуйста.
Ну так вот. Полу – восемь лет. Или девять. Или десять. Завоевание сердца миссис Хойт в девятнадцать, цирковой номер со змеями, карманничество на рынке – все это его еще ждет. Перед нами – маленький мальчик, посещающий государственную школу. Тихий, замкнутый (что неудивительно) пацан, он молча сносит свою порцию побоев от Юлейли и приваженных ею мужиков. И нет у него жалости к младшим жертвам, к собственным братьям-сестрам, а все оттого, что когда Юлейли Пола не колотит, она его приголубливает и говорит, мол, всем этим немытым детям до тебя как до небес, потому как ты есть сын знатного джентльмена Барнабаса Дэвиса, который кабы не сгинул в море и не потоп на обратном пути в Австралию, забрал бы Юлейли и Пола с собою в Лондон. «Мать Пола слепо благоговела перед богатеями и кормила мальчика россказнями про классовое превосходство, хотя сама жестоко страдала от нищеты и угнетения», – сказал один из Барри, кто именно – у меня не записано. Оба они были «красными» до мозга костей, Мэйси; не хочу вас пугать, но встречаются такие кадры и среди антиподов. Они пропитались нечистой, заразной философией большевизма насквозь, они лелеяли ее даже после того, как она их потопила.
По словам Рональда Барри, у которого Пол учился, в школе мальчик, за исключением одной детальки не представлял собой ничего особенного. Такой тихоня, грязный, конечно, как и почти все дети бедняков, но воспитанный, сидел смирно, делал что говорят. «По большей части мы старались присматривать за маленькими ублюдками, чтоб они не вляпывались в неприятности, – сказал Рональд. – Учить их чему бы то ни было на самом деле не разрешалось. То же угнетение, только другими средствами: надо было притвориться, что чему-то там их учишь, а на деле морочить им головы, чтоб они смирились с тем, что уготовил им господствующий класс».








