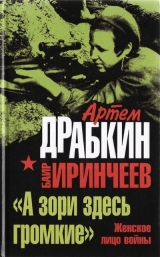
Текст книги "«А зори здесь громкие». Женское лицо войны"
Автор книги: Артем Драбкин
Соавторы: Баир Иринчеев
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 15 страниц)
КУНИЦИНА Нина Ивановна
Меня зовут Нина Ивановна, девичья фамилия Зинченко. Я родилась в 1923 году в Сибири: Красноярский край, город Иланск. У меня два брата были летчиками, но они погибли во время войны. Когда началась война, мне было 19 лет, я училась на курсах, была комсомолка, активистка. Училась в аэроклубе, прыгала с парашютом. Мы, девушки, мечтали попасть в летное училище, но в то время девушек прекратили брать. Нам сказали: «Не волнуйтесь, летчиками не будете, замужем за летчиками будете!» Вместо летного училища меня послали на курсы бухгалтеров. Но чтобы не отдаляться от авиации, мы пошли на парашютное отделение. У меня пять парашютных прыжков, и значок у меня был, но, когда я лежала в госпитале после ранения, во время бомбежки все документы пропали.
Когда началась война, мы, шестеро девушек, добровольно подали заявление, чтобы нас взяли на фронт. В военкомате я попросила: «Ближе к авиации – только меня в десантные войска не надо». Этого я немножко боялась. Но меня направили в находящуюся в Красноярске школу ШМАС – младших авиаспециалистов. Нас там обучали месяца три: заряжать авиапушки, пулеметы, чистить их. Мы их на себе таскали, а авиапушки очень тяжелые. Когда мы эту школу ШМАС окончили, нас сразу послали на фронт: под Сталинград, в Среднюю Ахтубу. Из Красноярска, из этой школы, нас перевозили под Сталинград на пассажирском «Дугласе». По пути нас обстреляли, но, к счастью, все обошлось благополучно. И вот нас привезли в Среднюю Ахтубу как пополнение. Там стоял 15-й авиаполк, и там мы начали служить. На фронте были всякие катавасии. Были обстрелы, когда самолеты штурмовали наш аэродром – тогда, конечно, многих ранило, были убитые. А мы молоденькие девушки, патриотки, – мы этих раненых тащили в окопы и, пока самолеты не уходили, сами ложились сверху. Жизнь летчиков была важнее! О нас даже в газете написали.
Еще был момент во время войны, уже в другом полку: не под Сталинградом, а где-то на Кубани. Мы были закреплены за самолетами, и я обслуживала «свой» самолет. И вот у моего командира во время воздушного боя пушка не стреляет. Хорошо, что этот летчик жив остался! Он доложил командиру, что у него пушка не стреляла по вине младшего авиаспециалиста – так мы назывались. Раз мы заряжали, значит, наша вина. Ну и всё! Меня сразу туда, сюда… Командир полка перед строем объявил: «под трибунал». Я жутко переживала! К счастью, дня через два всё разъяснилось. Инженер, начальник над младшими специалистами, оружейниками, все обдумал и доказал, что здесь нет вины оружейника. Во время воздушного боя самолет крутит так-сяк, и эта лента перекосилась и застряла. На этом самолете все разбирали, смотрели – и так оно и было, что лента застряла. Короче говоря, меня оправдали. Я ему была очень благодарна. И таких перипетий было много. Нам, девушкам, было очень трудно, особенно тем девушкам, которые вели себя очень строго, сохраняли свою девственность. Тем девушкам, которые вели себя по-другому, им было легче. Они в наряд не ходили, были на легкой работе. Потому что они с командирами дело имели. Одна у нас даже с генералом, с командиром дивизии, жила. Она была на первом счету, красавица. А мы, наоборот, себя вели, как тогда было принято. Я всегда на собраниях выступала: «Девки, не позорьте нас. Если одна позволяет…» Даже был такой случай: мы одну из наших били, бросались в нее сапогами. Она жила «туда-сюда». Мы говорим: «Ты делаешь это, а на нас на всех пятно ложится!» В то время было такое воспитание – строго сохранять девственность. Той девушке вся эта атмосфера на психику повлияла, и ее отправили домой… А почему еще многие девушки этим занимались? Потому что забеременела – и домой отправляют. А мы, мол, на фронте, дуры. Но мы были не дуры, а патриотки. Все равно я не жалела!
– Прессинг был постоянный?
– Нам, девушкам, всем так доставалось. Молодые ребята, и изо дня в день такая напряженка. Спать отдельно могли только на некоторых аэродромах, где были отдельные землянки для нас, девушек. А так общие нары. Лежат, раздвинь их и ложись, и начинается борьба с руками… Мы прощали: что делать, физиологические потребности. Но нам доставалось… Мне моя родная мамочка писала: «Доченька, миленькая, твои подружки поприехали домой, деток родят, а ты чего там остаешься? Я тебя не буду ругать за ребеночка». Много было таких писем. А я нет, я патриотка, разве можно? Раньше, в то время, большинство таких было, у нас было более строгое воспитание.
– Те, кто сдавался, они были старше или вашего возраста?
– Разного возраста. Может быть, на год старше, почти одногодки. Самое большее на три года. Одна живет в Москве – Зина Цветкова, мы с ней не общаемся, она со всеми жила. Мне с ней не хотелось продолжать знакомство. Для них была совершенно другая жизнь: то сделай, то напиши, то подпиши. А мы день вкалываем, самолеты обслуживаем – и ночью с винтовочкой, по 4 часа подежурь!
– Много у вас уехало по беременности?
– Да. Девушек в полку было немного: человек по 16–18, не больше, – потом новых прислали. И за все время человек шесть уехало. Плюс до конца войны Лида вышла замуж по-нормальному и я. Остальные устраивались, кто как мог. Наша жизнь была тяжелая, очень трудная. Больше всего мы переживали за летчиков. Говорили, их жизнь стране нужна. Они пользу приносят, убивают фашистов. А наша…
– По нормам вам полагалось женское белье? В чем вообще ходили?
– Всё давали мужское. Кальсоны: что тут – пуговицы, и все. Так мы сюда пришивали бинты, чтобы затянуть можно было. Для безопасности, а то пуговицы легко открыть. Остальное все мужское носили. Не помню, давали нам юбки или нет. Но давали сапоги, шинели, шапки.
– Лифчики сами шили или вообще не носили?
– Этого у нас и не было. Из чего там шить? Не из чего! Самое трудное, когда критические дни. Ведь такая обстановка – все общее. Нам медики помогали, давали нам вату.
– В это время не освобождали?
– Нет. Так же в караул и обслуживать самолеты.
– При всем при этом после войны отношение к женщинам, которые были на фронте…
– Плохое. «Была на фронте, фронтовичка».
– Сколько примерно лет после войны такое продолжалось?
– Лет десять так было. Много зависело от прессы, как это преподносят. Потом, когда стали писать в журналах, газетах, как было трудно женщинам на войне, сколько летчиц-женщин было, их заслуги – тогда изменилось отношение. А то только с плохой стороны обрисовывали!
– От чего это шло, от зависти или действительно от поведения?
– Тех, кто раньше уехал, когда мы остались, – их тоже осуждали. Затрудняюсь объяснить почему, не знаю.
– Не было желания найти постоянного покровителя с большими звездами?
– Был такой момент: все спят и эта самая москвичка Зина, которая жила с генералом, будит меня: «Вставай, вставай!» Она приехала со своим генералом, командиром дивизии, и с начальником штаба. «Вставай, поехали!» Я говорю: «Отстань, ты что, с ума сошла?!» – «Поехали, дура! Война закончится, ты машину в глаза не увидишь. А тут будешь на машине ездить, тебя будут возить». Я говорю: «Отстань!» Мы друг друга по лицу били, но я так и не поехала. Но никаких эксцессов не было, обошлось нормально.
– Жили сегодняшним днем или строили планы на будущее?
– Нет, планов на будущее не строили. Как-то так жили, чтобы все было честно, справедливо, – а что там дальше будет в жизни, бог ее знает. Было мало надежды, что война закончится, об этом мало думали. Никто нам про это не говорил. Хотя политруки были.
– Что было из радостей? На танцы ходили, это было приятно?
– Эго разнообразие, это давало стимул. Но это редко было! Где-то позволялось, но бывала такая обстановка, что и обстрелы могли быть ночью. Так что редко было.
– Если бы сейчас вернуть молодость, вы бы так же пошли или нет?
– Да. Такую же свою линию и продолжала бы. Если знать, что все благополучно закончится, я бы пошла на фронт. Тогда не было надежды на жизнь, а если бы была надежда, то согласилась бы пойти. Но я не сожалею, что вела правильный образ жизни.
– Вам в принципе полагалось 100 граммов?
– Мы не пили. Нам табак полагался, и мы его меняли.
– На сахар?
– Сейчас не помню. Не пили, не курили. Некоторые курили, а пить – нет, этого не было. Ну, нам по 20 лет было – в то время питьем мы не увлекались.
– Когда вы с мужем познакомились?
– На Кубани. И здесь тоже был интересный случай. Девушкам, которые вели себя прилично, нам было очень трудно – много было домогательств. Мы ребятам сочувствовали, конечно. Молодые ребята, такая у них физиологическая потребность, поэтому мы прощали все: никаких строгостей, никому не ябедничали. И вот был такой случай. Начальник штаба, подполковник, подходит ко мне: «Командир приказал вечером после ужина в такой-то час явиться», – вроде он будет мне какое-то задание давать. Говорю: «Есть, товарищ подполковник!» Наша служба такая и была. Но я уже была настороже. Он жил с командиром дивизии, они вдвоем в одной земляночке жили. И вечером, после ужина, командир ушел – создал ему условия. Я вошла к нему: «По вашему приказанию явилась». Смотрю, он подошел и дверь закрыл на крючок. Меня это еще более насторожило. И когда уже начались физические действия, я сопротивлялась, сколько было сил. Бог есть на белом свете, он меня спас. Подполковник устал, утомился – и я в это время как сиганула, выскочила на улицу. Тут же было наше общежитие. В летном общежитии летчики спят в ряд: раздвинешь и ложишься. Без конца лезли – но вот так мы жили. А что делать? В такой ситуации было очень трудно… Я должна была идти ночью в наряд, а там был парень, нацмен. И он меня не разбудил, не позвал, мои часы сам отстоял. Он видел, что я выскочила как бешеная оттуда.
После этого случая начальник штаба мне еще раз назначал явиться. Но я туда не явилась – а тут бомбежка началась, и его ранило. Тогда много было раненых. Когда прибежали и сказали, что ранен начальник штаба нашего полка, я перекрестилась. И тогда меня особый отдел начал таскать. Мои подружки потом доказывали, что действительно он меня вызывал, я страдала из-за него. Думаю: «Хоть не будет меня преследовать». В конце войны на встрече однополчан он встал на колени, просил прощения, просил забыть это дело. Он был намного старше меня и потом умер.
Потом был еще один момент – и тоже это начальник был. Была схватка, и он, чтобы меня запугать, выстрелил в чугун, какие у нас стояли в землянках, где мы жили. Я не испугалась, думаю: «Мне страшней, когда моих сил не хватит». Я снова вырвалась, была зима, я на улицу выскочила в одной гимнастерочке. Стою, плачу в уголочке. И тут Виктор Александрович. У нас тогда только слегка нежные отношения были. Он, видно, услышал, вынес мне телогрейку, на меня набросил – и сразу убежал. Потому что могут и его… «Что ты, мол, ее защищаешь, это их дело!» С тех пор я перед ним таяла. Никто не выскочил, а он выскочил.
Короче говоря, так у нас симпатия началась. У нас дружба была воздушная, легкая, не то что сейчас – сразу в постель. Мы танцевали, когда танцы были, в трудные моменты помогали друг другу. Условия очень трудные, сложные. Я его, как мужчину, понимаю, но говорю: «Нет, пока нет. Женишься, тогда хоть ложкой хлебай, а сейчас ни в коем случае». Такие строгие условия ему поставила! У летчиков был ужин, и во время ужина он летчикам объявил, что женится. И вот они вечером приходят с ужина и меня поздравляют. А мне он ничего не говорил! Когда они меня поздравлять стали, я поняла, что он согласен. Ну а я раз полюбила – что же я буду отказываться? Короче говоря, условия он мои выполнил. Мы поженились 11 апреля 1945 года: летчики нам устроили свадьбу в столовой. Хотя даже перед женитьбой ему многие говорили: «Ты чего на ней женишься, я с ней был, другой с ней был». Они так говорили потому, что не получили ни шиша! А он молодец, не обратил на это внимания.
На фронте я всегда была Зинченко, почти до конца войны. Потом после войны мы были в городе Шауляе, там расписались, зарегистрировались, и только когда мы официально оформили свой брак, тогда я поменяла фамилию.
– Когда вы поженились, стало легче?
– Конечно. Я обрела статус, защиту. Нам создали условия – ширмой отделяли.
– Как провожать любимого летчика на боевые вылеты?
– Это очень трудно. Когда его сбили – это было столько переживаний, вообще немыслимо!
– Когда закончилась война, как это воспринималось?
– Это ночью объявили: мы все спали, и вдруг нам объявляют. Все выскочили на улицу, «ура» орали, кричали, уже спать не ложились. Обрадовались!
– Демобилизовали вас скоро?
– Нет. После этого мы еще служили, и только через полгода нас стали расформировать. К тому времени я уже была замужем, была с мужем. Он меня отправил в Москву – там у него были родители. И в Сибирь я с ним ездила.
– К концу войны трофеи были?
– Какие трофеи, откуда? Наоборот – свое теряли. Я во время бомбежки документы потеряла. Когда обстреливали, у меня немножко была рассечена бровь – такое, касательное ранение. Хорошо, что в бровь, а не в висок попали.
– Награды у вас были?
– У меня такие награды: орденов нет, но есть медаль «За боевые заслуги».
– Какое в то время у вас было отношение к немцам?
– Когда война закончилась, мы стояли в карауле и видели, как их на машинах везли и сгружали в землянки. Они там как бревна лежали, замороженные, мерзлые. Потому что кто их будет спасать, на кой черт они нужны? Лежали в землянке, как мерзлые дрова. Звери, враги!
– Какое время года было самым тяжелым?
– Естественно, зимой труднее. Холодно было, землянки сами отапливали.
– С точки зрения работы на самолете что было самым тяжелым?
– Для нас самым тяжелым было тащить пушку. Пулемет-то полегче, а пушка 70 с чем-то килограммов. А мы же сами тащим – кто нам будет помогать?
– Куда ее тащить надо было?
– На землю. Мы их на земле чистили, а потом прешь туда, ставишь. А технику некогда, он несколько самолетов обслуживал. У нас был старший техник, а мы были младшие авиаспециалисты.
– Ленты снаряжали вы сами?
– У нас были готовые патронные ленты. Мы только пушки и пулеметы устанавливали и чистили оружие.
– Кормили как?
– Летчиков кормили хорошо. Они того достойны были, заслуживали. А нам много тогда не требовалось, хватало. Не голодали: была похлебка, суп, каша.
– Вы получали деньги?
– Нет, никаких денег. У меня была только красноармейская книжка.
– Денежный аттестат?
– Этого у нас не было. У офицеров были.
– В то время вы верили в Бога?
– Сейчас стала верующая, после смерти моей доченьки стала верующей. Тогда, когда подполковника ранило, – это я просто невольно перекрестилась.
– Домой что писали в письмах?
– Я даже дневник вела, все подробно описывала. Потом мы его сожгли, это тяжелые воспоминания. Писала, что все хорошо, прекрасно, нормально. Только когда мама меня звала, чтобы я приехала насовсем, я писала: «Нет, мамочка, ты меня прости, я не могу. Я на собраниях выступаю и всех за это осуждаю». Я патриотка была!
– Вы считаете, что женщины нужны на фронте?
– Конечно! Мы же не только с вооружением работали – мы и помогали, и стирали, подворотнички подшивали.
– Сейчас хотелось бы забыть то время?
– Это невозможно забыть.
– Война снится?
– Нет.
– Была ли война основным событием в жизни?
– Нет! Самое важное – это семья, дети. Послевоенная жизнь важнее.
(Интервью А. Драбкин, лит. обработка А. Драбкин, С. Анисимов)
ТАБАЧНИКОВА Евгения Константиновна
Я родилась в 1923 году в Ленинграде. Причем я ленинградка не знаю уже в каком поколении – все мои родители и бабушки из Ленинграда. Мама и папа умерли рано – мама в 1933-м, отец в 1935-м, и воспитывала нас бабушка: нас трое осталось, младше меня два брата. В школу я пошла уже подготовленной, потому что моя мама была преподавательницей. 2-й и 3-й классы я закончила за один год, поэтому окончила школу быстрее, чем все остальные. После окончания школы я сначала хотела на курсы поступить, а пока у меня был перерыв между школой и работой, я закончила РОККовские [16]16
РОКК – Российское общество Красного Креста. Существует с 1879 г., когда в РОКК было преобразовано существующее с 1867 г. Общество попечения о раненых и больных воинах. (Прим. ред.)
[Закрыть]курсы. Потом по знакомству меня устроили на работу на заводе имени Сталина (это сейчас Ленинградский металлический завод, ЛМЗ). Мы с подругой, Кочневой Александрой Васильевной, начали работать чертежницами-копировщицами на заводе в отделе главного технолога. Это было в январе 1940 года. До войны на производствах и в школах были учения – особенно часто перед самой войной. Я была в местной сандружине, и Саша Кочнева тоже в ней была.
В 1940 году одного моего брата определили в детский дом, потому что бабушке уже было 55 лет: тяжело ей было уже, мальчики есть мальчики. В январе 1941 года второго брата тоже определили в тот же самый детский дом № 9 – он был на Театральной площади; не знаю, существует ли он там сейчас или нет. Летом 1941 года детский дом уехал на дачу в Васкелово, но старший брат убежал к бабушке домой. Рано утром 22 июня 1941 года мы с моей молодой соседкой по коммунальной квартире повезли его в Васкелово в детский дом. Там мы погуляли, потому что было воскресенье, выходной день, и о войне мы ничего не знали. Только вечером, когда пришли на станцию, мы вначале не поняли, что случилось – туча народа. Поезда не было очень долго, и когда вечером пришел поезд, то мы ехали на крыше. Как мы садились, один Бог только знает. Тут мы услышали, что о войне говорят на вокзале, но сначала мы даже не поняли, что война началась прямо сейчас. Когда я приехала домой, уже было около 12 часов ночи. Я включила свет, и бабушка мне сразу говорит: «Ты что, светомаскировка объявлена – война!»
Когда Сталин выступил по радио 3 июля 1941 года и сказал о создании отрядов народного ополчения и отрядов партизан, то уже 5 июля на заводе был сформирован полк народного ополчения. Когда мы провожали ополченцев, они проходили мимо бюста Сталина. Мы с подругой пошли в комитет комсомола, чтобы добровольно пойти в армию. К Александре вопросов не было, она повыше меня и пополнее, а я маленькая, худенькая, и меня спрашивают: «Сколько вам лет?» – а мне неполных восемнадцать! У меня выскочило: «Девятнадцать». Мне ответили: «Хорошо, принесете завтра паспорт». Наши конструкторы научили меня подчищать с кальки ошибки на чертежах и подчищать тушь. Я взяла свой паспорт, стерла троечку в конце года рождения и поставила единицу. Но паспорт в результате никто у нас и не проверял. 11 июля нас вызвали в комитет Красного Креста, сказали оформить доверенность. Тому, кто уходил на фронт, среднемесячный заработок оформляли на родственников (была такая практика для тех, кто уходил добровольцем). Я оформила доверенность на мою бабушку, а 12 июля 1941 года нас уже провожали в армию. С завода уходило нас тридцать девочек. Старшая отряда была, по-моему, Ева Бравая.
Нас провожали в «сталинский полк». Звучала торжественная музыка, построили нас, был митинг – я даже сейчас немного волнуюсь, когда вспоминаю это. Торжественный митинг, и вдруг – тревога! Все убежали в бомбоубежище. Потом, после отмены воздушной тревоги, митинг продолжили, и нас проводили в полк. После этого даже заметка была, нам приносили ее в полк и показывали. Я, когда бежала, споткнулась, чуть не упала, – и даже это было упомянуто в заметке. Когда мы уходили 12 июля, мы были в своей гражданской одежде, даже туфельки на каблучках были. Нам сказали только смену белья взять в районном комитете Красного Креста. Обмундирование мы получили только после принятия присяги.
Я училась на радиста. На стрельбище, на Большой Охте, нас учили стрелять. А потом получилось так, что ночью объявили боевую тревогу, полк сразу на фронт, а нас, девчонок, – в Мечниковскую больницу. Я работала в 14-м павильоне: точнее, мы вместе с Шурой там работали медсестрами. Мы и перевязывали, и ухаживали за ранеными – всю работу делали. Первый раненый, при операции которого я присутствовала, был ранен осколком в ягодицу. И у меня на глазах врач полез в рану пинцетом. Я почувствовала, как у меня холодеют щеки, кровь отливает от головы, меня начинает кружить, и я чувствую, что сейчас упаду. Врач, как это увидела, на меня как гаркнула – и сразу все прошло. Приказала мне: «Перевязывай!» Вот такой фокус был с первым раненым…
В Мечниковской больнице мы проработали до ноября 1941 года. В ноябре госпиталь стал эвакогоспиталем – сразу за больницей была колея, и раненых эвакуировали на поезде. Госпиталь стали расформировывать, говорили, что он пойдет на фронт. А тут в больнице я познакомилась с одним врачом из 20-й дивизии НКВД [17]17
В описанный период времени – 20-я стрелковая дивизия Внутренних войск НКВД СССР. (Прим. ред.)
[Закрыть]– он приходил одного бойца навещать. Они на отдыхе стояли после Невской Дубровки. Поговорили с ним, и говорю Шуре: «Давай пойдем, попросимся. Что мы тут будем сидеть?» Тем более что голодали все уже, и армия тоже. Нам теперь говорят блокадники: «Вам в армии было хорошо, это мы с голода помирали». Так у нас паек был 300 граммов хлеба, а выдавали только 150 граммов сухарей, которых было не размочить и не разжевать. И два раза в день похлебка пшенная, в которой крупинка за крупинкой бегает. Так что у нас, у девчонок, вся наша женская физиология была нарушена. Несладко и в армии было!
Нам с Шурой сказали, где стоит штаб полка 20-й дивизии НКВД, и мы с Шурой потопали туда, на улицу Герцена. Когда пришли, нас сразу, конечно, взяли в полк. Вот так я попала в дивизию: неофициально, без документов, и поэтому в полку мне присвоили звание сержанта вместо бывшего лейтенанта медицинской службы. Мне тогда не до званий было.
Номер полка, в который мы попали, был 9-й полк НКВД. После тяжелых боев на Невском пятачке он стоял на пополнении и отдыхе на Большой Охте, в здании школы. Мы с бабушкой жили на 10-й Советской улице, в Смольнинском районе, и мне через Неву было совсем недалеко до дома. Это сейчас Нева не замерзает, а тогда она замерзла очень крепко – я к бабушке по льду бегала домой. Мы с Шурой ей собирали какую-то посылочку, и я ей относила. Всегда, когда я туда приходила, чувствовала, что это еще жилое помещение – печка топится, тепло еще более-менее. А тут я прихожу 5 февраля 1942 года, а дома как-то неуютно, она сидит в пальто, руки в рукава. Не топлено. Я сразу почувствовала, что что-то не то, что-то случилось. Спрашиваю: «Бабушка, что случилось?» Она говорит: «У меня украли карточки и хлеб». – «Как так случилось?» – «Я в 6 часов вечера шла домой с хлебом и карточками, под аркой меня стукнули по голове и все отобрали». Я говорю: «Так зачем тебе было так поздно за хлебом идти? Ты же не работаешь, могла бы днем сходить!» Она мне в ответ: «В городе не было три дня хлеба». Вот от нее я узнала, что в городе в феврале хлеба не было три дня. По ее словам, она сутками стояла в очереди, чтобы получить хлеб. Выдали хлеба сразу за четыре дня, и вот такое случилось. Но какая же была солдатская дружба у нас! Девушек у нас в роте было мало, пока еще были мужчины. Я пришла обратно в санроту совсем расстроенная – и поделилась с Шурой своим горем. А та рассказала старшине. Нам как раз хлеб выдавали, а не сухари. Его, как правило, резали потом один отворачивался и говорил, кому какой кусочек. И вечером, перед тем как этот хлеб делить, старшина объявил, что у Жени вот такое горе с бабушкой и, может быть, рота могла бы ей выделить эту буханку хлеба? И ни один солдат не возразил, хотя все сами были голодные и опухшие. Меня отпустили, я ее завернула, переоделась в гражданское и скорее побежала домой – принесла хлеб. Потом периодически прибегала и еще приносила ей немного еды – нам прибавили паек с февраля 1942 года. Уже не 300 граммов хлеба, а 500 граммов хлеба давали. Уже мясо стало где-то какое-то появляться в похлебке. Так что у нас стало немного получше. Но все равно бойцы все ходили опухшие и пили жидкости очень много. 19 февраля я была у бабушки в последний раз, потому что знала, что мы скоро уходим из Ленинграда. Предупредила ее, чтобы она меня не искала. А 18 марта она все-таки умерла…
Один раз зимой в блокаду я шла по городу и увидела штабеля, как мне показалось издали, дров. Я думала про себя: «А говорят, в городе дров мало!» Когда я подошла ближе, увидела, что это покойники лежат штабелями… В блокаду я слышала разговоры, что людей едят. Один раз я шла по середине улицы и услышала какие-то шаги сзади, будто кто-то меня нагоняет. Я перепугалась, потому что ходила по городу без оружия. Повернулась – оказывается, это просто солдаты шли, а я напугалась. Но слухи о людоедстве в городе были. После войны мне даже показывали на одного ленинградца, который промышлял людоедством во время блокады. Были и такие, что детей своих съели. Говорили, что человеческое мясо такое вкусное, что стоит только попробовать, как после этого уже невозможно перестать его есть. Я лично не смогла бы съесть человеческое мясо, а вот дохлую конину ели в то время все. Один раз мы в окружение попали на Украине, нашли дохлую лошадь. Воняло от нее страшно, так мы ее вымыли, вычистили и на костре мясо сварили. Голод не тетка! Но это все-таки конина была, а не человеческое мясо.
После отдыха наш полк пришел в Дибуны. Мы там были недолго. Сам поход был тяжелый, кто-то совсем еле-еле шел. Мы, девочки-санитарки, бегали и перевязывали ноги, потертости у бойцов. Нам сидеть было некогда – все время кому-то надо было дать попить или еще что-то. В марте месяце мы сменили, по-моему, 10-й полк [18]18
В состав 20-й стрелковой дивизии Внутренних войск НКВД СССР входили 7-й пулеметный, 8, 9 и 10-й стрелковые и 20-й артиллерийский полки внутренних войск НКВД, а также отдельный разведывательный батальон. (Прим. ред.)
[Закрыть]на Меднозаводском озере. Остальные полки, я не знаю, где были, потому что я не имела привычки бегать везде и вынюхивать, что вокруг происходит. Несмотря на то что там находились сооружения Карельского укрепрайона, мы жили в землянках. И вообще, где бы я ни была на фронте, я везде жила в землянках. Поэтому удивительно, что мы еще до сих пор живы – здоровье мы себе сильно «посадили» в тех окопах и землянках.
На Карельском перешейке мы держали оборону, бои были только местного значения. В то время Саша Кочнева ушла в роту разведки. Санинструктора там убило, вот она и ушла. Потом ее послали на курсы пулеметчиц, после которых она попала в 45-ю гвардейскую дивизию, – и там была пулеметчицей до конца войны.
В июне месяце к нам пришло пополнение, в апреле месяце была мобилизация девушек. Романов у нас никто не крутил. В июне пришло пополнение из 92-й стрелковой дивизии (это дивизия дальневосточников, она была потрепана в боях в составе 2-й ударной армии, когда немцы захлопнули «мышеловку»), и тогда все войска НКВД переформировали в обычные стрелковые части. Нашу дивизию тоже переименовали в 92-ю стрелковую дивизию. Полки тоже сменили номера – наш 7-й полк стал 22-м и так далее.
До освобождения Ленинграда мы все время были на Карельском перешейке. Я не слышала такой пословицы о 23-й армии, что «не воюют три армии – шведская, турецкая и 23-я советская». Не могу сказать, что мы совсем не воевали. Когда мы пришли на Медное озеро, то в марте (чисел уже не помню) у нас была разведка боем, причем днем. У нас была такая Шурочка Николаева, медсестра. Она участвовала в этом бою и погибла. На нейтральной полосе остались двое раненных с ранениями в голову, и нас никого не пускали туда – сказали, что вытаскивать их будут ночью. А она рванулась туда. У нее капюшон маскхалата с головы слетел, и снайперы (как их называли тогда – «кукушки») ее убили. Сразу прямо в голову пуля попала. Она ткнулась в снег. Ночью мы вынесли всех с нейтральной полосы. Не знаю, кто ее успел раздеть, но она была только в нижнем белье. Мы носили, кстати, только мужскую форму, у нас женского обмундирования не было. Так что у нас много наших девушек погибло именно там, на Карельском перешейке, как раз в обороне. Конечно, у нас не было больших боев, как на других участках фронта, но бои местного значения все время были. То разведка боем, то за «языком» ходили. На Карельском перешейке все время шли бои местного значения. Мы часто ходили в разведку боем, финны тоже делали вылазки. Потом финны еще часто пригоняли установку с громкоговорителем и начинали нам вещать всякие басни. Листовок я не помню. С нашей стороны тоже была установка, тоже подъезжала к передовой и вещала на финнов.
У меня из головы не выходит один раненый, которого я перевязывала на поле боя. Ему лет девятнадцать было, и разрывной пулей ему разорвало верхнюю и нижнюю челюсти, оторвало часть языка, нос был поврежден. Если в фильме «Они сражались за Родину» санитарка тащит Бондарчука и плачет: «Зачем ты такой боров вырос, что мне тебя не дотащить», то у меня было по-другому. Я рядом с ним села и не знала, как его перебинтовать. Если все забинтовать, то как он дышать будет? Я до сих пор помню его глаза – мальчишке 19 лет было, наверное. Серые глаза, полные страдания, – он был в сознании, но не кричал и не плакал. И сказать ничего не мог, у него наполовину язык был оторван. Мне на помощь пришли старшие санитары, помогли – увидели, что я замешкалась. Я была маленькая, молоденькая, и меня старались оберегать и помогать. Когда были сложные ситуации, мужчины всегда были тут как тут, старались меня уберечь. Все в санроте были старше нас – лет тридцати пяти люди, для меня это уже были совсем пожилые. Потом я уже привыкла ко всему этому ужасу и в обмороки не падала при виде крови и при виде раненых. И я могу сказать, что нас мало награждали. Многое зависело от командира части. Медаль «За отвагу» я получила в 1942 году. Это была разведка боем, я с поля боя вынесла 11 человек. Говорили, что наградили за это, а за что именно наградили – не знаю.
Больше всего мне запомнилось, как я перевязывала одного раненого во время боя, сидя рядом с ним. Я была занята перевязкой и сама ничего не слышала, никакого выстрела, ничего. И вдруг этот раненый меня перевернул и лег на меня, прикрыл своим телом. И его убило. Я сразу даже не поняла, что он хотел и что случилось. Даже сказала ему сердито: «Сколько ты еще лежать будешь?» Столкнула его с себя, смотрю – а он мертвый. Обычно свист слышен, а та пуля, которая в тебя летит, – ты ее и не услышишь особо. Очень благодарна ему за жизнь, что я до сих пор живу. Если бы не он, то меня бы не стало.
Снайперы были активными и с той, и с другой стороны. С нашей стороны девочки стали ходить снайперами. В нашей дивизии снайперское движение открыла Ольга Маковейкая, ее уже тоже нет в живых. Она была санинструктором в роте автоматчиков. Между прочим, у Фадеева есть очень хорошее стихотворение о ней во 2-м томе Энциклопедии Великой Отечественной войны. К нам тогда приезжали Фадеев, Тихонов и Полевой. Она как раз из землянки вышла, и они с ней разговаривали. Почему именно с ней? Потому что рота разведки и рота автоматчиков около штаба размещались. Шура Кочнева как раз уходила в разведку, и они разговаривали с ней. Потом вышла большая статья о девушках-фронтовичках, и нам эту газету со статьей принесли – я уже не помню, что это за газета была. Девушки были в армии на тех должностях, где могли заменить мужчин. Это повара, телефонисты – ведь раньше это все были мужчины. Стали девушки пулеметчицами, телефонистками, радистками, снайперами. Санинструкторов-мужчин стало совсем мало после сорок первого года, в основном только девушки. У нас есть пары, которые поженились во время войны. Это не запрещалось, у нас оформляли браки в штабе полка. Правда, у многих мужья уже умерли, а жены остались в живых. Такая у нас была семья Смаркаловых – Нина и Иван. Правда, было такое, что женщины жили с высокими командирами, офицерами, но этих ППЖ было настолько мало, что это не имеет большого значения.








