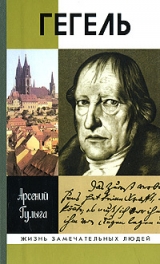
Текст книги "Гегель"
Автор книги: Арсений Гулыга
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 20 страниц)
Фоме Аквинскому Гегель посвящает один абзац, Роджеру Бэкону – две строчки, Сигеру Брабантскому, знаменитому аверроисту, вольнодумцу и еретику, ни слова. Впрочем, ни слова не говорит он и о Мейстере Экхардте, немецком мистике, которым увлекался в молодые годы. Следовательно, дело не в том, что Гегель недостаточно знал средневековую философию, а в том, что она не укладывалась в его схему прогрессивного развития логического мышления. Средние века, как и восточная мудрость, привлекали романтиков, Гегель не разделял их симпатий. Сказывалась также и его, характерная для протестанта, вражда к духовному миру католической религии, безраздельно господствовавшей в эпоху феодализма.
Конец господству католической схоластики кладет Возрождение. Возрождается прежде всего интерес к античной культуре – искусству и философии. Только теперь Европа по-настоящему знакомится с Аристотелем. Самым выдающимся аристотеликом и аверроистом того времени был итальянец Помпонаци. Аверроисты утверждали, что всеобщий, «активный» интеллект имматериален и вечен, а индивидуальная душа смертна. Это учение давно было осуждено церковью, и Помпонаци чудом избежал расправы.
Во Флоренции возникает академия, где изучают Платона и неоплатоников. Сообщая об этом, Гегель умалчивает о важной детали: в средние века неоплатонизм подчас выступал как оболочка вольнодумных идей, направленных против ортодоксального христианского учения о персонифицированном боге-творце: теория эманации сближала бога и природу, подготавливала почву для их полного слияния, для пантеизма.
Впрочем, разбирая взгляды Джордано Бруно, которому он уделяет большое внимание, Гегель фактически это признает. «Великому воодушевлению, которым горела его душа, – пишет Гегель о Бруно, – он жертвовал своим благополучием. Это воодушевление не давало ему жить спокойно. Скажут сразу: это была беспокойная голова, человек, который не мог уживаться с людьми; но откуда у него такое беспокойство? Он не мог уживаться с конечным, дурным, пошлым, отсюда его беспокойство. Он поднялся до сознания всеобщей субстанциальности и устранил то разлучение самосознания с природой, которое одинаково уничтожает обоих». Две идеи Бруно особенно близки Гегелю: идея единства противоположностей и попытка понять вселенную в ее развитии. За последнее Бруно заплатил жизнью.
Средневековая философия отрывала мир мысли от мира реального существования. Философия нового времени ищет пути их слияния. Дух и природа, мышление и бытие – такова основная противоположность, и философия распадается на две формы ее разрешения, реалистическую и идеалистическую. Реализм выводит содержание мысли из восприятия, из физической природы, идеализм исходит из самостоятельности мышления. Здесь Гегель подошел к постановке основного вопроса философии; то, что он неточно характеризует как «реализм», есть материализм. Бэкон и Бёме, родоначальники новой философии, противостоят друг другу как две первые попытки подойти к решению проблемы духа и природы с противоположных позиций.
Фрэнсис Бэкон – родоначальник опытных наук. Их требованиям Бэкон и подчинил свою философию. Впервые в истории он всесторонне разработал индуктивный (то есть идущий от частных фактов к обобщениям) метод познания. Обоснованию этого метода посвящено основное произведение философа – «Новый органон». Здесь содержится анализ деятельности человеческого интеллекта и критика ложных понятий, препятствующих опытному знанию. Четыре группы ложных идей и предрассудков – «идолов», как их называет Бэкон, – мешают познанию. Во-первых, это «идолы рода», коренящиеся в ограниченности человеческого ума и несовершенстве органов чувств. Ум человека Бэкон сравнивает с неровным зеркалом, которое примешивает к изображению свои дефекты. Во-вторых, это «идолы пещеры», то есть особенности отдельных людей, которые в силу воспитания по-своему, как бы из пещеры, наблюдают вещи. В-третьих, это «идолы рынка», то есть ошибки познания, вызванные двусмысленностью слов, употребляемых учеными и толпой. Наконец, познанию мешают «идолы театра», то есть слепая вера в авторитеты, в каноны, в идеалистические догмы. Чтобы освободиться от «идолов», нужно исходить только из опыта, из непосредственного исследования природы.
Более пространно и с большей симпатией, чем об английском лорде-канцлере Бэконе, Гегель пишет о немецком сапожнике Якобе Бёме. Мечтательный фантаст, начитанный в библии и немецких мистиках, то и дело впадавший в состояние экзальтации, Бёме писал книги, полные грубых образов, религиозной фразеологии и диалектических идей. «Поди сюда, – обращается он к дьяволу, – ты, черняк, чего хочешь? Я тебе пропишу рецепт». Никакой системы, да и просто логики у Бёме нет. Единственная идея, проходящая красной нитью через все его творчество, – это троичность сущего. Бёме – пантеист; бог для него есть все: тьма и свет, любовь и гнев. Противоположности погружены друг в друга; все вещи пребывают в «да» и «нет», причем «да» не существует отдельно от «нет», две вещи суть одна вещь; сущее разделяется на два начала, которые находятся в постоянной борьбе, если бы этого не было, все вещи были бы ничто и стояли бы тихо, без движения.
XVII век – период рассудочного мышления. Эмпиризм спорит с рационализмом, но расхождения их носят второстепенный характер, оба не выходят за пределы метафизического метода, господствующего и в частных науках и в философии. Основоположником рационализма – философского направления, признающего рациональное мышление единственным источником истинного знания, является Рене Декарт. Мышлению нужно расчистить дорогу при помощи сомнения. Однако Декарт не скептик, усматривающий в самом сомнении цель философского исследования, он выступает не против рассудка, а против предрассудка. Сомнение – это лишь средство найти незыблемый исходный пункт философии. Сомневаться можно, по Декарту, в показаниях органов чувств, в подлинности окружающей человека действительности, в существовании собственного тела. Нельзя только усомниться в реальности самой сомневающейся мысли. Мышление, следовательно, единственно достоверный факт. Отсюда Декарт выводит свое знаменитое положение: «Мыслю – следовательно, существую».
Отправляясь от факта существования собственного «Я», то есть мыслящей души, Декарт переходит к доказательству существования бога, а затем и материального мира. Бог – творец вселенной, состоящей из двух независимых субстанций – духовной и телесной. Атрибутом тела служит протяженность, атрибутом души – мышление. В качестве посредника между этими двумя субстанциями выступает бог, установивший точное соответствие между изменениями в теле и душе. Истина постигается непосредственно мышлением. Наряду с идеями, возникшими на основе показаний органов чувств, Декарт признавал существование врожденных идей. К числу последних он относил, в частности, математические аксиомы и на этом основании Ставил математику выше других наук.
Декарт – один из родоначальников точного знания, отцов механики. Принципы механики он стремился распространить на все естествознание, в том числе и на понимание жизни. Отсюда ведет происхождение механицизм как упрощенное рассмотрение природы. Животное, для Декарта, – машина.
Дуализму Декарта противостоит учение о единой субстанции, выдвинутое Бенедиктом Спинозой. Субстанция не находится в зависимости от какого-либо находящегося вне ее божественного творца, она есть «причина самой себя», она есть бог, она же природа. Мышление наряду с протяженностью Спиноза считал атрибутом субстанции, то есть всей природы. Движение Спиноза рассматривал лишь как модус (временное свойство) субстанции. В состоянии движения находятся единичные вещи, представляющие собой временное состояние, видоизменение неподвижной субстанции, бога. Скептик Бейль острил по этому поводу: бог Спинозы, модифицированный и в турка и в австрийца, ведет войну с самим собою.
Богословская терминология Спинозы открывает возможность идеалистической интерпретации, чем Гегель не преминул воспользоваться. Он отводит от Спинозы обвинение в атеизме. Между тем яростные нападки духовенства и приверженность к Спинозе всех вольнодумцев не оставляет сомнений в истинном характере его учения. Спиноза подрывал религию не только растворением бога в природе, но и научной критикой священного писания, основоположником которой он явился. Значительное место в учении Спинозы занимает этика. Человек, руководствующийся аффектами, находится у них в рабстве. Выйти из этого состояния можно только посредством знания, самым высшим видом которого является интеллектуальная интуиция. Когда дух приходит к пониманию вещей как необходимых, он обретает власть над аффектами, обретает свободу. «Свобода есть познанная необходимость» – автором этой полюбившейся Гегелю формулы был Спиноза.
Несколько иного рода материалистическое учение возникает по ту сторону Ла-Манша, где идеи эмпирика Бэкона нашли питательную почву. Метафизирующий эмпиризм – так Гегель определяет философию Джона Локка. Спиноза начинал с аксиом и дефиниций. Локк прежде всего интересуется происхождением общих понятий. Существование врожденных идей он отрицает: в интеллекте нет ничего, чего бы ранее не было в чувствах. Ощущение – источник любого знания; до чувственного общения с миром душа – «чистая доска», опыт пишет на ней свои письмена.
Науки, построенные на опыте, приняли логику рассуждений Локка. Но философа, отмечает Гегель, она не может удовлетворить. Остается по-прежнему неясным, каким образом единичное восприятие принимает форму всеобщности, характерную для понятия.
В рассуждениях Локка есть еще одно слабое место – разделение качеств вещей на первичные и вторичные. Первые (протяженность, плотность, движение и т. д.) являются реальными, объективными, вторые (цвет, запах, звук, вкус) порождены нашими органами чувств. Отсюда ведет свое происхождение субъективный идеализм Беркли, для которого и первичные качества вещей суть человеческие представления. Существовать, для Беркли, значит быть воспринимаемым. Гегель называет это учение «самой плохой формой идеализма». Отрицательно оценивает он и позицию Юма, «завершившего локкеанизм». Согласно Юму человек имеет дело с ощущениями, использует их данные, но ничего не может сказать об их источнике; всеобщность знания – лишь результат привычки.
Скептицизм Юма был направлен не против научного знания, а против религии и догматизма. Поэтому он пользовался широкой популярностью у французских просветителей. Их философию Гегель справедливо характеризует как материализм и атеизм. «Природа не бог», – утверждал Дидро, как бы отмежевываясь от пантеизма Спинозы, Гегель видит во французском материализме необходимую ступень развития философской мысли, но признает за ним в основном «негативное» значение как силы, разрушавшей выродившуюся религию, изживший себя политический строй, устаревшие правовые и моральные нормы. Некоторое позитивное содержание – «идею всеобщего конкретного единства» – он отмечает в «Системе природы» Гольбаха и еще больше у Робине. По-прежнему, как и в молодые годы, Гегель полон симпатий к Руссо. Здесь он особо фиксирует внимание на руссоистском учении о всеобщей воле, отличающейся от суммы всех единичных воль. (Иначе было бы верно положение, гласящее, что там, где большинству подчиняется меньшинство, нет свободы.) Немецкое Просвещение имело свои отличительные особенности. Здесь живы были традиции Лейбница, философия которого в равной мере противостояла как Спинозе, так и Локку. Лейбниц выдвинул идею бесконечного множества индивидуальных субстанций. Он называл их монадами и видел в каждой замкнутый, неповторимый мир. Лестница монад ведет от неорганической природы к живому организму и сознанию. Между монадами отсутствует какая-либо связь, поэтому эмпирические основы познания Лейбницем отвергаются. Знание истины возможно только как «предустановленная» богом гармония в движении мыслящих и телесных монад, подобно тому, как двое часов с одинаковым ходом независимо друг от друга показывают одно и то же время.
Систематизатор Лейбница Христиан Вольф первоначально чуть не заплатил головой за неудачную популяризацию идей своего учителя. Прусскому королю Фридриху Вильгельму почудилось, что учение о предустановленной гармонии означает отрицание свободы воли и, следовательно, солдаты, дезертирующие из его армии, выполняют особые предначертания бога и не ответственны за свои действия. Под страхом виселицы Вольфу было приказано покинуть прусские владения в течение сорока восьми часов. Впоследствии, однако, Вольф был признан и в Пруссии. От него ведут происхождение так называемые «популярная» философия, ставившая целью повсеместное распространение философских знаний, не выходивших за пределы рассудочной метафизики.
Решительный поворот к диалектике происходит лишь в «новейшей немецкой философии» (мы теперь называем ее классической), которую Гегель начинает не с Канта, а с Фридриха Якоби. Значение Якоби состоит в том, что он четко указал на ограниченный характер рассудочного мышления, всегда остающегося в пределах механистического миропонимания. Только внутреннее откровение, интуиция, вера дают истину, знание о боге. Бог не может быть доказан. В связи с Якоби Гегель мельком упоминает о распространении в Германии идей Спинозы, который в не меньшей степени, чем Лейбниц, был властителем немецких умов во второй половине XVIII века.
Канту Гегель посвящает самый большой раздел из тех, что написаны о послегреческой философии, примерно столько же, сколько о Сократе (но в два раза меньше, чем о Платоне). Для Канта у него припасены и похвальные оценки и резкая хула: «Человек не так глуп, как эта философия». После Канта – Фихте; затем коротко о романтиках, о Шеллинге, скромно о себе: «Теперешняя стадия философии характеризуется тем, что идея познана в ее необходимости». Вот и все.
Цель достигнута, два с половиной тысячелетия понадобились на достижение истины, и Гегель не может не посетовать на то, как «лениво и медленно работал мировой дух». В заключение Гегель еще раз окидывает взором путь, пройденный философской мыслью, фиксируя основные вехи. Он говорит о том, что пытался развернуть перед слушателями поступательное движение духовных формаций человечества. Эта длинная процессия духов суть отдельные биения пульса единой субстанции, которая живет в каждом человеке. Завершая курс, Гегель, перед тем как покинуть кафедру, на прощание желает студентам всяческих благ. Впереди – каникулы.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ. БРЮССЕЛЬ. ВЕНА. ПАРИЖ
Не зная чужих языков, не знаешь и своего собственного.
Гёте
Летний семестр заканчивался в августе, зимний начинался в октябре. Сентябрь был предназначен для отдыха. В 1819 году Гегель побывал с женой на острове Рюген, затем два года подряд ездил на короткий срок в Дрезден. В 1822 году ему захотелось предпринять более длительное путешествие, выбраться наконец в Нидерланды к своему давнему другу и ученику ван Герту. Но такая поездка требовала больших затрат, не предусмотренных бюджетом философа.
Когда Альтенштейн приглашал Гегеля в Берлин, он рисовал радужные перспективы: избрание в академики и увеличение доходов. Минуло четыре с половиной года, но ничего подобного не произошло. Увеличивались не доходы, а расходы. Росли дети и соответственно затраты на их воспитание. Здоровье начинало сдавать и требовало к себе большего, чем раньше, внимания. Приходилось лечиться и жене.
Еще в начале лета Гегель решил просить вспомоществование у правительства. В письме, адресованном министру, он обрисовал свое положение, намекнул о несбывшихся надеждах. Собственные деньги, напоминал Гегель, он принес в жертву своему образованию, которое теперь полностью посвящает разработке наиболее сложной сферы знания. Гегель всегда любил подчеркивать, что философия не чета другим наукам. В данном случае он писал буквально следующее: «Не таясь, я смею добавить, что моя научная дисциплина, которой я отдаю силы на королевской службе, такого рода, что основательная и добросовестная ее разработка требует гораздо больше времени и совсем иных усилий, нежели предметы многих других профессоров, а потому оставляет мне мало времени для восполнения моих доходов с помощью писательской работы».
Альтенштейн, в свою очередь, обратился с письмом к канцлеру Гарденбергу. Он не отрицал, что обещал Гегелю место оплачиваемого академика и что пока из этого ничего не вышло; хвалил Гегеля как педагога, ученого, человека и просил разрешения выдать единовременное пособие. Впрочем, Гарденберга не нужно было убеждать: автора «Основ философии права» он помнил хорошо. «На покрытие расходов для путешествий, имеющих целью улучшить пошатнувшееся здоровье», профессору Гегелю было предоставлено 600 талеров.
Окончив дела в университете, Гегель двинулся в путь. Первая остановка – Магдебург. Здесь пришлось провести двое суток: не было кареты. В поисках достопримечательностей Гегель набрел на знаменитого физика Карно. Французский ученый и революционер, военный министр при директории, граф при Наполеоне доживал свой век под полицейским надзором в немецкой провинции. Философ нанес ему визит и был любезно принят.
Магдебург Гегель покинул днем 15 сентября, вечер и ночь провел в дороге и лишь на рассвете прибыл в Брауншвейг. Сразу же принялся осматривать город, побывал в музее, вечером в театре. Ночью отправился дальше, рассвет снова встречал в пути; унылые равнины Бранденбургской марки сменились красивой пересеченной местностью, напоминавшей родную Швабию. Философ с удовольствием смотрел в окно кареты. К трем часам приехали в Нортхайм. Карета на Кассель уходила лишь вечером, но это значило третью ночь провести без сна. Гегель решил воспользоваться курьерской почтой, направлявшейся в Мюнхен. Переночевав там в гостинице, утром он со свежими силами добрался до Касселя. Здесь философ провел два дня, осмотрел город и окрестности, библиотеку, картинную галерею. Лучшие ее экспонаты были похищены Наполеоном, который подарил их своей первой жене Жозефине, а та продала их русскому царю Александру. Война давно окончилась, но картины в Кассель не вернулись. Философ посетовал на превратности судьбы и удовлетворился осмотром того, что оставалось в музее.
Из Касселя в Кобленц, затем водой по Рейну в Бонн и Кельн.
«Кельн – весьма просторный город, – писал Гегель жене, – я сразу же отправился в собор. Величественное и изящное в нем, вернее в том, что существует от него, стройные пропорции, вытянутые, как если бы нужно было не подниматься, а взлетать вверх, – все это заслуживает внимания и изумления, тем более как замысел одного человека и начинание одного города; тут рождается иное состояние духа, иной человеческий мир, перед глазами живо встают иные времена. Тут нет какой-либо пользы, наслаждения, удовольствия или удовлетворенной потребности, тут можно лишь бесконечно бродить по высоким залам, каждый из которых сам по себе. Им нет дела до того, используют ли их люди и в каких целях; пустой оперный театр или пустая церковь – это нечто дурное, а здесь высоченный лес, лес духовный, художественный, который вырос и существует сам по себе; ползают ли у его подножия люди, ходят ли они или нет, ему безразлично – он сам для себя; все, что бродит по нему, все, что молится, все, что лазает, – с зеленым клеенчатым ранцем и с трубкой, правда, незажженной, во рту, – все это, вместе взятое с пономарем, теряется в нем; все это, стоит ли, движется ли, бесследно пропадает в нем».
Еще в Бонне Гегель познакомился со вдовой Хирн, владелицей преуспевающей торговой фирмы в Кельне. Здесь она пригласила философа на обед, после которого ее сын показал свое уникальное собрание витражей. Гегель бродил по городу, осматривал церкви, художественные коллекции, древнеримские укрепления, любовался видами Рейна.
В воскресенье 28 сентября гостеприимный Кельн скрылся вдали, впереди лежал Аахен. Осмотр города и здесь Гегель начал с собора, где находится мраморный трон Карла Великого. Философ не мог отказать себе в удовольствии усесться на трон, на котором короновались 32 императора. Пономарь, водивший Гегеля по церкви, рассказал ему легенду, как триста лет спустя после смерти Карла Великого его нашли однажды восседающим на своем троне в императорской мантии и короне со скипетром и державой в руках. Шесть часов Гегель уделил осмотру частного собрания живописи. Взглядом знатока он определил близость одной нидерландской картины другой, некогда увиденной у профессора Буассре. Оба произведения действительно представляли собой створки одного и того же алтаря, впоследствии они были приобретены из частных собраний и объединены с центральным изображением в церкви святого Петра в Лувене.
Конечный пункт путешествия – Брюссель, где Гегеля встречал ван Герт. Нидерланды произвели на философа сильное впечатление всеобщим достатком, благоустроенностью дорог и городов. «Куда они девают нищих и простолюдинов, не могу понять. Нет ни одной развалины, подагрической крыши, прогнившей двери и разбитого окна». Осмотр окрестностей привел Гегеля в Ватерлоо. «Я увидел эти навеки достопамятные луга, холмы и ориентиры – особенно запомнилась мне поросшая лесом высота, откуда можно видеть на много миль вокруг; здесь установил свой трон Наполеон, князь битв, и здесь потерял его. В полуденную духоту мы бегали часа два-три по окрестным дорогам, где под каждым клочком земли лежат доблестные воины».
После Брюсселя – Гент, Антверпен, Бреда, Гаага, Амстердам, все новые и новые впечатления. «Мои описания становятся весьма беспорядочными, – признавался Гегель жене, —и я не знаю, как привести их в порядок, если попытаться наверстать все, что не успел описать. Последний раз речь шла о церквах. Церкви, как сказано, в Генте, Антверпене – нужно видеть их, если хочешь узнать возвышенные, богатые католические храмы, – огромные, просторные, готические, величественные, с витражами (самые великолепные, которые я когда-либо видел, находятся в Брюсселе), у колонн мраморные статуи в рост человека, поставленные выше коленей, а другие – сидящие или лежащие – их дюжины; картины Рубенса, Ван Эйка и их учеников, большого размера, великолепные, по две-три дюжины в одной церкви; мраморные колонны, барельефы, решетки, исповедальни, полдюжины или даже целая дюжина в антверпенской церкви, – каждая украшена превосходными вырезанными из дерева фигурами в человеческий рост». В Бреде Гегель любовался величественным мавзолеем графа Нассау – шесть фигур: две белого мрамора – изображение усопшей четы, и четыре по углам – Цезарь, Ганнибал, Регул и воин – как бы охраняют их покой. Гегель дал подробное описание этой скульптурной группы в своих «Лекциях по эстетике». В Амстердаме он видел огромное множество подлинных работ Рембрандта.
В Утрехте Гегель распрощался с благодатными Нидерландами. Через Оснабрюк и Бремен он проследовал в Гамбург, где предстояла встреча с Дюбо.
Они познакомились заочно. В начале июня 1822 года Гегель получил письмо от гамбургского фабриканта Дюбо с просьбой изложить свое понимание истины. Философ тогда не ответил, но через полтора месяца пришло второе письмо, более обширное, с той же просьбой. Дюбо писал, что все свое свободное время он посвящает изучению философии, но, не имея надлежащего образования, в поисках истины предоставлен самому себе; выходец из Франции, он в течение многих лет исповедовал господствующий там скептицизм; знакомство с немецкой философией направило его мысли по другому пути, однако ни Кант, ни Шеллинг не удовлетворили его, сейчас он приступил к изучению гегелевской философии и просит у господина профессора совета и помощи. Отмалчиваться более было неудобно, и Гегель ответил Дюбо, популярно изложив соответствующие параграфы «Науки логики» и «Энциклопедии». Дюбо был удовлетворен, но при встрече засыпал философа новыми вопросами. Расстались они друзьями.
В Берлин Гегель вернулся переполненный впечатлениями. Он скорее устал, чем отдохнул. Генрих Гото, тогда еще студент, пришедший к Гегелю записаться на зимний курс лекций, рассказывает о своих впечатлениях от первый встречи с философом: «Он сидел перед широким письменным столом и в эту минуту рылся в беспорядочно валявшихся друг на друге книгах и бумагах. Рано состарившаяся фигура его была сгорблена, однако сохраняла первоначальную стойкость и силу; удобный серо-желтый халат небрежно спадал с его плеч до земли по его худощавому телу; в нем не было никаких внешних следов ни импонирующего величия, ни притягательного добродушия; первой чертою, обращающей внимание в его поведении, была стародавняя бюргерская почтенная прямота. Я никогда не забуду первого впечатления, произведенного на меня его лицом. Все черты его, будто угасшие, имели вялый и поблекший вид; в них не было видно никакой разрушительной страсти, но зато отражалась вся прошлая молчаливая работа мышления, продолжавшаяся денно и нощно. Муки сомнения, смятение душевных бурь, казалось, не бичевали и не выбивали из колеи этот сорокалетний труд мышления, исканий и открытий; только неустанное настойчивое стремление все богаче и полнее, все строже и неотразимее раскрыть зерно давно счастливо обретенной истины избороздило лоб, щеки и рот. Как достойно выглядела голова, как благородно был сложен нос, высокий, хотя и несколько покатый лоб, спокойный подбородок. Благородство верности и чувства глубокой правоты в большом и малом, ясного сознания, что лучшие силы истрачены только на поиски истины, были своеобразно и отчетливо выражены в его чертах. Я ожидал разговора на научную тему и был весьма удивлен, услышав из его уст нечто совсем иное. Этот изумительный человек, вернувшийся только что из Нидерландов, говорил только об опрятном виде городов, красоте и плодородии сельских местностей, бескрайних зеленых лугах, стадах, каналах, высоких ветряных мельницах, шоссейных дорогах, сокровищах искусства, обеспеченной жизни; обо всем этом рассказывал он столь обстоятельно, что за полчаса, проведенные у него, казалось, я побывал в Голландии».
Гото был в числе первых, кто слушал лекции Гегеля по философии всемирной истории. Содержание этих лекций мы уже знаем. Внешне, со слов Гото, дело обстояло следующим образом: «Ему предстояла задача извлечь самые серьезные мысли из глубочайшей основы вещей, и хотя эти мысли были продуманы и разработаны им много лет тому назад и много раз, тем не менее для того, чтобы живо воздействовать, они всегда должны были вновь в нем рождаться. Нельзя себе представить более наглядного пластического выражения подобных трудностей и тяжкого труда, чем в форме его лекций. Как древние пророки, чем настойчивее они боролись с языком, тем выразительнее высказывали то, что боролось в них самих – отчасти побеждая, отчасти побеждаемые, – точно так же боролся и побеждал и он с неуклюжей серьезностью. Весь углубившись лишь в свою мысль, он, казалось, развивал ее для слушателей из нее самой, ради нее самой, как бы не из своего духа, и тем не менее она возникала из него самого, и забота о ясности почти отечески смягчала его упорную серьезность, которая могла бы отпугнуть от восприятия таких трудных мыслей. В самом начале он еще запинался, потом опять повторял фразу, останавливался, говорил и думал; казалось, ему никогда не удастся найти подходящего слова, но вот он с уверенностью произносил его; оно оказывалось простым и тем не менее было неподражаемо уместным, неупотребительным и в то же время единственно правильным. Всегда казалось, что самое важное должно быть высказано еще впоследствии, и тем не менее оно незаметно и в совершенно полной форме было уже высказано. Наконец, ясное значение мысли было схвачено, и являлась надежда на желанное движение вперед. Напрасно. Мысль, вместо того чтобы двигаться вперед, вращалась на одном и том же месте, выражаемая в похожих друг на друга словах. Однако если утомленное внимание рассеивалось и слушатель спустя несколько минут испуганный внезапно возвращался к лекции, он находил в наказание себе, что утратил связь мыслей. Медленно и обдуманно подвигаясь вперед сквозь мнимо незначительные посредующие звенья, Гегель ограничивал до односторонности какую-либо полную мысль, различая в ней несколько сторон, и приходил к противоречиям, победоносное разрушение которых должно было мощно воссоединить наименее согласуемое... Таким образом, ему превосходно удавалось изображать эпохи, народы, события, индивидуальные характеры; его глубоко проникающий взор открывал ему везде сущность вещи, и энергия его первоначальной способности созерцания даже и в старости не утратила своей юношеской свежести и силы».
Гегель покорял не внешним блеском своих лекций, а глубиной их содержания. Труднодоступная форма изложения, свидетельствовавшая в молодости лишь о неопытности преподавателя, теперь, когда он близился к зениту славы, в глазах аудитории была признаком величия идей, не укладывающихся в нормы обыденной речи. Слава Гегеля перешагнула границы Германии.
Забегая несколько вперед, расскажем о тех впечатлениях, которые вынес от лекций Гегеля и встреч с ним Иван Киреевский. Будущий славянофил приехал в Берлин в феврале 1830 года. Сначала Гегель, читавший лекции по истории философии, ему не понравился: «Говорит он несносно, кашляет почти на каждом слове, съедает половину звуков и дрожащим, плаксивым голосом едва договаривает последнюю. Есть, однако, здесь один профессор, который один может сделать ученье в Берлине полезным и незаменимым, – это Риттер, профессор гео-графии». Мнение Киреевского о Гегеле затем постепенно меняется: «Я начал мириться с его гнусным образом преподавания: с некоторого времени я променял на него моего Риттера, который читает с ним в одни часы». В конце концов великий диалектик покорил юношу. Киреевский написал ему «письмо отменно вежливое» с просьбой о встрече. В назначенный час он явился в дом на улице Ам Купферграбен и, в свою очередь, очаровал философа. На следующий день Киреевского разбудил посыльный: Гегель приглашал его прийти еще раз, в любой вечер, когда ему будет угодно. «Только господин профессор хотел бы это знать заранее, так как будут приглашены и другие». Посмотреть на одаренного русского студента собрались ученики Гегеля Ганс, Михелет, Гото, писатель Раупах, некая генеральша и заезжий американец. «Во весь вечер разговор был живой и всеобщий, хотя я по большей части говорил с Гегелем особенно. Гостеприимнее, приветливее и добродушнее его быть невозможно». И, заканчивая письмо домой, содержавшее отчет о жизни в Берлине, Киреевский обращался к отчиму: «Милый папенька! Выпишите, если нет в Москве, «Энциклопедию философских наук» Гегеля. Здесь вы найдете столько любопытного, сколько не представляет вся новейшая немецкая литература, вместе взятая. Ее трудно понять, но игра стоит свеч».








