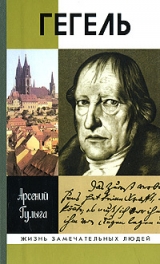
Текст книги "Гегель"
Автор книги: Арсений Гулыга
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 20 страниц)
Афинам Гегель противопоставляет Спарту, где абстрактный культ государства отодвигал на задний план свободу индивидуальности. В результате ни наука, ни искусство, ни образованность не привились у спартанцев. Это были упрямые, неуклюжие люди, пригодные лишь для военного дела. Не удивительно, что они одержали победу в Пелопоннесской войне, окончившейся падением Афин. Но победа спартанского государства была началом его конца; упадок наступает в результате испорченности нравов.
Последний взлет греческого духа ознаменовала собой империя Александра Македонского. Азиатский поход Александра решил оружием старый спор между Востоком и Западом, принес на Восток западную культуру и открыл европейцам азиатский мир. Организация и план похода, военный гений и личная храбрость Александра, его покровительство наукам и искусству всегда будут предметом восхищения. Гегель предпочитает не вспоминать о кровавых расправах, которые учинял царь Македонии над самыми близкими своими соратниками, укрепляя свою абсолютную власть. Александра он идеализирует так же, как в свое время Наполеона, уверяя, что к всемирно-историческим личностям неприменимы критерии морали.
Римская история – эпоха возмужалости человечества. Здесь исчезает свободная индивидуальность как органический элемент культуры, но закладываются формальные основы свободы человека, покоящейся, по убеждению Гегеля, на праве частной собственности. Государство носит аристократический характер и выступает как самоцель. И искусство и религия Древнего Рима отличаются рассудочностью и прозаичностью.
Гегель прослеживает историю возникновения расцвета и распада Римской республики. Ее гибель не была случайной, ее погубил не Цезарь, а необходимость. Римский принцип целиком основывался на насилии и военной власти, республика изжила себя. Цезарь понял это и фактически уничтожил лишь ее тень. Брут и Кассий убили Цезаря под влиянием «замечательного заблуждения», они полагали, что его господство – дело случая, если устранить этого человека, республика восстановится сама собой. Но сразу же выяснилось, что Римом может править только одно лицо, и только тогда римляне поверили в монархический принцип. Любой исторический переворот, подчеркивает Гегель, санкционируется в мнении людей, когда он повторяется. Благодаря повторению то, что сначала казалось лишь случайным, становится действительным фактом.
Императорский Рим столь же необходимо, как и республика, пришел к распаду и гибели. Развитие частного права привело к разложению политической жизни. Император царствовал, но не правил, между ним и его подданными все больше разрывалась живая связь, в народе исчезало сознательное отношение к отечеству, все сильнее распространялось политическое равнодушие. Человек всецело предавался чувственным удовольствиям.
Римский мир с его беспомощностью и страданием оттого, что он покинут богом, подготовил почву для нового возрождения духовной жизни. И она родилась в еще более возвышенной, чем раньше, форме. Гегель имеет в виду появление христианства. Благодаря императору Константину христианская религия стала господствующей в Риме, но это уже не могло спасти его. Империя рухнула под ударами германских племен.
Историю германского мира Гегель расчленяет на три периода. Первый начинается с появления германских народов на территории Римской империи и завершается империей Карла Великого. Во втором периоде возникают теократические государства и феодальные монархии. В XVI веке начинается третий период, в котором создается государственная жизнь, соответствующая требованиям разума.
Гегель уделяет некоторое внимание мусульманству, правда, лишь для того, чтобы обвинить его в ретроградном стремлении возродить восточный покой и неподвижность. Он едва-едва упоминает о славянах. Хотя славянские племена основывали государства и мужественно боролись с врагами (поляки даже освободили осажденную Вену от турок), Гегель все же исключает их из своего обзора. России, впрочем, в одном из своих писем (мы это уже знаем) он предсказывал большое будущее. Германцы начали с того, что они разлились, как поток, покорили одряхлевшие цивилизованные государства, и лишь тогда началось их развитие, вызванное соприкосновением с чужой культурой, религией, государственным строем. Они восприняли христианство и стали носителями христианского принципа. Проходили века, постепенно возникали отдельные нации и монархии. Суровость дубовой сердцевины германской души обуздывалась и смягчалась дисциплиной церкви и крепостного права. В результате человечество шло к свободе не столько от порабощения, сколько посредством порабощения.
Крестовые походы Гегель объясняет исключительно религиозными мотивами: стремлением христиан «освободить» гроб господний. Обагренные кровью убитого населения Иерусалима крестоносцы пали ниц у гроба Спасителя и обратились к нему со смиренной молитвой. В рассказе об этих неистовствах и контрастах католической церкви у протестанта Гегеля звучат нотки иронии. От самого Христа, говорит он, нельзя было найти никаких реликвий, ибо он воскрес. Христианство нашло пустой гроб, а не связь мирского и вечного, и поэтому потеряло святую землю. Благодаря крестовым походам церковь исказила дух христианской религии, но упрочила свей авторитет.
Развитие государственности подрывало феодальные отношения. Против дворянского партикуляризма было найдено могучее средство – порох. Человечество нуждалось в нем, и он тотчас же появился. Огнестрельное оружие уничтожило замки и укрепленные пункты внутри страны, уравняло в правах сословия. Исчезла рыцарская храбрость, но получила развитие более высокая доблесть, чуждая личной страсти, ибо стреляют в нечто общее, в абстрактного врага.
Для человечества постепенно проясняется небо духа. Изобретение книгопечатания, бегство ученых-греков из Византии, порабощенной турками, открытие Америки знаменуют собой утреннюю зарю нового времени, наступившую за ночью средневековья. Но подлинный восход солнца пришел лишь с Реформацией.
Реформации Гегель придает особое значение. Лютер, по его мнению, восстановил дух христианства, извращенный католической церковью. В ходе Тридцатилетней войны протестантизм отстоял свое право на политическое существование. Его оплотом стала Пруссия. Если в бытность свою в Иене Гегель весьма отрицательно относился к Пруссии и ее прошлому, то теперь он занимает прямо противоположную позицию. Страницы «Лекций по философии всемирной истории», посвященные прусскому королю Фридриху II, совершенно откровенная его апология. Фридрих – это «герой протестантизма», «король-философ», который «дал единственный пример того, как отец заботится о благе своего домашнего, круга, старательно обеспечивает благо своих подданных и энергично правит ими».
И в ту же эпоху католическая Франция была царством несправедливости, суровых притеснений народа, испорченности нравов. Ликвидация изживших себя порядков могла совершиться лишь насильственно. Началась великая революция. «Все мыслящие существа праздновали эту эпоху. В то время господствовало возвышенное трогательное чувство, мир был охвачен энтузиазмом, как будто лишь теперь наступило действительное примирение божественного с миром». Отношение Гегеля к различным этапам французской революции и последующим событиям мы знаем. Его вывод: без Реформации подлинная революция невозможна, а там, где произошла Реформация, революция не нужна.
Заключительные страницы «Лекций по философии всемирной истории» посвящены снова Пруссии. Говоря словами Маркса, «Гегель доходит здесь почти до раболепства. Видно, как он насквозь заражен жалким высокомерием прусского чиновничества...» [26]26
К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., 2-е изд., т. 1, стр. 365
[Закрыть]. Прусская монархия представляется Гегелю завершением развития мирового духа, идеалом государственного устройства. Характерно, что Гегель видит в Пруссии буржуазную монархию, чем тогда она еще не была, он хвалит ее за то, что в ней еще не было осуществлено. «Ленные обязательства отменены, принципы свободы собственности и личности стали основными принципами. Доступ к государственным должностям открыт каждому гражданину, но умение и пригодность являются необходимыми условиями. Государством управляет мир чиновников, и над всем этим стоит личное решение монарха». В данном случае Гегель принимал желаемое за действительное, по само желание увидеть в своей стране сочетание буржуазных принципов с абсолютизмом было весьма показательным.
Мировой дух, начавший свой путь в бескрайних просторах Азии, пировавший с греческими богами на Олимпе, водивший в походы римских цезарей, крестоносцев и санкюлотов, ныне обосновался в Берлине; он обрел покой в должности чиновника, одряхлел и мирно дожидается выхода на пенсию. Грандиозный замысел осмыслить всемирно-исторический процесс как единое целое обернулся наивной попыткой оправдать окружающую философа унылую действительность.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. В ЦАРСТВЕ ПРЕКРАСНОГО
От одного рассудка не может произойти философия, ибо философия есть нечто большее, чем накопленное знание.
От одного разума не может произойти философия, ибо философия есть нечто большее, чем слепое требование бесконечного прогресса в расчленении и сочленении возможных предметов.
Но если порывам разума светит идеал красоты, он знает, к чему и зачем стремится.
Гельдерлин
Закончив свои блуждания по мрачному лабиринту всемирной истории, абсолютная идея вырывается к свету и разуму, она покидает сферу объективного духа в восходит к духу абсолютному. Учение об абсолютном дух» в гегелевской системе охватывает то, что мы называем общественным сознанием, точнее – три его формы: искусство, религию, философию.
Эстетика Гегеля – это теория искусства. Красоту природы философ исключает из своего рассмотрения. В угоду схеме, по которой природа представляет собой пройденный этап. Идея не оглядывается назад; она устремлена вперед и ввысь, к сияющим вершинам духа. Красота искусства, но Гегелю, выше естественной красоты, поскольку дух превосходит природу.
Александр Гумбольдт поразил однажды своих собеседников остротой: для Гегеля, уверял он, любой берлинский анекдот как произведение духа есть нечто большее, чем солнце. Самое забавное заключалось в том, что натуралист ничего не придумал. Вот аргументация философа: «Конечно, по своему содержанию солнце является абсолютно необходимым моментом, а вздорная выдумка, как что-то случайное и преходящее, быстро исчезает. Но такой образец природного существования, как солнце, взятый с точки зрения «для-себя-бытия», есть нечто безразличное, не свободное внутри себя и лишенное самосознания». Гегель знает что термин «выше» относителен. Но «высшее в смысле превосходства духа (и порожденной им красоты художественного произведения) над природой не есть чисто относительное понятие. Только дух представляет собой истинное как всеобъемлющее начало, и все прекрасное лишь постольку является истинно прекрасным, поскольку оно причастно к высшему и рождено им». Прекрасное в природе только рефлекс красоты духа. Отдельные живые продукты природы преходящи, их наружный вид изменчив, тогда как произведение искусства сохраняется устойчиво.
Рассуждения Гегеля вызвали впоследствии контррассуждения материалиста Н. Г. Чернышевского, который доказывал противоположное: красота природы выше. красоты искусства. Относительно преходящего характера произведений природы он веско замечал, что произведения искусства также не вечны, они гибнут или портятся. Прекрасное в искусстве подвержено капризам моды и обветшанию материала, чего не знает природа. Устаревает язык в поэзии, многое со временем становится бесцветным и просто непонятным. Линяют и темнеют краски в живописи, произведения которой, как и скульптуры, стоят ниже произведений природы и жизни в силу своей мертвенности и неподвижности.
Сегодня этот спор нам представляется искусственным и надуманным. Задача материалиста не в том, чтобы «защитить» природу от посягательств идеалиста. Главное – найти в жизни человека и общества ведущее материальное начало. Не природа как таковая играет определяющую роль в формировании сознания, а ее изменение человеком. И следовательно, вся духовная жизнь, в том числе и искусство, и его основное понятие – прекрасное должны быть поняты как плоды материальной деятельности человека.
Эстетика Гегеля пронизана пафосом деятельности, и в этом, несмотря на ложные исходные посылки, ее ценность, ее близость философии диалектического материализма. «Вещи, являющиеся продуктами природы, существуют лишь непосредственно и однажды, человек же как дух удваивает себя: существуя как предмет природы, он существует также и для себя, он созерцает себя, представляет себе себя... Этой цели он достигает посредством изменения внешних предметов, запечатлевая в них свою внутреннюю жизнь и узнавая в них свои собственные определения. Человек делает это для того, чтобы в качестве свободного субъекта лишить внешний мир его неподатливой чуждости и в предметной форме наслаждаться лишь внешней реальностью самого себя».
Здесь уже фактически сформулированы основные идеи трудовой теории красоты. Анализируя производство, Маркс в дальнейшем покажет, что процесс труда носит двойственный характер. С одной стороны, происходит потребление вещей, с другой – их превращение во «вместилища субъективной деятельности». Человек как бы «опредмечивает» свою сущность, в созданных или преобразованных предметах он узнает самого себя. Взгляд на вещь как на «предметное человеческое отношение» [27]27
К.Маркс и Ф Энгельс, Об искусстве, т. 1, стр. 140
[Закрыть] есть основа того, что мы называем красотой. Мать красоты – природа, труд – ее отец; дитя рождается от соития этих двух начал.
Эстетическое отношение антропоморфно. Мы называем животных красивыми, отмечает Гегель, если они обнаруживают душевные свойства, созвучные человеку: силу, храбрость, добродушие и т.п. Не сам по себе безобразен крокодил, а только лишь потому, что он представляет для нас угрозу. Красота всегда человечна.
Красоту Гегель определяет (вслед за Гердером) как чувственную форму истины. Искусство не может обойтись без чувственного материала. Но далеко не все чувства (точнее ощущения) участвуют в художественном переживании: обоняние, вкус, осязания находятся за его пределами. Лишь так называемые теоретические чувства – зрение и слух – могут воплотить художественное содержание. Зримое и слышимое выступают в качестве оболочки эстетического объекта, которая вместе с тем отличается от непосредственной чувственности материальной вещи. Чувственность в искусстве есть видимость (о смысле и значении этой категории мы говорили выше, разбирая «Науку логики»), художественное произведение лежит посредине между непосредственной чувственностью и мыслью, принадлежащей области идеального. Чувственное в искусстве одухотворяется, с другой стороны, духовное получает в нем чувственную форму.
Эти идеи Гегеля о чувственной природе эстетического получили широкое распространение, вошли в учебники. Вне яркого восприятия нет красоты. На первый взгляд это бесспорно верное положение и возразить здесь нечего. Но только на первый взгляд.
Фактически подобная точка зрения была поставлена под сомнение уже в древности, когда возникли теории о сверхчувственной, умопостигаемой красоте. Позднее было подмечено, что слово лишено наглядности, что действие поэзии покоится отнюдь не на силе чувственных впечатлений. Прочитайте любое стихотворение, и никакой зримой картины при этом не возникнет. Лишь появятся смутные ассоциации; воображение и воспоминание, знание и догадка сольются в целостный комплекс, который и вызовет эстетическое переживание. Эстетическое всегда эмоционально, но вызывать эмоции способна не только чувственная, но и интеллектуальная деятельность.
Мы говорим о красоте мысли отнюдь не в переносном смысле. Художественное начало пронизывает науку, особенно там, где речь идет о поисках новых теоретических и технических решений, где мысль стремится охватить предмет в его многосторонних связях, в единстве противоречивых тенденций. С другой стороны, интеллектуальное начало оплодотворяет искусство, а ныне между некоторыми областями гуманитарного знания и искусством происходит не только сближение, но и слияние в буквальном смысле слова. Гегель был слишком педантичен в своих систематизаторских устремлениях. Там, где он пытался провести четкие границы, на самом деле происходит взаимопроникновение лежащих рядом сфер духовной жизни – искусства и науки.
Гегелевское определение красоты как чувственной формы истины вызывает еще одно возражение. На этот раз прямо противоположного характера. Истина есть согласие между предметом и знанием; искусство, по Гегелю, представляет собой ступень самопознания абсолютной идеи. Между тем художественная литература дает человеку определенный комплекс знаний, но главным и в прозе и в поэзии все же остается другое – эстетическое переживание. Познавательная функция играет огромную роль в искусстве, но не исчерпывает его. Искусство выполняет и другие функции – общения, воспитания, отдыха, но ни одна из этих функций не выражает специфики художественного творчества. Специфика только в эстетическом переживании – особого рода радости, связанной со способостью человека свободно творить и любоваться творчеством.
Таковы две существенные поправки к гегелевской теории прекрасного, которые позволят нам увидеть корни некоторых других слабых ее сторон. Но пока о достоинствах. К ним, безусловно, относится широта подхода к проблеме. Прекрасное для Гегеля – предельно общая категория искусства. В эстетике ее роль аналогична роли категории бытия в логике. Художественное произведение является произведением искусства лишь постольку, поскольку оно прекрасно. Вне прекрасного нет искусства. Разумеется, это не значит, что художник ограничивает свой материал только красотой жизни и природы. Красивый юноша может быть бездарно изображен живописцем, в результате возникает нечто безобразное, к искусству отношения не имеющее. И в то же время талантливо написанный портрет уродливого старика – феномен искусства и красоты.
Диалектическое мышление анализирует категорию прекрасного во всей полноте ее сложных, противоречивых связей, во взаимных переходах в собственную противоположность. Гегель наметил здесь лишь исходные принципы и, как мы увидим далее, не был достаточно последователен в их проведении. Развитие идей Гегеля мы находим в книге его ученика К. Розенкранца «Эстетика безобразного». Речь, разумеется, идет не о болезненном любовании мерзостями жизни, таковое находится за пределами эстетики и только свидетельствует об испорченности нравов. Не само безобразное доставляет нам художественное наслаждение, а его преодоление красотой. Последнее может совершаться трояким образом. Талант художника облекает в эстетически воспринимаемые формы то, что в жизни выглядит неприглядно и даже отталкивающе. На полотне Паоло Веронезе «Свадьба в Кане» изображен ребенок, отправляющий естественные надобности, и взрослый, которого рвет. Другая возможность открывается перед художником, стремящимся обнаружить за безобразной видимостью прекрасный внутренний мир. Шуты Веласкеса уродливы, но какая человечность светится в их гдазах! И в жизни за отталкивающей внешностью человека скрываются подчас благородство и духовная красота.
И наиболее важное обстоятельство – приговор художника над антиэстетическим: ложью, насилием, злом. Содержание искусства, помимо изображаемого материала, необходимо включает в себя его оценку. Художник, произнося приговор над безобразным, отрицая его, утверждает тем самым эстетический идеал. Отрицание отрицания есть утверждение, в данном случае – прославление красоты как правды жизни. В таком широком понимании категория прекрасного становится исходным понятием реалистического искусства.
Логика Гегеля, как мы помним, представляет собой систему понятий, построенную по принципу восхождения от абстрактного к конкретному. В эстетике принцип систематизации иной – сугубо исторический. Все понятия теории искусства представляют собой конкретизацию исходной категории – прекрасного, но расположены они в той последовательности, в какой, по мнению Гегеля, происходила смена различных художественных форм.
Основная триада состоит здесь из трех форм искусства – символической, классической и романтической. Критерий оценки – соотношение между художественным содержанием и его воплощением. В символическом искусстве содержание не нашло еще адекватной формы, в классическом – они находятся в гармоническом единстве, и в романтическом это единство снова распадается; содержание перерастает форму. Символическая форма господствует на Востоке, классическая – в античности, романтическая – в христианской Европе. Только классика является подлинным искусством. То, что ей предшествует, по мнению Гегеля, всего лишь предыскусство, а романтическое искусство знаменует собой распад, гибель искусства: мысль и рефлексия обгоняют художественное творчество, которое закономерно уступает место другим видам духовной деятельности. Наше время неблагоприятно для искусства, оно не доставляет того духовного удовлетворения, которое находили в нем прежние эпохи и народы. Настоятельной потребностью в наши дни становится наука об искусстве, искусство приглашает мысленно рассмотреть себя, но только для того, чтобы понять художественное творчество, а не оживить его. Конечно, можно питать надежду, что отдельные виды искусства и дальше будут расти и процветать, но в целом его форма перестала быть высшей потребностью духа.
Плодотворно стремление Гегеля увидеть в развитии мирового искусства определенную взаимосвязь и последовательность. Но взаимные отношения между содержанием и формой не дают оснований для конструирования схемы. Здесь Гегель не в ладах с собственной, диалектической логикой. Разрыв, несоответствие между содержанием и формой возможны только в саморазвивающемся явлении. Произведение же, вышедшее из рук художника, есть нечто завершенное, ставшее. Здесь содержание и форма находятся в единстве. Не может превосходное содержание быть отлито в негодную форму и наоборот. Согласно логике Гегеля они тождественны. Третировать формы азиатского искусства как неразвитые, варварские, как недоискусство, видеть эталон художественности в европейской античности, значит проявить ограниченность и вкуса и мировоззрения. Европа не центр вселенной.
Что касается враждебности нового времени художественному творчеству, то Гегель безусловно прав, хотя это не означает гибели искусства. Речь идет не о том, что искусство изжило себя как форма самопознания абсолютной идеи. Ясность в проблему внес Маркс: искусству враждебен мир капитализма. В основе этой враждебности лежит антигуманистическая сущность буржуазного общественного устройства, которое хотя и освободило человека в значительной степени от подчинения природе, но сделало его «рабом других людей либо же рабом своей собственной подлости» [28]28
К. Маркс и Ф.Энгельс, Соч., 2-е изд., т. 12, стр. 4
[Закрыть]. В обществе, построенном на товарно-денежных отношениях, никто не чувствует себя полноценным человеком, гармонической личностью. Рабочий изуродован эксплуатацией, калечащим разделением труда, одуряющей работой на производстве, где он выступает в качестве придатка к машине. Капиталист – «раб собственной подлости» смотрит на действительность только с торгашеской, хищнической точки зрения, исключающей возможность эстетического отношения к жизни. Вот почему буржуазный мир враждебен искусству. Он антигуманистичен, следовательно, антихудожествен, антипоэтичен.
Но если капитализм враждебен искусству, то почему именно в эту эпоху некоторые виды искусства достигли небывалого расцвета? Здесь нет ничего удивительного: капитализм создает не только свои опоры, но и своих могильщиков; искусство принадлежит к их числу. Капитализм враждебен искусству, точно так же подлинное искусство враждебно капитализму; рожденное в условиях буржуазного общества искусство всем своим существом выражает протест против бесчеловечности капиталистических отношений. Каждый вид художественного творчества делает это по-своему: и то, что происходит в современной западной живописи, в значительной степени объясняется неприятием художниками окружающего их мира. Накапливая материальные ценности, капитализм растрачивает ценности духовные; искусство пытается этому противоборствовать. Отсюда, кстати, упования многих великих умов на художественное творчество и эстетическое воспитание как на средство решения социальных конфликтов. Искусство – это единственный в своем роде аккумулятор духовной культуры человечества, барометр, чутко предсказывающий социальную погоду, бескомпромиссный борец за человечность. Гегель преждевременно отказал ему в праве на существование. Искусство не перестало быть высшей потребностью духа.
Определив наше общее отношение к схеме Гегеля, последуем, однако, за ходом его рассуждений. Первая ступень символической формы искусства – бессознательная символика. По сути дела, хотя порой и в иных терминах, Гегель разбирает здесь мифологическое сознание. На этой ступени «нельзя говорить о различии между внутренним и внешним, смыслом и образом, потому что внутреннее еще не отделилось от своей непосредственной действительности». Вывод Гегеля умозрителен, в его годы только начиналось научное изучение мифологии и были не известны ее наиболее древние формы, но мыслитель безошибочно постиг суть дела: человек первоначально не способен выделять себя из окружающей среды; весь мир представляется первобытному человеку как нечто единое с ним. В дальнейшем наука подтвердила этот вывод. Наиболее древние памятники искусства (открытые много лет спустя после смерти Гегеля) – наскальная живопись, удивительно точные и экспрессивные изображения животных. Сознание людей древнего каменного века отождествляло предмет и изображение; совершая ритуальный обряд перед охотой, изображая и поражая подобие животного, они не сомневались в дальнейшем успехе своего дела. Первобытный художник старался как можно точнее воспроизвести натуру.
Затем происходит странная метаморфоза. Художники как бы разучились рисовать. В новом каменном веке изображения становятся условными. Нет прежней яркости и выразительности; появились таинственные знаки, смысл которых невозможно разгадать. Смысл и образ отделились друг от друга. Можно предполагать, что это связано с появлением религиозных верований. Исчезает первозданная псевдогармония, некогда простой и единый мир предстает теперь перед сознанием человека как обиталище сверхъестественных и непонятных сил. И это сверхъестественное, непонятное содержание наполняет образы искусства. Образ становится символом, значение которого далеко не всегда поддается четкому истолкованию. Гегель (которому были неизвестны памятники неолита) примеры подобного искусства находит в Древнем Египте. И наиболее яркий – фигура сфинкса. Он является как бы символом самого символизма.
В древнегреческом мифе об Эпиде сфинкс задает вопрос: кто ходит утром на четырех, днем на двух, а вечером на трех ногах? Эдил быстро нашел разгадку. Он ответил: человек – и сбросил сфинкса со скалы. Разгадка символа, резюмирует Гегель, заключена в душе человека, свет сознания заставляет содержание просвечивать сквозь принадлежащую ему форму. Символика становится осознанной.
Так Гегель подходит к категории возвышенного. Перед его глазами – кантовский анализ проблемы. Кенигсбергский философ правильно видел смысл категории возвышенного в том, что она выражает собой все возвышающее человека. Мы чувствуем прилив духовных сил от созерцания обьектов, величина которых превосходит наш привычный чувственный масштаб, возвышенное но Канту – это безмерное, бесконечное; содержатся возвышенное не в предметах природы, а лишь в нашей душе.
Гегелю близки поиски духовного содержания возвышенного, но он не согласен с перенесением целиком в «субъективность души». Возвышенное выражает собой некое объективное содержание духа, воплощающееся в определенных исторически сложившихся формах искусства – поэзии индийца, персов я древних иудеев.
В символе главным был образ. Последний обладал смыслом, хотя полносью и не мог его выразить. Этому символу с неясным содержанием противостоит теперь смысл как таковой в его ясном понимании; художественное произведение становится носителем чистой сущности, которая, однако, не может найти пластического воплощения. Бог есть творец вселенной – это, по Гегелю, наиболее зрелое выражение возвышенного. Изобразительные искусства здесь бессильны, только посредством слова можно создать возвышенное представление о божестве.
На смену символическому приходит классическое искусство Древней Греции. Основой классического искусства служит абсолютная гармония содержания и формы. «Здесь искусство в такой мере достигло своего собственного понятия, здесь оно приводит идею как духовную индивидуальность в такую непосредственную и совершенную гармонию с ее телесной реальностью, что теперь впервые внешнее существование уже не сохраняет больше никакой самостоятельности по отношению к смыслу, который оно должно выражать. И наоборот, внутреннее содержание в своем образе, выработанном для созерцания, показывает лишь само себя и утвердительно соотносится в нем с собою».
Греческое искусство для Гегеля – реальное бытие идеала. Греки не задержались на ступени восточного деспотизма, про котором человек исчезает во всеобщей субстанции государства, и не достигли субъективизма христианской Европы, где личность отрывается от целого.
Их уделом была счастливая гармония индивидуального и всеобщего, прекрасным воплощением которой стала греческая поэзия и пластика. Последняя (скульптура) является наиболее подходящей формой для воплощения идеала – возвышенного божественного содержания в форме прекрасной человеческой индивидуальности.
Но классические боги несут в себе зародыш своей гибели. Они возникли лишь в камне и металле, антропоморфизму греческих богов недостает действительного человеческого существования, как духовного, так и телесного, Это приносит с собой только христианство, в котором дух человеческий начинает возвращаться в бесконечность внутренней жизни.
Ничего более прекрасного, чем классическое искусство, по мнению Гегеля, «быть не может и не будет». Однако существует нечто более высокое, чем прекрасное явление духа в непосредственном чувственном облике, даже если этот облик создан самим духом как адекватный ему. Возвышаясь, красота становится духовной. Классическое искусство сменяется романтическим. Здесь все содержание концентрируется во внутренней жизни духа, внешние формы снова играют подчиненную роль. Образ канонически задан, все телесное в нем служит лишь выявлению святости, глубины страдания и божественного покоя. Речь идет о религиозном искусстве средневековья, единственным сюжетом которого было священное писание. Строго говоря, по Гегелю, это уже не искусство: страсти господни, жития мучеников, картины Страшного суда не могут воплотиться в форму прекрасного. «Мучения и неслыханные ужасы, увечья и уродование членов, телесные истязания, действия палачей, обезглавливание, поджаривание, сожжение, погружение в кипящее масло, колесование и т. д., взятые сами по себе, являются безобразными, противными, отвратительными внешними фактами. Они настолько далеки от красоты, что здоровое искусство не должно избирать их своим предметом. Способ трактовки этих предметов по своему исполнению может быть превосходным, но в этом случае интерес, вызываемый превосходным исполнением, всегда относится только к субъективному аспекту, который хотя и может представляться отвечающим художественным требованиям, все же тщетно старается согласовать со своим совершенством неподходящий материал».








