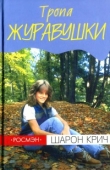Текст книги "Много шума из никогда"
Автор книги: Арсений Миронов
Жанр:
Альтернативная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 37 страниц)
Пришлось задрать подол сорочки и зажать лицо тканью, чтобы глаза не выело. Вскоре стало ясно, что пожираемая пламенем гора падали была свалена прямо у подножия Чурилинова столба и всей своей золисто-трескучей массой наваливалась на крышку моего подземелья. Вход был закрыт. Я недоброжелательно покосился на худощавого воина в желтоватых доспехах, надетых на добротную серую рубаху без кольчуги: парень ожесточенно подпихивал острием копья опаленные лошадиные ноги, вылезавшие из огромной горящей кучи. По длинному загорелому носу парня сбегали крупные капли пота, и он то и дело отставлял копье, снимал маленький, необычно плоский блестящий шлем и нервно вытирал курчавые оливковые волосы нечистым полотенцем.
– Кто сей? – поинтересовался я у соседнего поселянина, безразлично зевавшего на костер.
– Иноземец. – Выдох поселянина смутил меня перегаром. – Новый князь пришел на нашу землю. Из-за моря. – Сказал и еще зевнул. – А это княжьи вой. Речи нашей не ведают, а повелевати посланы. Тут воля великого Ярополка…
Я морально сплюнул и отошел. Чумная деревня: сначала божок в сапогах из-за гор приходит, теперь князь из-за моря. Не хватает прочной национальной власти. Загорелая иноземная братва сжигает Чурилины жертвоприношения и, очевидно, уже запрятала в застенки всех Куруядовых агентов в черных плащах. Однако это не значит, что новый заморский князь радостно встретит десятника Мокоши с серебряной змейкой на шее и не прикажет бросить его в общий костер.
Дом старейшины с высоким крыльцом и полуоткрытой тяжелой дверью вновь заинтересовал меня. Если нельзя проникнуть в подземелье с улицы, попробуем залезть в Куруядовы катакомбы традиционным путем – через бочку в погребе. Покинув толпу, я начал бесцельно слоняться по площади в направлении высокого крыльца. В старое доброе время здесь лежал бледнолицый охранник в черном плаще, нещадно ударенный моим коленом. А теперь – никого.
Легко вскочив наверх по знакомым ступеням, я протиснулся в дверную щель. Тихо и нехорошо было в жилище – показалось, вот-вот выскочит из-за угла кащеистый Куруяд с отравленным ножом в зубах… Темнота мешала смотреть – однако впереди наметился узкий коридор, прорезанный чересполосицей узких лучиков голубого света, пробивавшихся сквозь щели в ставнях. Эти свербящие лучики напомнили мне лазерную паутину в дискотеке «Пилот», что на улице Пятого года в Москве. Только здесь не было милых девушек в европейских платьях, и не было разбавленного джин-тоника за восемь долларов полстакана. Здесь была недоброкачественная тишина, а вовсе не веселая музыка. Танцы с волками, вот что это напоминает.
Когда холодное острие копья вдумчиво прокололо мне рубашку между лопатками и тупо уперлось в позвоночник, я понял, что дотанцевался. Но не очень расстроился. Я был благодарен тому человеку с копьем, что стоял сзади. При желании он мог не просто приставить наконечник к моей спине, а сделать это с усилием и чисто русским размахом.
На поверку оказалось, что этот милый парень вовсе не был чисто русским. Один из загорелых дружинников, бешено блестя во тьме белками глаз, ловкой подножкой мягко уложил меня носом о дощатый пол и наспех стянул запястья кожаным ремнем (Боже, неужели опять?!), радостно посапывая носом от торжества.
А я и не сопротивлялся почти. Плечо еще не достаточно зажило, да и напарываться на меч второго дружинника (он скрывался за углом коридора в том самом месте, где стоял когда-то Куруяд с факелом) было бы преждевременно. Вдвоем иностранные ребята с трудом потащили меня из дома обратно на двор – тяжело дыша и сдавленно переговариваясь на нерусском языке.
– (Это удача, Фома. Кажется, мы поймали еще одного), – промяукал тот, что тащил меня за руки. Мне стало обидно, что я ничего не понял. В конце концов, русский – это один из официальных языков ООН. Как гражданин страны, являющейся постоянным членом Совета Безопасности, я требую уважения своих прав.
– (Несомненно), – тут же возразил второй, удерживавший меня под мышки. – (Посмотри, что блестит у него на шее. Как я думаю, это языческий амулет, прости Господи. Этот негодяй не зря проник в дом – у него, очевидно, имеется некая цель. Предводитель Герасимос был совершенно прав, приказав устроить здесь засаду.)
Загорелые ребятки разговаривали так быстро, что я не улавливал даже общеизвестных интернациональных слов воде спутника, доллара или эндогенной сукцесии. Склонен объяснять это тем, что они беседовали не о важных вещах, а о чем-то личном – например, о погоде на завтра.
– Полагаю, с утра будет оттепель, – сказал я, вежливо включаясь в разговор на заданную тему и стараясь держать голову так, чтобы она не стучала затылком о бронированный живот дружинника. – А вы как думаете?
– (Смотри-ка, Фома, он разговаривает), – снова произнес первый, и мне показалось, что он не согласен с версией насчет оттепели. – (Хорошо, что мы взяли его живым. Предводитель Герасимос будет доволен, потому что сможет допросить этого язычника.)
– (Это все благодаря тебе, Фока), – подхватил второй. – (Как ты ловко прижал его копьем к стене! Теперь рассчитывай на награду и отпуск.)
Нет, они явно не верили в скорую оттепель. И напрасно: иностранцы ведь, а пытаются спорить с местным жителем.
– Я вам говорю, что завтра все растает и закапает с крыш. Это совершенно точно. Перед оттепелью всегда голова болит, а у меня сейчас она просто раскалывается, можете верить.
Голова и правда гудела – то ли от грядущего потепления, то ли от падения носом об пол.
Иноземные дружинники обращались со мной просто замечательно. Они, можно сказать, носили меня на руках. Во всяком случае, честно донесли до какой-то телеги, стоявшей во дворе неподалеку от народной толпы, окружавшей горящую кучу падали. Здесь нас встретил еще один иностранец, изображавший из себя начальника. Он очень обрадовался мне (даже панковские перья, торчавшие из шлема, затряслись от восторга) и приказал поскорее погрузить меня в телегу, чтобы мне было мягко и уютно лежать там, связанному, на сене.
– (Блестяще, Фока. Отлично, Фома), – жестким командным голосом сказал статный начальник и скосил глаза наверх, наблюдая, как красиво колышутся его перья. – (Согласно приказу князя этого пленника мы тоже отправим в столицу. Вы двое поедете вместе с телегой и будете осуществлять охрану. За жизнь пленников отвечаете головой. Князь Алексиос велел немедленно направлять к нему всех задержанных жрецов, шаманов и прочих пропагандистов язычества. Что касается пойманного вами злодея, я почти уверен, что это очень опасный тип, агент и, возможно, волшебник. Посмотрите, какое у него наглое лицо.)
Показалось, что командир мне улыбается, и я тоже улыбнулся в ответ – мило, но с достоинством. Пусть помнят, что я – гражданин страны, являющейся постоянным членом Совета Безопасности.
Двое дружинников запрыгнули в телегу, и сухощавый мужичонка, правивший лошадью (славянин из местных – очевидно, сотрудничает с иностранцами), плеснул вожжами по спинам двух кобылок. Когда мы выехали из ворот городища, я обнаружил наконец, что лежу на чем-то жестком. Незнакомая голая нога торчала из кучи сена и упиралась мне в ребра колючей пяткой. Обернувшись, я разглядел в сенной куче остальное тело попутчика, который был также связан и молча залегал лицом вниз, переживая всю глупость, всю абсурдность случившегося несчастья.
– Не плачь, браток, – доверительно сказал я. Очень хотелось похлопать его по плечу, но руки были связаны, а плечо еще побаливало. – Не плачь: всех не перевешают. Мы умрем, но нас миллионы. Товарищи отомстят.
Собрат по несчастью осторожно завозился среди сена и начал медленно оборачивать ко мне свое лицо. Перепуганное. Бледное. Продолговатое. Рябое. Да.
Это был он, рыбоглазый эсэсовец, пытавшийся напугать меня шильцем. Подлое существо, не добитое Жилой. Теперь он смотрел и мелко подмаргивал от страха. Он переживал за свою гнусную фашистскую душу. Он боялся, что я от неожиданности водвину ему в лицо подошву свободной ноги.
– Смерть фашистам! – поприветствовал я враждебного агента. – Доигрался, гнида эсэсовская? Чтоб тебя, гада, первого повесили!
Молодой чурилец спазматически шмыгнул носом и скривил сизые губы.
– Что, оккупант недобитый, скрутило тебя жизнью? Попробовал русского хлебушка? Сволочь берлинская, а еще советским кузнецом прикидывался: «Я, дескась, коваль Будята Точилин, сын члена партии и молодой комсомолец!» Теперь жди. Москва слезам не верит.
– Само жди! – взвизгнул вдруг недобитый вражина. – И тебе, и тебе часом не жить! Корчалина кость, престольский увалень! Змеицу на жерло цепил! Сроком потоскают тебя иноземцы-то за Мокошину крепость!
Свершилось. Он правильно боялся моей свободной ноги. Эсэсовец обломился ушибленным лицом обратно в сено, а загорелые дружинники тут же бросились незаслуженно вязать мне ноги веревками. Они ругали меня непонятными словами, и я затаил в сердце досаду. Человек совершенно законно мстит за шильце, а ему ноги путают.
– Ну как, побаливает? – полюбопытствовал я вскоре, обращаясь к затихшему чурильцу. – Челюсть еще двигается? Да ты не рыдай, браток, давай лучше беседовать. Путь неблизкий, а с этими чумазыми общение не складывается. Язык у них неродной.
– Грецкая речь, – злобно выдохнул эсэсовец, глотая эмоции. – Ты – неуч, и потому смолчи. Не знаешь молвы заморской, Мокошин разбитчик! Дави себе сено!
– А ты прямо знаешь! – заинтересовался я. – Ну-ка, о чем они общаются? (Конвоиры, и верно, постоянно переговаривались вполголоса – быстро и деловито, продолжая вертеть головами по сторонам, чтобы не прозевать нападение противника.)
– И ведаю, да тебе не прознать! – Враг был явно обижен за недавний удар подошвой. – Эх, не доспел я тебе глаз-то вынуть давеча, в кузне…
Я пошевелил связанными ногами, прикидывая, можно ли ударить обеими пятками одновременно. Едва ли. Ну что ж, придется решать проблему дипломатическим путем.
– Ах ты, щучий сын, мерин куруядовский! Мало тебе десятник Жила костей наломал! – Я запнулся, подбирая подходящие дипломатические формулировки. Что ни говорите, потомки, а не всякое московское выражение сможет метко ударить по психике средневекового человека.
Эсэсовец притих и на оскорбления не возмущался: видимо, вслушивался в речь конвоиров. Я позавидовал. Образованный фашист попался, по-иностранному знает. Он сказал, что загорелые парни в нерусских шлемах суть греки, из чего я могу заключить, что они – в отличие от славян – язычниками не являются и едва ли похвалят меня за Мокошину змейку на груди. Если ты грек, то тебе, скорее всего, совершенно наплевать, Чурила или Мокошь, Стожар или Мстибог Лыковый. Всех в одну кучу. Всех огнем и мечом… Милые ребята. И каким мусорным ветром занесло их на наши языческие головы? Сидели бы себе в Греции, пили «Метаксу» и ругались с турками из-за границы территориальных вод. Так нет: притащились всей оравой на Русь, да еще княжество выклянчили у Престольских властей. Теперь повластвуют над нами: благо один только Брынский лес территориально превосходит Греческую республику в одиннадцать раз.
– Слышь, браток! Ты не обижайся на меня, – примирительно обратился я к затихшему попутчику. – Если я чего обидное сказал, ты не злись. Нам теперь вместе помирать. Мы теперь поневоле союзники. Давай мириться. А кто прошлое спомянет, тому…
– Тому глаз вон! – с ненавистью сказал эсэсовец и шумно перевернулся на другой бок.
Шутка удалась. Удивляясь собственной терпимости, я позволил чурильцу пожить на белом свете еще немного – не стал я убивать его сразу. И покосился на ближайшего конвоира. Вдруг удастся все-таки завязать знакомство с этим симпатичным парнем? Подумаешь: косой шрам через пол-лица – не исключено, что греческим женщинам такие еще как нравятся… К сожалению, дружинник даже бровью не повел в ответ на мое вежливое обращение. Может быть, потому, что я обращался по-английски? Они, эти греки, ужасные националисты. Не любят международного языка. Противятся западной культуре.
– Нет, серьезно, браток, – вновь обратился я к связанному чурильцу. – Если хочешь знать, у тебя есть известный шанс выжить. Мои друзья-дружинники следят за нами из ближайшего леса и тайком передвигаются параллельным курсом, ожидая подходящего случая, чтобы напасть и освободить меня. Если ты будешь вести себя хорошо, я возьму тебя в свой десяток барабанщиком. Ты умеешь барабанить?
Эсэсовец кисло хмыкнул.
– И чудесно. Будешь барабанить при всяком удобном случае, – сказал я и отвернулся. Внезапно греческие дружинники перестали переговариваться и поспешно завозились в сене, нащупывая позабытые щиты и шлемы. Через секунду я услышал легкий нарастающий гул, переходящий в дробное перестукивание копыт по лесной дороге. Грек со шрамом кувыркнулся с телеги на землю, прячась за колесо и профессиональным жестом выставляя вперед небольшой арбалет, ощеренный маленькой тяжелой стрелкой с четырехгранным наконечником. Седенький мужичок-возница нервно затряс головой и молча полез хорониться в сено, а второй дружинник – тот самый, что прижал мне спину копьем – бесшумно спрыгнул на землю и, пригибаясь, метнулся в соседние кусты, на ходу вытягивая из ножен небольшой мечишко.
Я подтянулся к краю телеги и высунул лицо навстречу копытному топоту. Фигурка всадника уже мелькала вдали точно посреди светлого туннеля, проделанного дорогой в густо-зеленой полутьме леса. Не иначе, верный Скольник спешит мне на выручку – только вот откуда у него лошадь?
Я догадался, что это не Скольник, когда грек со шрамом облегченно вздохнул, отбросил в сторону арбалет и не спеша полез из-под телеги наружу. Он уже размахивал всаднику свободной рукой и улыбчиво щурился.
– (Все хорошо. Фока), – подозвал он напарника, и тот шумно полез из кустов обратно. – (Это вестник от князя Алексиоса. Я узнал его по доброму коню и греческой манере держаться в седле. Очевидно, он скачет в Санду с приказом.)
– (Ты прав, это наш. Посмотри, на нем греческий доспех. Я обрадован. Честно говоря, в этом проклятом лесу нас вполне могла ожидать и менее приятная встреча.)
Всадник, увидав телегу, резко и умело осадил расходившегося коня и выдернул из-за спины маленькое копье – раза в полтора короче русского. Однако, заметив призывные помахивания и знакомые круглые щиты дружинников, радостно прижал животное шпорами – через мгновение лошадь была уже рядом, и кавалерист, перегнувшись и едва удерживаясь в седле, горячо обнимал левой рукой грязную шею ближайшего конвоира. Греческое копье по-прежнему было зажато в руке всадника, но он уже забыл о нем – и острый наконечник процарапал по борту телеги рваную занозистую кривую.
– (Фома! Фока! Братья мои, как я счастлив!) – Голос молодого всадника радостно звенел, и я понял, что он радуется встрече. – (Побери меня бес, я уже подумал, что передо мной воины соседнего князя! Что за удача!)
Мои охранники тоже умильно глядели на новоприбывшего коллегу, втайне завидуя его чудесной лошади и новеньким, свежим доспехам.
– (Ну, рассказывай же, что там творится в столице! Как поживает наш добрый князь? Как складывается война с соседями?) – сказал дружинник со шрамом, стягивая с головы ненужный шлем. – (Вот уже полдня прошло с тех пор, как князь Геурон послал нас в Санду наводить порядок после бесовских вакханалий, – мы ничего не знаем о ваших новых подвигах. Велики ли новые победы князя Алексиоса?)
– (Князь уже стоит под стенами Опорья!) – Всадник гордо выпрямился в седле. – (Говорят, что недостойный княжич Рогволод укрылся в этом городе – это его последняя крепость. Сегодня утром мы обстреливали Опорье камнями, а к вечеру князь ожидает подкрепление – несколько подвод с греческим огнем.)
– (А это значит, мы победим!) – радостно воскликнул молодой конвоир, тряхнув курчавой шевелюрой. – (Я всегда говорил, что язычники не устоят. Мы прибавим себе новые земли и скоро перестанем слушаться приказов из языческой столицы. Слава князю Алексиосу Геурону!)
– (Слава князю Геурону!) – немедленно подхватили двое других, едва успев заглотнуть необходимое количество воздуха. Как же мне нравится наблюдать эту эллинскую радость! Просто рижский бальзам на сердце.
– Исполать деспоту Алексиосу Хеурону! – повторил я их радостный клич, стараясь сделать людям приятное. Все трое разом обернулись.
– (Кто этот пленник?) – сказал кавалерист, небрежно махнув в моем направлении кончиком копья. – (Кажется, он пытается говорить по-гречески. Ах, я вижу, там двое. Вы везете их к князю?)
– (Да, в столицу. Прости, но я так и не научился выговаривать ее название), – угрюмо произнес конвоир со шрамом.
– (Не надо в столицу). – Всадник озабоченно поправил на груди пластинки доспеха. – (Князь хочет лично допрашивать пленных волшебников. А князь сейчас не в столице. Как я сказал, он осаждает Опорье. Вы должны везти пленников в Опорье.)
– (Это так), – сказал мужик со шрамом, немного подумав. – (Хотя я не знаю точно, где это находится.)
– (Это значительно дальше Вышграда. Я только что оттуда). – Кавалерист собрал поводья в одной руке, зажал копьецо под мышкой и свободной конечностью указал куда-то на Восток. – (Вы будете там к вечеру. Необходимо ехать строго на рассвет между двумя грядами холмов. Реку можно пересечь по огромному мосту между двумя деревнями на границе нашего княжества. Дорога совершенно безлюдна.) – Он ободрительно улыбнулся и решительно кивнул: – (Ну, мне надо спешить. В Санде ждут послание от князя.)
И он ускакал, такой симпатичный и бесстрашный. Один-одинешенек под безумным российским небом. Надеюсь, какой-нибудь добрый славянский разбойник уже выставил на пути греческого адъютанта десяток голодных оборванцев, которые с радостью помогут ему избавится от коня и доспеха. И будут совершенно правы. Если ты грек, то скачи себе где-нибудь в Греции. А вовсе не по звериному тракту Санда – Опорье в самом сердце беспредельной Руси.
Утомленный, я откинулся затылком в усохлое сено. Тихо перешептывались конвоиры, слабо пощелкивал вожжами седенький мужичок, и заморенные лошаденки привычно тянули свою телегу. Я почувствовал себя… ну, догадайся же, милый потомок! – кем я почувствовал себя? Правильно. Настоящим и благородным декабристом. И везут меня в Сибирь, и колесам трястись еще несколько долгих месяцев, и даже полпути не будет пройдено, когда мы въедем в зиму и наденем куцые тюремные полушубки поверх этих запыленных камзолов – последнего, что осталось от богатого гардероба молодого петербургского жителя… Милостивый государь Александр Сергеевич! Пишу вам с колес: я сам и князь С.С.Чурильцев находимся теперь где-то промеж Вяткою и Екатеринбургом, что уже само по себе есть повод писать тебе. Последние дни нередко вспоминаю я, любезный друг мой, наши дружеские вечера у тебя в Михайловском и шутки Льва Сергеевича, долгие разговоры над оставленным карточным столом и неожиданные визиты в соседскую усадьбу к вдове Петуховой… Все улетело, все распалось в пыль. А куда как свежи были мечты наши! Куда как прочно держались мы тогда за нашу мирную жизнь – я разумею не только извечный и беспременный стаканчик красного, подаваемый пожилым Антипычем ко всякому смелому висту. Но послушай, душа моя: напиши мне, как живете вы теперь с Натальею Николаевной и что есть сегодня Петербург. Так ли все хмур Якушкин, как прежде, в добрые-то годы? Пишет ли Языков в журналы? Не спился ли N.N.? Ты представить не можешь себе, что я все еще живу столичными слухами – недалеко, видать, утащил меня от Невского каторжный экипаж! Помилуйте, что за жизнь. Три дни тому проезжали Вятку. Я знаю, ты не любишь Радищева, но это совершеннейшие сцены из «Путешествия»… Представь себе только дом станционного начальника, эдакого провинциального Агамемнона…
Представляя себе Агамемнона, я забылся в легком сновидении. И немудрено: герой не спал толком вот уже двое суток. Будь я автор или режиссер, давно бы подгадал замученному персонажу удобную паузу в интервале чужих мизансцен, чтоб ему выспаться и рваное плечо залечить. Телега мерно колыхалась, раз в четыре минуты сухо содрогаясь, когда колесо переваливало выперший из земли корень. Агамемноны сменялись Одиссеями, и я проснулся заметно к вечеру. Солнце выдохлось и позорно жалось к горизонту, попутно подкрашивая облака в розовое и пухлое. Мы выехали из леса, и теперь только плоские холмы окружали тракт – я смотрел назад, туда, где сквозь поднятую телегой пыль оседало в закат жидкое багровое светило. Мне это напомнило ковбойские прерии, и невмочь захотелось виски.
А впереди уже вставал освещенный западными отблесками небольшой, но высокий город. Что за стены! Вот откуда неплохо править просторным княжеством. Греки заметно оживились и громче затараторили об увиденном; даже заспанный чурилец, выпутав из сена мятое арийское лицо, замер с приоткрытой челюстью, еще хранившей, казалось, отпечаток моей босой подошвы. Это вам не Стожарова Хатка и даже не Санда. Настоящий город – весь в осадных дымах и переблесках кольчуг на башнях, на трещинах стен и внизу, у подножия, по эту сторону рва. Совсем близко, в километре от нашей телеги, размашистым крылом охватывала стены чья-то грамотная и осторожная осада. Показалось даже, что людей немного – они терялись среди повсеместно черневших катапульт (2 штуки), осадных башен (1 штука) и просто широких походных шатров (2 штуки). Близился вечер, и в лагере осаждающих занялись ночные костры, ясно отмечая на местности яркий, звездчато-мигающий полумесяц блокады.
Телега приближалась к греческому стану, и навстречу уже понеслись окрики постовых. Эллинская речь расплескалась по ветру – конвойные дружинники оживились и, соскочив на землю, запрыгали рядом с подводой, размахивая руками. Они радовались: позади темный и неразборчивый в методах борьбы славянский лес, а здесь, в кишащем деловитом лагере полно своих, знакомых и сильных людей. Телега накренилась на спуске, увязая в глинистые колеи, – и греки не выдержали. Оторвались от колес – и побежали вперед, быстрее замешкавшихся лошадей, к своим кострам, навстречу знакомой речи. Седой возница устало расслабил повлажневшие от конского пота вожжи и, слегка запрокинув голову, обернулся назад, к солнцу. Солнце розово высвечивало его аккуратную бородку и спутанные пряди волос за ушами. В небе над моими раскрытыми глазами стремительно мелькнула узкая птица. В лагере зашумело, и нестройный гул приветствий проснулся среди шатров и катапульт. «Слава князю Геурону!» – радостно кричали греки, содрогая языческий воздух теплыми интонациями южного говора. Князь Алексиос Геурон выходил встречать двух преданных своих воинов, вернувшихся из отдаленной деревни. Князь Алексиос Геурон не спеша шел вверх по склону холма, с каждым шагом раздвигая полы тяжелого и багряного плаща, высоким и теплым взглядом раздвигая толпу соратников, тихим и уверенным сиянием золота на доспехах разгоняя трусливые языческие сумерки. Я почувствовал, что должен посмотреть на этого иноземца, нагло подрядившегося повелевать отдаленным и опасным удельным княжеством восточного приграничья. Приподнявшись на локтях и стараясь не налегать тяжестью связанного тела на заживающее плечо, я бросил оценивающий взгляд вниз, по откосу – туда, где смутно темнели греки. Толпа приближалась – князь Геурон шел посмотреть пленников.
Странная слабость разнеслась по моему телу, и с широкой улыбкой я повалился обратно в сено, спиной в сухую пахучесть травы. Я уже не смотрел на князя Геурона. Я уже знал, что он сам бежит ко мне – бежит, забыв про удивленные глаза дружинников, про гордый свой доспех и золотую цепь на груди, про неприступное Опорье и самое княжеское звание свое забыв. Потому что я уже увидел его лицо и понял, что эти темные глаза заметили меня. Потому что это был не испанский летчик и даже не ежик в тумане. И уж конечно, не греческий княжич Алексиос Геурон. Не знаю, как вам это объяснить. Это был студент истфака МГУ, мой добрый друг Алексей Старцев.