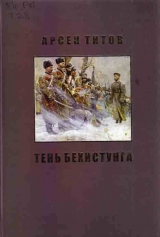
Текст книги "Под сенью Дария Ахеменида"
Автор книги: Арсен Титов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 20 страниц)
– Это все, господа? – спросил я.
– Это все! – стараясь вперед Сухмана, сказал Шумейко и похолодел глазами. – Советуем без этого, без всякого там! Иначе за неподчинение ревкому может быть и расстрел!
Сухман же совсем сдвинул друг к другу брови и собрал в пучок губы, прокатил желваки.
– Благодарю за оценку моей службы! – встал я.
А двери за собой я не успел захлопнуть, как услышал чисто уральский говорок.
– Маленькёй, а вонькёнькёй! – сказал кто-то.
Я вернулся, встал перед толпой ко-ко-комитетчиков, враз стихших и обернувшихся ко мне. Я увидел, им очень понравилось то, что кто-то из них это сказал, а я услышал и вернулся. Им бы не понравилось, если бы я не вернулся. Им было революционно скучно без действий, без показа своей революционной свободы и власти. Они искали повода показать их. Они его нашли в фразе, брошенной кем-то из них мне в спину с полным сознанием своей безнаказанности.
Они с вызовом и с насмешкой стали смотреть на меня. “Отчего ты вернулся и встал перед нами, ведь с тобой закончено, и товарищ Сухман с товарищем Шумейко или, наоборот, товарищ Шумейко с товарищем Сухманом тебя предупредили и тебя отпустили?” – говорили они внимательными и не совсем меня понимающими, но радующимися вдруг возникшему развлечению глазами. Мое возвращение их оскорбило. Они стали смотреть на меня с чувством оскорбленной справедливости. “Вы посмотрите-ка! – стали смотреть они на меня. – Его отпустили, а он лезет!” Они стали смотреть на меня так, будто не они меня оскорбили, а оскорбил их я. Да, собственно, так оно и получилось. Я оскорбил их уже тем, что не стерпел их оскорбления и вернулся перед ними, вернулся один против всех. Я в их глазах действительно оказывался вонькёньким. То есть справедливость действительно переходила на их сторону. И им было отчего сначала изобразить непонимание, а потом справедливо налиться ко мне злобой.
Мне же было все равно.
– Кто сейчас сказал про маленького и вонького? – спросил я.
Первым решением моим было схватиться за шашку. Кровь хлынула сначала мне в голову, потом выплеснулась в правую кисть, так что голове до колотья стало холодно, а тяжелая от крови правая кисть смогла бы сейчас развалить надвое любого из ко-ко-комитетчиков. Однако что-то подсказало мне, что это быстрое решение сейчас не может быть лучшим, потому что сейчас я не в бою, а в революции.
– Кто сказал? – снова спросил я.
– Ну, я, а чо? – сказал кто-то, и я не увидел кто, а вся толпа ко-ко-комитетчиков в превосходстве и даже в каком-то великодушии на меня оскалилась, то есть широко и душевно рассмеялась.
Если встать на их точку зрения, то нельзя было не увидеть их великодушия. Ведь они могли бы меня сейчас просто-напросто взять на штык. Они же великодушно мне позволили встать перед ними и своим вопросом их оскорблять. Но и в следующий миг этакое великодушие должно было обернуться штыком в моем животе. Но мне уже было все равно.
– Если бы ты был не в толпе, а один, – сказал я в толпу, – ты бы сейчас передо мной тянулся и мордой своей изображал полнейшее подобострастие. Но ты – шакал. Ты смелым бываешь только в толпе!
Я повернулся и в глухом молчании сделал только два шага. Они отчетливо отметились стуком моих каблуков – тук, тук, и маленьким набатом моих шпор – тум, тум!
А потом будто посуда упала с верхних полок посудного шкафа. Так со смачным чирканьем, со скрежетом и треском, звонко, глухо и плещуще взорвалась толпа.
Глава 26
Но только на миг. Товарищ Сухман пальнул в потолок из револьвера – и толпа замерла. Штык в мой живот откладывался до следующего случая. Я снова спросил, кто же обозвал меня. И на этот раз толпа промолчала.
– Идите вместе с тем, – сказал товарищ Сухман, опять споткнувшись на слове “товарищ”.
– Слушаюсь! – издевательски откозырял я и ушел.
Толпа, то есть революция, нашла возможным ничем на издевательство не отвечать. И только потом я понял, сколько же меня берегли мои заступники Богоматерь и матушка с нянюшкой. Я это понял и вдохнул в себя здешний персидский воздух всей грудью, как бы брал его про запас. Мне стало больно, что я отрываюсь от Василия Даниловича, от Коли Корсуна. Мне стало больно, что я отрываюсь от моих терцев – вообще от всех нас. Все оставались здесь. Я же не должен был остаться. Я пошел к себе, как бы уже и не к себе. Я пошел, медленно оттягивая минуту, когда войду в свой кабинет в последний раз, а потом к себе в каморку, где мы обитали с вестовым Семеновым. Тыловые солдатики мне козыряли. Я им механически отвечал. И я думал – а почему именно мне выпало уйти. И опять какой-то дальней стороной, как бы на горизонте, мне приходило сказать благодарность и заступнице моей Богоматери, и заступникам моим матушке с нянюшкой.
– Сотник Томлин где? – спросил я у вестового Семенова.
– Так что! – улыбнулся он мне обычной своей улыбкой во весь рот. – Так что, где-то с ветеринаром Шольдером!
– Хорошо, – сказал я, попросил его что-нибудь мне приготовить, а потом велел вернуться. – Иван, – сказал я. – Мы с тобой два года. Я ничем тебя не наградил.
Он вытянулся.
– Рядовой Семенов, – сказал я. – Я благодарю тебя за службу! Если есть у тебя пожелания, я за завтрашний день их исполню. Тебе совсем не обязательно уезжать со мной. Я тебя оставлю хоть вот Коле, то есть капитану Корсуну, хоть попрошу зачислить в любой полк!
– Ваше высокоблагородие, позвольте с вами! – в отчаянии вскричал он.
– А кто же соблюдет Локая? – спросил я.
– Позвольте с вами! Разве я чем провинился! – снова вскричал он.
– Солдат! – приобнял я его. – Я не знаю, что мне предстоит. Я хотел домой. А теперь мне их превосходительство генерал Раддац ставит задачу пробиться на Терек к генерал-майору Мистулову. Ты-то куда со мной?
– Да вот с вами-то хоть куда! А тут на Терек! Это же – домой! – вскричал он.
Я пожал плечами.
– Так я – с вами? – спросил он.
– Ну, солдат, со мной! – сказал я.
– Премного благодарен! Да ведь я вот как вам отслужу! – вскричал он.
Я ему согласно кивнул.
А письмо от Элспет оказалось на русском языке! Конечно же – его перевел на русский лейтенант Дэвид, а Элспет переписала нашими, совсем чужими для ее пальчиков, но совсем родными для ее сердца кириллическими знаками. Еще раз скажу, нет смысла приводить текст письма, полного любви. Но сразу же за первыми абзацами, говорящими об этой любви, пошел текст, который… ну, вот как бы кто из нас отнесся, если бы получил то, что пошло в следующем абзаце? А там пошло – и это уже писал сам лейтенант Дэвид с согласия Элспет, там пошло мне в связи с нашими событиями предложение вступить в британскую службу, пошло со всеми обоснованиями и заверениями, что решение принято уже на самом верху, едва ли не у короля Георга. “Борис, – просила своими пальчиками Элспет. – Борис, ты не изменишь своей стране. Ты просто некоторое время послужишь в армии Англии. Мы будем вместе. А потом, когда у вас будет хорошо, мы с тобой поедем к тебе, в твою и уже мою Россию. Скажи “да!”, Борис! Я и сейчас готова пойти с тобой. Но нам здесь говорят, что у вас убивают всех офицеров, у вас совсем нет никакого закона. Зачем же я приеду, чтобы увидеть, как убьют тебя? Я возьму подданство России, я буду везде и всегда с тобой, хотя бы пришлось быть мне в вашей Сибири. Ведь смогла же уехать к вам в Сибирь и работать там в лепрозории наша сестра милосердия госпожа Мардсен! Я никогда не вздохну от усталости или сожаления. Борис, но это чуть позже. А сейчас, Борис, скажи согласие служить в армии Англии. Ты спасешься. И мы вместе спасемся. И, Борис…”
И, Борис, – а дальше были три слова с запятой: “Борис, я беременна! – Лейтенант Дэвид на самом деле хорошо знал русский язык, коли смог сказать это наше русское слово именно в русской интонации, сокращенно. – Я беременна, – написала своими пальчиками Элспет. – Я беременна, и скоро я уеду к родителям в Шотландию. Но лейтенант Дэвид все сделает, чтобы мы встретились. Нужно только через нашего у вас представителя сообщить о твоем решении”.
Сказали, что Николай Николаевич Баратов сейчас находится в Индии, то есть в Британии. Сказали, что командующий Черноморским флотом адмирал Колчак пошел в службу к Англии. Я вспомнил товарищей Шумейко и Сухмана. Я вспомнил покойного Кодолбенко. “Ко-ко-комытэт!” – вспомнил я гнев генерала Федора Ивановича Кравченко. И я вспомнил моего сотника Томлина, беспалого, не могущего мне помочь шашкой. Я вспомнил Василия Даниловича Гамалия, Колю Корсуна. Всех, с кем мне привелось судьбой быть вместе, я вспомнил, вернее, всех я представил единым целым, нахмуренно взглянувшим на меня. И потом за ужином они все смотрели на меня. Многие уже знали, что я поведу на Терек часть имущества. И многие просили замолвить за них слово у генерала Мистулова.
– Не с Кубани, так с Терека начнем! – говорили они.
Я согласно кивал.
На том же ужине я спросил Колю Корсуна о дашнаках – кто такие.
– А вон подполковник Казаров! Идем-ка к нему. Он все исключительно объяснит! – взял свой фужер с вином Коля Корсун.
– Казаров – дашнак? – удивился я.
– Да только ты и не знаешь! Все эти инородцы сразу всякие свои партии организовали за всякое свое национальное самоопределение. Якобы эта нынешняя сволочь объявила им свободу действий! – в неприязни хмыкнул Коля Корсун.
Как и большинство офицеров, подполковник Казаров относился ко мне хорошо.
– Борис Алексеевич! – взялся он рассказывать. – Ничего худого в том нет, что мы, армяне, создали свое национальное движение. Вы, русские, наверно, считаете, что спасли нас, присоединив малую часть Армении к себе. Мы понимаем, что не все зависело от России. Но посмотрите, господа. Постоянно не все зависит от нее. Постоянно она, выиграв войну, так сказать, на поле брани, проигрывает ее за дипломатическим столом. Сколько же можно это терпеть? Может, тем же нам, бедным армянам, стоит посмотреть на все по-другому?
– По-другому – обратно с Турцией? – спросил я.
– Борис Алексеевич, – спокойно сказал подполковник Казаров. – Без Турции нам никак не обойтись хотя бы потому, что почти вся Армения находится в Турции. И уж, прошу меня простить, вина за трагедию позапрошлого, пятнадцатого, года равно лежит и на России. Она захватила Ванскую область. Армяне поверили в Россию. Она же армян оставила. Турки – народ мстительный. Так что не все так однозначно. Мы создадим свое национальное государство, вернее, воссоздадим свое национальное государство, – а там на все воля Божья. Может, и у турок за все спросим ответа. Кстати, и к господам грузинам у нас есть очень нелицеприятный для них разговор.
– Полковник, – не поверил я услышанному. – Вы русский офицер!
Он улыбнулся.
– Вам, русским, держаться за Россию. Нам, армянам, держаться за Армению. И мы создадим Великую Армению в прежних ее пределах. У нас на то есть историческое право. Вся восточная Турция – это армянские земли. Вся западная Персия – тоже армянские земли У нас больше прав на персидский престол, чем у самих персов! Да я думаю, вы как образованный человек это и сами знаете! – с артистически спокойной гордостью сказал подполковник Казаров.
– Про ваше, так сказать, право на персидский престол что-то не совсем я уверен! – сдержал я себя от более резких слов.
– Отчего же, полковник, – артистически дружелюбно ответил подполковник Казаров. – Наша династия Аршакидов тому доказательством. Ее представитель, ну, если хотите, ее потомок – князь Владимир Николаевич Долгоруков-Аргутинский. Его род впитал в себя кровь византийских императоров и персидских шахиншахов.
– Эджизе мифарманд? Разрешите проститься? – только и оставалось сказать мне обычную персидскую фразу при уходе гостя из дома, а потом сказать Коле Корсуну: – Да-а-а. И это русский офицерский корпус!
– Сдадутся туркам, англичанам, немцам, зулусам, абиссинцам – кому угодно, лишь бы досадить России! Вот так, друг мой! – сказал Коля Корсун.
– Насосались маминой титьки и плюнули на нее! – сказал я.
Новая власть от всего открещивалась, все сдавала в единственном стремлении удержаться. Нас вынуждали оставить Персию. Но по здравому рассуждению, всякая душевно здоровая власть, всякое душевно здоровое правительство со всей неизбежностью видело бы наши политические и экономические интересы России здесь, в Персии, вообще на Востоке. За несколько месяцев властвования этой сволочью уничтожалась многовековая работа предшествующих поколений. И вся эта сволочь свято верила, что именно ей история поставила урок вершить судьбу своих народов.
– А ведь все придется строить заново. Все придется заново отмывать кровью! – сказал Коля Корсун.
– Может быть, я останусь? Может быть, мне к Шкуре или Бичерахову Лазарю Федоровичу пока уйти? – схватился я.
– Дома тоже надо наводить порядок. Кстати, слышал, эти, новая сволочь, в Москве по Кремлю из твоих орудий садили? – сказал Коля Корсун.
– А твои англичане с удовольствием на это смотрели! – оскорбился я за артиллерию.
– Англичане не англичане, но кто-то это ловко провернул! – не успел сказать это Коля Корсун, как вскинулся: – А, кстати, письмо от мисс Джейн получил?
Всю ночь я если и спал, то урывками. Я видел Элспет. И потом я стал рядом с ней видеть Ражиту – Ражиту не шестнадцатилетнюю мою невесту, а шестилетнюю Ражиту, мою дочь. Мне было хорошо видеть их вместе – Элспет с дочерью. Я подумал, пришло время быть мне отцом. Я их видел здесь, в Персии, в нашем Шеверине, и я их видел в Екатеринбурге, в доме моего батюшки, ныне принадлежащем сестре Маше с ее семьей, и я видел их на нашей бельской даче. Я летел к ним натурально по воздуху, как летают птицы. Вроде бы я летел в Шотландию, а выходило, что летел над бельскими лугами, над самой Белой или над нашими екатеринбургскими улицами. В воздухе я разворачивался, метался, искал направление в Шотландию. А у меня снова выходили если не бельские луга, если не екатеринбургские улицы, то обрывистые холмы противоположного берега Белой или вдруг никогда мной не виданная Бутаковка сотника Томлина. “И Ражита, увиденная мной в толпе персидских ребятишек Ражита что-то мне подсказала!” – пришло мне наконец.
Утром я написал Элспет: “Я люблю тебя и наше дите. Я к тебе и к нашему дитю приеду, как только восстановим в России порядок”. Было это высокопарно и по стилю лживо. Надо было написать просто и сердечно, надо было все объяснить. У меня не вышло. Я начал утро с этого письма. И я будто что-то разрезал.
– Нашивай, Иван, по две лычки на погон. Сейчас я испрошу у генерала Раддаца присвоение тебе младшего урядника! – сказал я вестовому Семенову и с тем ушел в службу.
Эрнст Фердинандович спросил, с которого года Семенов у меня в вестовых.
– С самого первого дня здесь, в Персии? И участвовал с вами в рейде? Мне казалось, Борис Алексеевич, вы более внимательны! – удивился он и велел писать представление вестового Семенова еще и к Георгиевскому кресту.
Утром же я узнал о возвращающемся в Керманшах небольшом транспорте. Меня будто ударило электричеством. Я нашел старшего транспорта сотника из третьеочередных.
– Сотник, вы знаете, где квартирует Терская батарея? – спросил я. – И вахмистра батареи Косова Касьяна Романовича знаете?.. Ну, вот, превосходно! – обрадовался я его утвердительному ответу. – У меня просьба. Передайте Касьяну Романовичу в подарок моего коня. А я ему вот и дарственную написал!
– Так точно, ваше высокоблагородие. Трудов не станет. Исполним с нашим удовольствием! – козырнул сотник.
Я проехал с Локаем от штаба корпуса с полверсты, спешился, схватил его морду к себе.
– Там твой друг Араб. Тебе будет там хорошо! – задрожал я голосом.
Ему мое объятие не понравилось. Он дернул головой.
– Пошел! – шлепнул я его по шее.
Один из казаков привязал его поводом к фуре.
– Доставим, ваше высокоблагородие! – сказал старый сотник.
Локай пошел за фурой покорно и без оглядки. Я тоже пошел, не оглядываясь.
– Нет, пошло все вон! – погнал я полезшие воспоминания.
Слов я не мог выговорить и только по-вороньи вскаркал да утер лицо рукавом.
Видимо, догадавшись о том, что произошло, Локай в тревоге заржал. Я заставил себя не оглянуться.
– Куды, куды, волчья сыть! – донесся от транспорта злой крик.
От картинки, как он рвется с повода и забегает вперед крупом, как тянет морду назад, спрашивая меня: “За что?” – я лишь ускорил шаг.
– Отдал? – спросил сотник Томлин.
Я смолчал.
– Сам служивый – так нечего всякие привязанности разводить. Сердце-то, небось, поберечь надо! – сказал сотник Томлин.
Как уладилось с выяснением причин и зачинщиков погрома – я уже сказать не могу. Но погром был просто неизбежен. Хамадан, как, впрочем, и Керманшах, не говоря уж о тыловых городах, просто кишел солдатской вооруженной и бездельной массой. Казачьи части держали позиции. Но после многочисленных и злых споров между казаками и ко-ко-комитетами было принято решение в случае приказа выводить из Персии первыми те части, которые первыми в нее вошли, то есть полки Первой Кавказской казачьей дивизии. По расчетам, организованный вывод войск занимал не менее четырех месяцев. То есть вошедшие в Персию последними многочисленные пехотные части, разложившиеся еще на своих позициях других фронтов, должны были четыре месяца наблюдать уходящие мимо них домой казачьи войска. Этакого стерпеть солдатики просто не могли.
– Опять монашкам фарт! В Расею первыми их гонють, штыбы, как у пятом годе, революцию секчи! – закричала солдатская масса и без спроса, в беспорядке покатила домой.
По карманам у солдатиков вместо сухарей, денег или хотя бы командировочных аттестатов на довольствие были патроны. Вокруг же солдатиков было манящее восточное изобилие базаров невоюющей страны. Это несоответствие не могло не вызвать погрома.
Прибавил градуса солдатикам в их так называемом справедливом гневе самовольный уход Первого Горско-Моздокского казачьего полка. Моздогорцы ушли, получив известие, что инородцы захватывают их земли, жгут их станицы, угоняют их семьи в горы.
– Моздогорцам можно, им прощается! – постановили другие полки.
Странным было слышать от солдатиков, от мужиков то, что казаки отпускались в Россию, чтобы “революцию секчи”. Никого они особо не секли. Может быть, кого-то попотчевали в Москве, где беспорядки, так сказать, революционного пятого года вылились в вооруженный мятеж. Так много ли мужиков из этих, что сейчас кричали, были в то время в Москве! Выходило, кричали с чужих слов, то есть занимались, говоря на жандармском языке, пропагандой. У нас в Екатеринбурге расквартированные казачьи сотни как раз сдерживали пьяные уголовные толпы и эту пропаганду от попыток погромов.
– Вот что, Лексеич. Я с тобой на Терек не пойду. Мне с моими паклями домой пора. За зиму, поди, доберусь. Ты – как знаешь. А я – в Бутаковку. Там, поди, букейские лапотники мою избушку тоже объявили опорой империализма и контрой да прихватили под какие свои нужды! Может, в ней они свою комитету устроили! – сказал сотник Томлин на прощальном ужине.
– Но до Баку хотя бы – вместе? – спросил я.
– До Баку – вместе. Может, и до Терека – вместе. А с Терека – я домой, и ты не серчай! – сказал сотник Томлин.
Глава 27
– Так! У вас приказ командующего. А у нас приказ ревкома. Никаких орудий – никому и никуда! – сказал мне Казвин устами и суровым взглядом комиссара Стаховского, явного шпака, хотя и одетого в новую офицерскую гимнастерку.
Уже наученный иметь дело с ревкомами, я потребовал встречи с председателем, так сказать, товарищем Шах-Назаровым. “Не дашнак, так мусаватист, а то и вовсе большевик, или эсер, или вообще потомок Сасанидов, то есть того Дария, который сидит на Бехистуне!” – сказал я, некоторым образом просвещенный разговором с подполковником Казаровым.
– Товарищ Шах-Назаров – уже не председатель! – ответил Стаховский.
– Я не настаиваю именно на Шах-Назарове. Я прошу встречи вообще с председателем, будь он хоть Елизарихина коза! – вспылил я подвернувшейся на язык обычной нянюшкиной присказкой. “Нянюшка, а ты знаешь, что короля в Абиссинии называют не король, а негус?” – гордый показать свои знания, тащил я нянюшке свежий еженедельник “Нивы”. “Боренька, да назови его хоть Елизарихиной козой, только бы народу житье было!” – отвечала нянюшка, не отрываясь от прялки.
– За оскорбление революционной должности мы вас арестуем! – набычился Стаховский.
– А вы скажите сначала, кто есть кто! А то вы даже сами не представились в ответ на мое представление! – постарался я сменить тон.
Стаховский крякнул стулом, совсем как Сухман, скривил щеку, прикашлянул, вероятно, размышляя, стоит ли метать революционный бисер перед буржуазной сволочью, – именно так революция стала называть нас, хотя излишне говорить, что к буржуа мы никакого отношения не имели.
– Так, – наконец сказал он. – Так. Я товарищ председателя Стаховский, представитель центра!
– Центра чего? – спросил я.
– Центрального революционного комитета Российской республики! – с напряжением в голосе сказал Стаховский.
– Прошу прощения. Мы с фронта. Туда телеграф и газеты не доходят! – изобразил я некого придурка.
– А председателем ревкома теперь товарищ Владимиров! – с тем же напряжением сказал Стаховский.
– Ну так вот и дайте мне встречу с ним. Я же не могу не исполнить приказ командующего, как, скажем, вы не можете не исполнить приказа ревкома! – сказал я.
– Товарищ Владимиров в Керманшахе. И у нас постановление ревкома, никакого имущества без его резолюции не выдавать, тем более вам, явившемуся от командующего. Вы это имущество либо англичанам продадите, либо против революции обернете! – сказал Стаховский.
– Товарищ комиссар! – впервые употребил я слово “товарищ” не в прямом его значении сподвижника, приятеля или заместителя начальственной должности, а в качестве обозначения титула. – Товарищ комиссар! Ну так свяжитесь с товарищем Владимировым по телефону. Пусть даст резолюцию! Ведь я повезу орудия не к англичанам, а в Россию! Для России я их сохраню!
– Для России – это что значит, по-вашему? Это значит “война до победного конца”? Вы что, не слыхали, что Совнарком заключил перемирие, и войне – конец? – снова набычился Стаховский.
Я понял, что продолжение разговора действительно закончится арестом, и снова решил словчить.
– В таком случае напишите мне резолюцию об отказе! – попросил я.
– Не могу. Не имею полномочий! – что-то поприкидывая в уме, отказал Стаховский.
– Кто же может? – спросил я.
– Ревком, – сказал Стаховский.
– Где мне его увидеть? – спросил я.
– Я представляю ревком! – сказал Стаховский.
– Поздравляю вас. Вот вы мне и подпишите отказ! – сказал я.
– Не имею полномочий, – сказал Стаховский.
– Да что же вы за власть! Как же вы руководите! – опять вспылил я.
Стаховский, явно оскорбившись, уперся взглядом в стол, напрягся в плечах, затаил дыхание. “Сейчас вызовет караул!” – мелькнуло мне.
Но новая сволочь, то есть власть, была дисциплинированней своей предшественницы, так называемой временной власти.
– Вот что я вам скажу, как вас там, представитель командующего! – не поднимая глаз, сказал Стаховский. – Поезжайте в Энзели. Там сейчас представитель Совнаркома товарищ Блюмкин. Если он даст резолюцию – везите орудия хоть… да хоть в море их утопите! Не даст… Одним словом, поезжайте!
– Слушаюсь, – сказал я.
Уловка моя с получением письменного отказа имела тот смысл, что я был предупрежден о наличии здесь, в Казвине, двух противоборствующих, но равных сил, – этого ревкома и постоянно саботирующих его приказы, или, как выразился Стаховский, его резолюции, остающихся еще верными присяге служащих в управлении тыла. Силы были равны. И если бы я сразу пошел в управление тыла, меня вполне могли бы отправить в ревком. А на отказ ревкома они могли ответить вполне соответственно. Я пошел в управление на авось.
– Борис Алексеевич! – встал мне навстречу молодой поручик, тотчас позвонил обо мне в артиллерийский парк.
Через час я был в парке, на огороженном колючей проволокой пустыре с рядами брезентовых палаток, штабелей под брезентом и зачехленных орудий, привезенных сюда для ремонта. Караул строго проверил мои документы и дал провожатого к начальнику парка капитану Сидоренко.
– Вы видели, что творится! Это непостижимо! Это приближение конца света! – после рукопожатия воскликнул он.
Я только махнул рукой.
– К делу, дорогой Алексей Иванович! – сказал я.
– Если к делу, то дело обстоит вот так! Пока мы игнорируем ревком. Сколько мы так продержимся, не знаю. Думаю, сметут нас к чертовой матери! Но пока не смели, мы потихоньку саботируем. У нас готова к эвакуации сводная батарея из шести орудий разного калибра: три пушки полевые трехдюймовые, мортира и два горных орудия. Разумеется, все держим в тайне и ищем момент вывести ее из-под ревкома. На Кавказе начинается большая заваруха. Ну да вы знаете. Инородец и иногородец, то есть горцы и мужики, почуяли эту треклятую свободу. “Грабь награбленное!”, так сказать. Солдатня распустилась абсолютно. У нас не было уверенности пробиться в Энзели, а потом на Терек. Чем ближе к Энзели, к порту, положение становится вообще ни к черту. Абсолютный разбой. А у нас семьи. Не у всех, слава Богу. Но несколько семей имеет место быть. И мы не решались – своими силами. А вот с вами сразу прибавилось уверенности. С вами дело сладится. С вами мы уведем эту батарею. А пока лучше всего вам изображать, что ничего у вас не получается! – сказал капитан Сидоренко.
– Вы тоже с нами пойдете? – спросил я.
– Нет, Борис Алексеевич! Я остаюсь. Мне уходить приказа не было. А ревкому о батарее я доложу, если хватятся, что ушли тайком и самовольно. Сейчас такое – сплошь и рядом. Думаю, обойдется! – сказал капитан Сидоренко.
Мы пожали друг другу руки.
Вечером офицеры собрались в комнате временного командира батареи поручика Мартынова. Керосиновая однолинейная лампа едва выхватывала стол, на котором стояла. Офицеры сели в круг. Я попросил их представиться – сказать, где служили, и сказать о семейном положении. Было их с поручиком Мартыновым восемь, все молодые, выпуска военного времени, все горящие желанием служить Отечеству. Я со своими двадцатью девятью годами и чином казался им древним дедом из легендарных времен войны с хазарами.
– Прапорщик Головко, холост, в действующей армии с апреля нынешнего года! – стали они мне представляться. – Прапорщик Кабалоев, холост, в действующей армии с июня семнадцатого! Прапорщик Аверьянов, холост, на фронте с июня семнадцатого! Подпоручик Языков Степан, женат, жена здесь, в парке, жена беременна, в Персии с апреля семнадцатого, отчислен солдатским комитетом Михайловской крепости как сверхначальнический! Подпоручик Джалюк Иван, в Персии с сентября семнадцатого, до этого командир команды конных разведчиков семьдесят восьмого Навагинского полка, орден Станислава третьей степени с мечами и бантом, женат, жена в Полтавской губернии у родителей! Поручик Виктор Иванов, холост, в действующей армии с сентября шестнадцатого года, дважды ранен, орден Станислава третьей степени с мечами и бантом, в Персии с лета нынешнего года! Подпоручик Сергей Смирнов, в действующей армии и в Персии с декабря шестнадцатого, холост! – представились мне молодые офицеры.
– Я вас видел в Курдистанском отряде полковника Горбачева! – сказал я подпоручику Смирнову, конечно, вспомнив рассказ шофера Кравцова о трагедии его сестры со сватовством подлеца Аганова.
– Так точно, господин полковник! Я вас тоже там помню! – покраснел он.
– Ну и я, поручик Мартынов, женат, но жена с лазаретом ушла в Россию месяц назад, и больше вестей от нее не имею. По выпуску я среди всех здесь самый старший, потому и выбран командиром. В Персию прибыл с Западного фронта! – представился последним поручик Мартынов.
– Так, – подвел я итог. – Все представляете, на что мы идем?
– Так точно, господин полковник! – хором ответили молодые офицеры.
– Вы остаетесь здесь до благополучного разрешения вашей жены! – сказал я подпоручику Языкову.
– Я не могу оставить своих товарищей! Мы дали друг другу клятву! – запротестовал он.
– Как старший по званию и должности я с вас клятву снимаю. Вы должны сберечь жену и ребенка! – приказал я и сбавил тон: – Кстати, с которого времени вы были в Михайловской крепости?
– С выпуска, с сентября шестнадцатого! – сказал он.
– Начальник гарнизона его превосходительство генерал-майор Владимир Платонович Ляхов? – спросил я.
– Так точно! – сказал он.
– А из штаба гарнизона поручик Шерман вам знаком? – спросил я.
– Штабс-капитан Шерман? Да, знаком! Как же его не запомнить! – улыбнулся он.
– По-прежнему шумен? – спросил я.
– Так точно! – снова улыбнулся он.
– Я из академии выпустился в Батумский гарнизон, в четвертую полевую батарею, командиром, – сказал я.
– Господин полковник! Разрешите! У нас будет возможность поговорить о Батуме! – в надежде блеснул глазами подпоручик Языков.
– Отставить! – сказал я.
– Но, господин полковник! – по-ребячьи запротестовал он.
– Отставить! – сказал я.
Мы стали обсуждать предстоящее нам мероприятие.
– Люди, как видите, все надежные. Кроме господ офицеров есть несколько специалистов – фейерверкеры, канониры, разведчики, связисты, расчетчики. Есть шорник. Всего шестнадцать человек. Не хватает ездовых. Но это мы преодолеем. В конце концов, сядем на направляющих в уносах сами. Но настоящая беда – не хватает лошадей. Сейчас у нас шесть уносов. Это на два орудия. Есть договоренность с офицером отдела конского запаса поручиком Семиным. Он готов поставить еще два десятка лошадей. Но их надо заполучить скрытно.
– Дорогу себе хорошо представляете? Пойдем ведь ночью, – спросил я.
– За дорогу у нас отвечает подпоручик Языков, – посмотрел в сторону несчастного подпоручика Мартынов.
– Я ее на несколько раз через Куинский перевал пешком прошел, отметил все препятствия и прочее! – доложил подпоручик Языков.
– Но… – хотел сказать я об оставлении его в парке.
– Вместе с подпоручиком Языковым дорогу ходил смотреть и я, – встал подпоручик Смирнов. – Но все же следовало бы его взять с собой, право, господин полковник! – стал просить он за товарища.
– Давайте считать, – сказал я. – Если считать по норме, тогда у нас хватит лошадей только на два орудия. Поручик Семин предоставит еще двадцать лошадей. Нет. Будем считать, что он предоставит только шестнадцать лошадей. Это еще на два орудия. И четыре лошади на все остальное. То есть по норме не получается. Задача – как выйти из положения?
– Уменьшить количество уносов в упряжке, – несмело, видимо, ожидая от меня если не подвоха, то какого-то такого решения задачи, о котором он догадаться не мог, сказал поручик Мартынов.
– И на трудных участках впрягаться самим! – сказал подпоручик Смирнов.
– Горные орудия повезти во вьюках, – сказал поручик Иванов.








