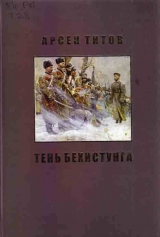
Текст книги "Под сенью Дария Ахеменида"
Автор книги: Арсен Титов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 20 страниц)
Глава 13
Горы, оставленные за спиной и по левую руку, лишь изредка и на краткий миг гладили нас одиночным и отважно прорвавшимся прохладным ветерком.
Латунным с прозеленью тазом, какой у нас долго лежал без надобности в чулане и в котором якобы когда-то матушка варила ягоды, навалилось на нас раскаленное небо, замкнуло в кургузую глинистую степь. Взбитая сибирцами глина дыбилась, вставала над нами тяжелой горячей кошмой. Ворс ее лез всюду и мешал дышать. Он пробивался сквозь одежду к мокрому и горячему телу, нестерпимо раздражал и постоянно вызывал желание раздеться.
На каждый порыв горного ветерка глина без промедления закручивалась в крутой юр, со свистом ругалась, опрокидывала ветерок навзничь и потом долго топтала его, долго бегала повдоль батарейной колонны.
Все походило на рейд прошлого года. Отличием был только наш дух. Мы не отступали. Мы рвались на Багдад. Мы были в ожидании чего-то хорошего ― может быть, даже окончания войны.
Солнце вдавливало нас в отнимающий силы дурной сон. Ездовые, чтобы противиться ему, шли рядом с уносами. Все шли молча, лишь глухо и с вывертом кашляли, коричнево, будто шоколадом, плевали, утирали шоколадные слезы с опухших и одубевших от соли глаз, выковыривали глину из конских ноздрей, смахивали ее с их морд. Конские слезы точили по скулам быстро засыхающие борозды, отчего морды их превращались в подобие рельефной карты Месопотамии с ее двумя реками Тигром и Евфратом.
Я каждый час менял головной взвод, тем хоть сколько-то давая возможности вновь заступавшему в голову взводу отдышаться. Но батарею я не останавливал и стремился поспеть за казачьим полком.
Сам я шел в середине батареи. Постоянно подле был сотник Томлин. Нагулявшись за прошлое лето, он будто соскучился по мне, присмирел, но ничуть не вспоминал всего, что он сделал. Это вполне меня устраивало. Мы ехали в самой середине батарейной колонны. Лишь изредка, когда становилось совсем невмоготу и во избежание падения кого-нибудь нас из седел, я давал выйти из колонны в степь. Но в голову колонны, как следовало бы по уставу, я не шел, показывая батарее, что я равно с ними переношу тяжесть марша.
Этим же способом глотнуть воздуха, пусть и раскаленного, тяжелого, но не с густой глиной, постоянно пользовались и все батарейцы. По одному, по два, по три человека по обе стороны колонны выходили они, будто из бани, в придорожную степь, широко, по-рыбьи, хватали воздух, перегибались в затяжном кашле, плевались, отряхивались и ждали взводную бочку с водой.
– Не пииить! Отодь от бочки! Не пииить! Вода в ноги дает! ― хрипло и пронзительно буравил вздыбленную над колонной глину Касьян Романыч.
– Дык, Касьян Романыч!… ― пытались сквозь глину пробиться к вахмистру батарейцы.
– Отодь от бочки, говорю! ― злился вахмистр.
– Глотки скоробились, трещинами изошли! ― просились к бочке батарейцы.
– Шоды захотели? ― грозил плетью Касьян Романыч.
– Больно правильный… Даст Бог с этой Месататанки домой вернуться… маджарки надерусь… шодой-то и отшодую! ― огрызался кто-нибудь из батарейцев и зло, но терпеливо занимал свое место в колонне.
С утра и до полудня сотник Томлин молчал. С полудня вдруг встряхнулся.
– Штыбыть язвило е в душу, в какую страну забрели ― хуже Каракорумки! ― встряхнулся и заругался он, пождал моего ответа, не дождался и ответил сам: ― Хуже. Там хоть такая же глина стояла, но в мороз. И можно было смело дерябнуть в прочищение пасти. А тут… Тут толку нет у этой Месопотамки зиму, как положено, соблюсти!
Слов он не завершил. От попавшей в нос и горло глины он громко и в бессилии, в содрогании всего тела зачихал и раз, и два, и три, и несколько раз подряд зачихал так, что конь его вспрядал ушами и встанцевал.
– Да блиндер на кукуй эту Багдадку… пока приедем… как чихнешь… так штаны спадают… ― сквозь чиханье успевал говорить сотник.
Я достал часы. Было время сменить головной взвод. Я взял повод вправо, выехал из колонны и дал команду. Головной взвод стал отваливать в сторону. На его место из глиняного пласта в счастливой спешке вывалились попарно впряженные в унос лошади с ожившими ездовыми. Загремел передок, замотало стволом на колдобинах орудие, загалдели, бодря коней и себя, батарейцы выходящего в голову взвода. Следом вывалился второй унос, второй передок, замотало на той же колдобине стволом второе орудие. Вся колонна оживилась, пошла на рысях. Ко мне побежал счастливый командир выходящего в голову второго взвода сотник Долгушов, издалека переходя на строевой шаг, и к негритянской от глины и блещущей только зубами своей роже потянул руку:
– Ваше высокоблагородие, Борис Алексеевич, второй взвод…
А второй взвод рысью шел мимо сошедшего в сторону первого взвода и, прочищая глотки, задирал его, счастливо смеялся над ним, долженствующим теперь встать в хвост колонны и два часа ждать своего такого же счастливого часа сторонить с дороги шедших впереди.
– Хабарда, хабарда! ― по-персидски кричали посторониться ездовые второго взвода.
– И вам не век в головах идти!.. Час летит, что кобыла на походе пердит ― коротко!.. Похлебаете еще нашего! ― угрюмо кричали батарейцы сошедшего в сторону первого взвода.
– А хоть час ― да соколом! А вам хоть два ― да кукушкой! ― скалился второй взвод и выкатывался далеко вперед, оставляя за собой тяжело и вязко, но буйно взметнувшуюся глину.
– Сокотуй, сокотуй, поиграй мне, едрена мать! Вот нашодовать с оттяжкой повдоль спины, дак посокотуете!.. ― свирепо кричал вдогонку второму первый взвод.
Взводный-первый, то есть подъесаул Храпов, на шенкелях подлетел к нам.
– Ваше высокоблагородие, Борис Алексеевич! Разрешите обратиться к сотнику… ― закричал он издалека и в полной уверенности, что разрешу, накинулся на взводного-второго сотника Долгушова: ― Господин сотник, прошу укоротить своих!..
После смены головного взвода колонна выровнялась и продолжила марш. Разминавший ноги сотник Томлин снова примолк и перестал походя пинать растущую редкими пучками осочистую траву. Он к чему-то прислушался.
– Что? ― спросил я, тотчас предполагая близкую партию курдов.
Он как бы предостерегающе поднял свой крюковатый, оставшийся после отморожения палец, потом ткнул им вверх и медленно, будто следуя за кем-то, показал в сторону. Я вдруг по направлению его пальца уловил некий странный звук, какое-то шепелявое стрекотание, как если бы стрекотала саранча, только немного поглуше. Сотник увидел, что я тоже уловил встревоживший его звук.
– О! ― сказал он и снова ткнул пальцем вверх и потом снова медленно повел пальцем в ту же сторону, на звук.
– Аппарат? ― спросил я, называя так аэроплан.
– Похоже! ― поджимая губы, медленно откивнул сотник.
Я расстегнул футляр бинокля, протер замшей линзы. На самой стенке латунного таза, то есть на горизонте, который никак не выходило назвать горизонтом, копошилась размытая горячим воздухом ворсистая клякса. Она явно западала на правое крыло, то есть забирала к нам.
– Чей? ― спросил сотник Томлин про аэроплан.
Было видно, сколько он взволнован и встревожен какой-то древней, первобытной, любопытствующей тревогой. Надо полагать, так тревожились, но не могли пересилить любопытства и зачарованно смотрели аборигены на входящий в какую-нибудь их лагунку корабль Магеллана или Кука.
В бинокле аэроплан довольно быстро увеличивался. Он закончил маневр, выровнял крылья и направился в нашу сторону. Знаков принадлежности его я разглядеть не смог. Я помнил, что их размещали на крыльях и на тулове аэроплана. Но этот аэроплан был с решетчатым туловом. Крылья же покамест представляли собой тонкую черту.
Я обернулся к вестовому Семенову.
– Есаулу Косякину: батарее рассредоточиться и движение прекратить. Винтовки к бою! ― велел я.
– Турчонок или немтырь? ― снова спросил сотник Томлин про аэроплан, называя немтырем немца.
А я никак не мог увидеть знаков. Расстояние до самолета приближалось к полуверсте. Еще какая-то минута ― и он выходил на нас. И если бы оказывался германским, то вполне было ожидать, что он мог бросить на батарею ручные гранаты или обстрелять ее из пулемета, как то повелось в ходе войны в Европе.
– Дай-ка винтовку! ― протянул я руку к сотнику Томлину.
– А вот я сам, Лексеич! ― попросил сотник Томлин.
– Прицел на шестьсот, ― велел я.
Пуля явно прошла рядом с самолетом. Пилот резко взял вверх. Аэроплан при этом первобытно и трубно взревел. Я увидел на крыльях разноцветные круги, вписанные один в другой, ― знак отличия британских вооруженных сил. У меня отлегло. Я махнул не стрелять.
– Друг с туманного Альбиона? ― догадался сотник Томлин.
А я вновь захватился тревогой.
– Он-то друг, ― припал я к биноклю. ― Да ведь нас может посчитать за турченят!
– За самую милушечку! ― согласился сотник Томлин.
А аэроплан взял высоту и прошел над нами в два круга. Мы стояли, не двигаясь. Никаких условных знаков между нами и британцами не было оговорено. И теперь положение наше было каким-то оскорбительным.
– Это что же, теперь они будут постоянно нас осматривать, как казачишки вшей на рубахе? ― спросил сотник Томлин и сам же себе во всей уверенности ответил: ― Не позволю!
Чем и как собрался он не позволить, я не нашел и смолчал, молчанием как бы выказывая свое презрение к бесцеремонности британца, а на самом деле просто скрывая свое бессилие поправить наше положение.
На третьем круге аэроплан прошел над нами очень низко. Пилот помахал рукой и потом бросил маленький предмет, который оказался брезентовым пакетом с письмом, всего-навсего приветствующим нас от имени командующего британскими войсками в Месопотамии генерала Мода.
Событие сильно встряхнуло батарею. Равно мог встряхнуть только скоротечный и успешный бой, не отнявший сил, а, наоборот, взбодривший. Все поочередно посмотрели письмо, и, зная мою нелюбовь к британцам, каждый счел нужным показать свое отношение к письму пренебрежительным.
– Очень приветливые хозяева! ― сказал я.
– Спасибо, что письмом обошелся, а не сходил сверху на нас по-большому! ― сказал сотник Томлин.
– Своей считают Месопотамию!.. А чего же нас на помощь зовут?.. “Рады приветствовать!” Вот турок об этой радости не знает, то-то треплет их, как худой пес пьяного петуха! ― сказали все.
На марше я примкнул к первому взводу. После недолгого молчания, выбирая моменты, когда глина немного редела, есаул Косякин стал говорить о том, что все-таки сильна Британия.
– На карту посмотреть ― где мы, Россия, а где она, Британия. Но мы вязнем в персидских и турецких горах, в этой вот глине хвоста кобыльего не видим. А они флотом подошли, на авто перегрузились да вот еще аэропланом полетели. И Индия у них. И в Персии мы с ними разграничительную линию имеем. И в Месопотамию они нас приглашают. И этот аэроплан. Ведь какое удобство для разведки. Или бы мы сейчас офицерскими разъездами по всей этой глуши рыскали. Или аэроплану с небес осмотреть. Обидно и больно за нас. Стояли под аэропланом, как без штанов. Так и саднило взять винтовку и всадить ему патрон меж ягодиц. Хорошо, лошадей удержали. Если бы лошади сорвались, я бы разрядил в него обойму… Он еще ручкой помахать изволил. А чего изволил? Нашими двумя полками крепость брать надумать изволил, как в прошлом году Кут-Эль-Амарку!
– Ну, вот вы себе и противоречите, ― возразил я. ― Только-то сказали, что сильна Британия. А уже обличаете в стремлении жить за чужой счет!
– Так ведь вот потому и живет за чужой счет, что сильна. Мы вот ни за чей счет не живем. Мы рассчитываем только на себя, потому что не сильны, ― попытался оправдать себя есаул Косякин.
– И они рассчитывают только на себя, но по-другому! ― сказал я.
– Ну, да, да! По-другому… ― согласился было он, да тут же нашел ход своей прежней мысли. ― Но мы-то не можем, как они, по-другому!
О британцах и аэроплане разговор шел и на ночном биваке. Поужинали мы сухарями, запили пустой водой и было приложились спать. Но усталость и возбуждение дня молнией ходили по людям. Уснули немногие. Большинство, как ни намаялись, мало-помалу стянулись в кружки.
– Касьян Романыч, не гони спать. Дай маленько друг на друга поглядеть, какие стали за день. Словечком христианским дай перемолвиться, ― укоротили они вахмистра.
– Как бы вы это поглядели друг на друга, когда огня взять негде? ― съязвил Касьян Романыч, тут же присаживаясь в кружок.
Огня действительно взять было неоткуда. Запас дров кончился еще по выходе из гор. А с глины нельзя было взять ни сухого будылья, ни сухого навоза.
– Да уж без огня, на ощупь посмотрим, Касьян Романыч, как с чернявой девкой. Ночь темна, девка черна, милуешься, милуешься да пощупаешь, тут ли она!.. Тебе ладно, Касьян Романыч, что ты дал водички на сухарик. А то бы пришлось поплевывать на него да грызть, ― взялись поддеть вахмистра батарейцы.
– Откуда плевать-то с этой глины возьмешь? ― чувствуя, что его поддевают, огрызнулся он.
– Ну, тогда помочиться бы пришлось! ― нашлись батарейцы.
– И это откуда. Все с потом вышло! ― отмахнулся Касьян Романыч.
– А говорят, на Германском фронте с этих аэропланов бомбой швыряют, как твоя кобыла, Касьян Романыч, яблоки! ― снова поддели вахмистра. Все в батарее помнили, как Касьяну Романычу достался его жеребчик, разумеется, завидовали и не упускали возможности поддеть.
– Не кобыла, а жеребчик арабских кровей! И вам такой жеребчик никогда не достанется! ― огрызнулся вахмистр.
Я тоже вспомнил это событие, лишь повстречался с Касьяном Романычем в батарее и вспомнил ночной его рассказ о женщине с курицей, которым он пытался образно показать степень моего непонимания его, Касьяна Романыча, казачьей души. Без сомнения, вспомнил это и он. И ему предстала сложная задача не показать, что он все вспомнил, ― ведь я поставил ему условие содержать жеребчика за свой, а не батарейный кошт, условие для него невыполнимое. Чтобы снять с него эту задачу и тем его в рейде не мучить, я сам постарался сделать вид, что ничего не помню. Кажется, у меня получилось. Но сколько же трудов стоило Касьяну Романычу преодолевать свое оцепенение вот в такие минуты напоминания ему казаками того, как ему жеребчик достался. В эти минуты Касьян Романыч цепенел и явно ждал моего разоблачающего восклицания, навроде того, а де так я же вот как распорядился, а ты вот как поступил ― и так далее. Этакое же оцепенение я увидел и у хорунжего Комиссарова, испытавшего далеко не радость от вести о моем назначении на время рейда в батарею. Он тоже ждал, что я попрошу у него батарейный журнал и тотчас кинусь искать ту страницу, где он описал курдскую атаку в выгодном для себя свете.
В остальном батарея была для меня прежней. Не было только в ней сердечного человека Павла Георгиевича Чухлова.
Глава 14
К полудню в пустой деревне около колодца я дал команду на отдых. Батарея свернула с дороги, отчихалась, откашлялась, отхлопалась, вычерпала колодец до грязи. Да он, собственно, еще и не восстановился после сибирцев, так что нам досталась серая горькая муть, которую ни люди, ни тем более лошади пить не захотели.
– А британцы снабжают свою армию сухим спиртом, который служит в качестве горючего и на котором без труда можно кипятить воду! ― сказал Комиссаров.
Сотник Томлин плюнул, свернул в степь, сразу отдалился и оказался как бы в другой реальности. Он некоторое время стоял неподвижно, лишь время от времени поворачивался лицом то влево, то вправо, чем напомнил мне одинокого грифа. Потом он отъехал еще, опять остановился и вдруг пошел рысью. Он отъехал с полуверсту и совсем растворился в мареве, разрывающем его на темные, колышущиеся клочки. Я готов был за самовольство погрозить ему плетью, но он быстро вернулся.
– Вроде как водой потянуло. Но… ёк су!.. Нет водички! Мало-мало ошибался! ― поджал он губы.
– Болота в той стороне есть, ― показал я карту. ― И, сколько помню из географии, болота с довольно разветвленной ирригационной системой. Но до них столько далеко, что легче сбегать попить водички домой.
– То-то не зря я учуял, ― сам себе удивился сотник Томлин.
– Небось, так не воду, а водку учуял! ― сказал я.
Он смолчал. Я еще потаращился в карту и якобы вспомнил, а на самом деле с вечера все время держал в уме, что нас не может догнать передовой дозор северцев, и решил послать сотника Томлина ему навстречу.
– Пощупать драгунцов по степу? Можно! ― сказал сонник Томлин.
Однако не успел он вплыть в близкое марево, как тупо, будто из подпола, хлопнули два условных выстрела, и я в бинокль различил довольно сильный по численности, этак со взвод, отряд драгун, шедший прямо на сотника.
Вскоре они на рысях выкатились из марева, втянулись в деревню. Ко мне лихо подкатил командир разъезда.
– Буденный! ― искренне обрадовался я.
– Так точно, старший унтер-офицер Буденный! ― смутился он моей искренности.
– Рад встрече, голубчик! ― сказал я и не сдержался в шутку пожурить: ― Отстаете от нас. Наш передовой разъезд уже в Багдаде мармелад с какавой кушают!
– Не извольте беспокоиться, ваше высокоблагородие, догоним… Северцы не подведут! С водой у нас тяжело! ― бойко ответил унтер Буденный.
– Вахмистр! ― позвал я Касьяна Романыча. ― Дать нашим гостям по трети ведра. Пусть их лошади хоть глотки промочат!
– Какой воды? Какой по треть ведра? Нет ничего! Откуда взяться! ― окаменел Касьян Романыч.
– Дядя! Это приказ их высокоблагородия командира батареи! ― с довольной улыбкой потребовал унтер Буденный.
– На то и их высокоблагородие, чтобы приказывать. На то ты и унтер, чтобы приказы исполнять. А воды нет! ― ничуть не изменился лицом Касьян Романыч.
– Да не мне был приказ, а тебе, дядя, батарейному вахмистру! ― попытался растолковать унтер Буденный.
– Так что мне. Прикажут, я и исполню. А теперь ты исполняй. Чай, командование полка надеется, что ты со взводом авангард блюдешь, а ты тут милостыней побираешься! ― стал стыдить унтера Касьян Романыч.
– А вот этого, дядя, отведать как? ― понял, что его взялись водить за нос, и озлился унтер Буденный.
– Шоды-то? ― посмотрел Касьян Романыч на плеть в руке унтера Буденного. ― Этим мы вас угостим со всем нашим служением!.. ― И взорвался: ― Пристал! Что тут тебе, Терек, что ли, или речка Сунжа? Нету воды!
– А в бочках? ― ткнул плеть за голенище унтер Буденный.
– Что в бочках? ― снова окаменел Касьян Романыч.
– Что в бочках? Да вода в бочках, дядя! ― напомнил унтер Буденный.
– Вода! ― согласился Касьян Романыч.
– Ну! ― потерялся от такого признания унтер Буденный.
– Ну? ― тоже потерялся Касьян Романыч.
– Так наливай по треть ведра, дядя! ― свирепо закричал унтер Буденный.
– Не пииить! Коней загубите! Мало ли, их высокоблагородие приказали! Они при артиллерии, а мы при конях родились! В ноги вода на походе бьет! ― пронзил успокаивающуюся глину Касьян Романыч.
– Ну, дядя, не хочешь волей, я возьму неволей! Мы приказов чураться не привыкли! ― отцепил от седла брезентовое ведерко унтер Буденный.
Касьян Романыч, сорокалетний закоренелый вахмистр и старовер, от вида чужой посуды, долженствующей прикоснуться к чистой в его староверческом понимании воде, решил лечь костьми и пострадать за веру.
– Куда! Куда своей поганой торбой! Мне веру продать из-за тебя! Мне в грех впасть из-за твоего алченья! Стой, унтер! ― взялся Касьян Романыч за кинжал.
Далее наблюдать сей завораживающей картины я не мог.
– Вахмистр, не забывайтесь! ― прикрикнул я на Касьяна Романыча, прошел к бочкам и уже ласково попросил дать драгунским лошадям воды. ― Они же наши гости! Что же понесут они по армии про наше гостеприимство? ― сказал я.
– Ваше высокоблагородие, господин подполковник, Борис Алексеевич! ― взмолился, но, кажется, лукаво взмолился Касьян Романыч. ― Лишите меня службы, воля ваша. Но где же я ему, антихристу, столько воды найду! Вы гляньте на его торбу! Она же у него… она же у него весь четверик вольет! У всех торбы как торбы, по гарнцу, а у него, поди, дак еще и четверика мало будет! В его торбе-то жить можно!
– Как это четверик? ― растерялся унтер Буденный и с подозрением поглядел на свое брезентовое ведерко, обычное брезентовое ведерко, предназначенное к поению лошадей, ничуть не больше наших.
– Четверик, четверик! А то четверика еще и мало будет! ― изображая последнюю степень страдания, подтвердил Касьян Романыч. ― Мне что же, потом и бочку на костер извести за ненадобностью придется! Ведь всю нашу воду этот антихрист вычерпат!
– Двойная польза будет, Касьян Романыч: и гостей напоишь, и казаков погреешь! ― сказал я.
Он обреченно взглянул на меня и вдруг с силой толкнул кинжал в ножны.
– Разрешите исполнять? ― спросил он и полез на бочку. ― Подходи первый, кто тут драгунский!.. ― И запел с обидой в голосе: ― “Ты возьми моего коня во белые руки. Переведи мово коня через синее море, на камешке стоя, чтобы коник мой напился!..” Отвернись, православныи-и-и, не смотри, как басурман вашу воду сладкую и текучую-ю-ю пьет! Подходи, драгунцы, подходи, воды не жалко! Ее много во пустыне во алчущей, во пустыне вавилонской!.. И ех, казачишки, помирай род ваш гребенской сунженско-о-й!.. Процветай, род драгунской, захребетинско-о-й!.. ― с ударом голоса на окончания прилагательных запричитал Касьян Романыч.
– Пошел! ― хмуро и сквозь зубы, с перекосившей его тоненькие и подкрученные усики улыбкой понукнул к бочке ближнего своего драгуна унтер Буденный, а потом по-строевому лихо повернулся ко мне: ― Премного благодарны вам, ваше высокоблагородие.
– Рррады старрраться! ― лихо же приложил я руку к папахе, как то по уставу делают нижние чины.
Однако дальнейшей комедии у меня не вышло. По батарее прошел шум. Глубоко в улице показались два всадника, в опор гнавших уже шатающихся коней. Все устремились на них.
– Где их благородие командир? ― издалека с одышкой и уже от напряжения не выговаривая полного моего титула закричал один из всадников, в котором я узнал своего батарейца от головного дозора.
Батарея, словно гуси, заголготала, всколыхнулась. Невидимый тревожный ветерок протянул по ней. Я вышел всадникам навстречу. Мой батареец увидел меня, не доезжая, слетел с седла, поначалу корявисто, а потом все более разгибаясь и пружиня в коленях подскочил ко мне, выпучил глаза:
– Так что, ваш вскоблродь, впереди британцы!.. ― И задохнулся, порывисто глотнул и вновь выпучил глаза. ― Впереди в пяти верстах городишко! Виноват, пока летел, название забыл! Велено вам доложить!.. А этот вот, ― мой батареец отступил шаг в сторону, ― казак от сибирцев имеет вам доложить!..
– Так что!.. ― выкатил вперед с берестяным от усталости и засохшей соли лицом другой всадник. ― Так что имею доложить: командира Девятого Сибирского казачьего полка полковника Владимира Егоровича Первушина вестовой казак Илья Евстратов! Имею доложить: направлен к вам с известием, что полк скоснулся с британцами!
Остатнее, как бы сказал Касьян Романыч, расстояние до сего “название забыл” городишки мы пробежали, захватившись каким-то единым ребяческим порывом. Глина нам не стала в глину, пекло ― не в пекло, жажда и Касьян-Романычево алченье ― не в алченье. Кажется, и кони перехватили наш порыв. Едва минул час, а головной дозор выкатился к сибирскому биваку на пустыре близ первых домишек городишки.
И остановка, и расположение сибирцев не в городе, а на окраине мне не понравились.
Тем не менее я приказал батарее в минуту привестись в порядок и построиться в резервную колонну. Я сам, адъютант, трубачи с особой нашей гордостью, четырьмя серебряными трубами за отличия в прошлых войнах и хор песенников во главе с Касьян Романычем встали впереди. Батарея повзводно, строго по ранжиру, со всеми номерами на местах и с выдержанной дистанцией, с замыканием колонны хозяйством Касьяна Романыча выровнялась, напружинилась, выдохнула и пошла. Я не видел, но знал, что сейчас вся она вцепилась глазами далеко вперед меня, выглядывая и сибирцев, и сам городишко. И более-то, я думал, всякий выглядывал увидеть британцев, явно полагая, что все они сейчас скучились встречать нас.
Но не только британцы, которые думать о нас явно считали дурным тоном, а и сибирцы нас прозевали. Они встрепенулись, бросили обустраиваться и посыпали к дороге лишь в момент, когда дискантом, как буравчик ввинтившимся далеко вперед батареи, Касьян Романыч вскричал первые строки терской песни.
– “С нами Бог на поле брани!..” ― вывел он.
– “Славу, лавры мы нашли! И-и! И лихими казаками всем известны стали мы! Ы-ы!” ― подхватил Касьян Романыча хор, а последующий припев со словами “Славься, Терек наш могучий! Славься, родина Кавказ!..” от всей души подхватила и могучим же Тереком проревела-прогрохотала батарея ― да так, что даже потонуло в ее грохоте чистое серебро наших труб.
Сибирцы в восторге взревели ответным “ура!”. Папахи их, словно стая черных птиц, взлетели к небу.
– Терцам ― ура! Молодцы, терцы! Догнали нас! Оркестр! Оркестр! Где наши трубачи? Играй терцам встречу! ― со всех сторон слышал я.
– Славным сибирцам наше троекратное, дважды короткий, один раскатистый… ― ура, ура, ураааа! ― в восторге кричал я, и батарея каждый раз самозабвенно кричала со мной.
– Ура! Терцам ура! Славной нашей артиллерии ура! ― отвечали сибирцы, готовые ссадить меня с седла и потащить на руках.
Кто-то из них попытался организовать полк на троекратное же “ура!”, но не вышло. Я это увидел и в некоторой гордости за своих, за то, что у нас получилось, а у них нет, нашел момент скомандовать это троекратное “ура”” им. И они дружно, как и мои же батарейцы, команду подхватили, прокричали и сами собой восторглись.
В этом кружащем, взлетающем вверх папахами и восторгающемся круговороте я не заметил, как появился около меня сотник-сибирец Верезомский, красивый, немного барственный и с вечной некоей озабоченностью на челе офицер. Я его заметил, лишь когда он тронул меня за ногу ― этак почтительно коснулся колена.
– Ваше высокоблагородие! ― козырнул Верезомский. ― Ваше высокоблагородие, дежурный по полку сотник Верезомский. Разрешите доложить!
Я спешился.
– От имени командира и всех офицеров полка поздравляю вас, Борис Алексеевич, с благополучным прибытием! Собственно, вы своей скоростью появления нас удивили! Мы полагали вас далеко отставшими! ― сказал Верезомский.
– Этакое можете полагать о господах северцах. Едва ли притащатся к вечеру! ― скрывая удовольствие от похвалы, сказал я.
– Командир полка Владимир Егорович с командирами сотен сейчас находятся на встрече с представителями британского командования. Я в полку за старшего. И вот нам придан их офицер связи!.. ― снова взял под папаху Верезомский.
Он при этом отодвинул теснящихся и ликующих казаков, затевающих пуститься в пляс, и я увидел, как я же, невысокого, но чуть рыжеватого и весьма симпатичного британского лейтенанта.
– Имею честь представиться: лейтенант его королевского величества Дэвид Макникейлн! ― сказал он по-русски, глядя на меня умным и почтительным взглядом.
В своей нелюбви ко всему британскому я, конечно, не мог предположить, что услышу от кого-то из британцев такой чистый русский язык. Я сердечно улыбнулся ему, ответно представился и в своем восторге перешел на немецкий, который лейтенантом был с легкостью подхвачен.
– Ich weis nicht, was soll es bedeuten, warum ich so traurig bin! ― пьяный от восторга, сказал я строчку из Гейне, переводимую как: “Я не знаю, что должно это означать, отчего я столь печален”.
Лейтенант улыбнулся и прочитал следующую строчку этого стихотворения. “Вот, ― хмыкнул я. ― Совершенно милый человек, хоть и британец!” Я снял перчатку, одетую лишь по случаю встречи с сибирцами.
– Будем друзьями, господин лейтенант, или, как говорят терские казаки, командовать которыми я имею честь, будем кунаками!
– Да-да, польщен! Будем друзьями! ― смутился лейтенант, но руку мне пожал крепко, чем совсем расположил меня.
Я окликнул Семенова и велел принести мне из моего торока в хозяйстве Касьян Романыча один из персидских кинжалов, подаренных мне персидскими чиновниками во время различных приемов. Чиновников я не ставил ни в грош и, разумеется, подарки их за подарки не считал, хотя кинжалы были дорогие по отделке и отменны по стали. А считал я эти кинжалы как бы данью, платой за то, что мы своим присутствием сохраняем этим чиновникам их службу. То есть, считая так, я как бы проникся духом персидского торгашества. Я себя винил в этом. Но винить было приятно, как в детской игре порой начинаешь быть злодеем и так заиграешься, что самому от своих так называемых злодейств становится и страшно, и до щекотки интересно.
Лейтенанту я объяснил, что при объявлении себя кунаками таковые должны обменяться оружием, но ни шашки, ни кинжала, которые при мне, я отдать не могу, так как они уже даны мне в обмен на мои. И я объяснил, куда и за чем я отправил вестового. Лейтенант очень смутился. Но, кажется, толком ничего из моих объяснений не понял. Он очень испугался, когда я подал ему небольшой, вершков в шесть, но с несколькими камнями в узоре рукояти и ножен кинжальчик.
– На память о встрече наших войск в стране Гарун-аль-Рашида! ― сказал я.
– Это что-нибудь несет? Это имеет какой-нибудь магический или иной смысл? ― в испуге спросил он.
И испуг, и неприятие подарка, и вопрос вмиг отдалили меня от лейтенанта. Я сразу вспомнил приказ о размещении нас вне стен городишка. “Какой магический! Какой смысл! ― едва не закричал я. ― Черт бы побрал меня связаться с вами, гусями! Как над пленными сипаями издеваться, как на несчастных буров в Африке охотиться ― так это во благо цивилизации и ее величества старой доброй Англии. А как принять подарок от русского офицера ― так свою рыжую рожу корчить!” Закричать-то я едва не закричал, но совершенно не выказал этого на своем лице. Такому артистическому приему обучило меня недолгое, но частое общение с персидскими чиновниками, когда приходилось блистательно улыбаться человеку, которого расстрелять за каким-нибудь загаженным курятником значило оскорбить и себя, и расстрельную команду.
– Никакого смысла, лейтенант! Просто на память! ― весь в любезности, сказал я.
– Нет, господин подполковник! ― сконфузился он. ― Я чрезвычайно тронут вашим вниманием. Но я не могу принять вашего подарка, потому что я не имею возможности отблагодарить вас тем же!
– Да что за напасть! Абсолютно нет необходимости делать обратный подарок. Когда-нибудь, через много лет, где-нибудь у себя в графстве в вашей Шотландии, будучи уже отставным генералом, вы достанете этот кинжал и вспомните эту весну, этот городишко, этих отважных людей, ― я показал на сибирцев и своих терцев, ― и это воспоминание будет вашим обратным подарком! ― сказал я.
А что же мне оставалось говорить ― не отправлять же кинжал обратно в торок, то есть не проглатывать же новое оскорбление.








