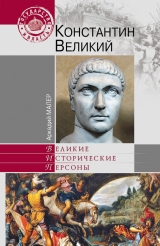
Текст книги "Константин Великий"
Автор книги: Аркадий Малер
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Наконец, третий и весьма недооцененный субъект антихристианских репрессий в Римской империи – это любые религиозно-политические группы, для которых христианство было реальным соперником и кому оно действительно мешало самим фактом своего существования. Все эти группы были правы в том, что христианство составляет им конкуренцию, но они немножко ошибались, воспринимая ее как конкуренцию за власть, потому что сама Церковь в целом была достаточно аполитична и нам почти неизвестны факты, когда до эпохи Константина какие-либо клирики или миряне сознательно ставили своей целью победу христианства в качестве государственной религии Империи. Скорее, они могли пытаться влиять на власть с целью смягчения нравов и прекращения гонений, но о том, чтобы христианизировать Империю «сверху», мало кто думал. Конечно, Церковь ставила своей задачей полную христианизацию Империи, но это должно было произойти «снизу», за счет большого количества прихожан. Точнее даже, речь шла не об обращении самой Римской империи как конкретного государства, а об обращении всех людей, живущих во всем мире. О том же, что на самом деле христианизация Империи произойдет именно «сверху», невозможно было себе представить даже за несколько лет до начала этого процесса в IV веке.
15. Гонения I века
С агрессивным отношением к своей проповеди Церковь столкнулась уже с первых шагов. Вспомним, что все апостолы Христа, кроме Иоанна Богослова, спасенного самим Господом, претерпели мученическую кончину. Открывает череду гонений на Церковь император Нерон (правил в 54–68 гг.), чье имя стало нарицательным. В 64 году в Риме вспыхнул огромный пожар, охвативший большую часть города и инспирированный самим Нероном, но поскольку некоторые христиане восприняли его как начало Конца Мира и не столь печалились, то это дало повод императору обвинить в поджоге Рима именно христиан, что привело к первым массовым репрессиям против членов Церкви. Причем основное обвинение состояло в той самой «ненависти к человеческому роду». Отметим, что описание этого события у историка Публия Корнелия Тацита было первым упоминанием христиан во всей латиноязычной литературе (Анналы, XV,44 (116 г.). В те же времена были казнены в Риме апостолы Петр и Павел. Сам Нерон покончил собой во время восстания против него, что в христианском сознании было вполне естественной кончиной для любого тирана, которого хочет покарать Господь. После гонений Нерона, кои могли застать даже современники Христа, Церкви стало понятно, что подобное может повториться в любой момент и не один раз.
Следующим событием I века, не имеющим отношения к гонениям против христиан, но существенно сказавшимся на церковной историософии, было разрушение Иерусалимского Храма войсками военачальника Тита, старшего сына императора Веспасиана (правил в 69–79 гг.) в 70 году. Само разрушение было следствием тяжелой Римско-иудейской войны, спровоцированной восстанием зелотов и завершившейся полным поражением Иудеи. В ветхозаветной традиции Иерусалимский Храм был единственным в мире, в нем приносились животные жертвоприношения, и он был религиозно-политическим центром всего еврейского народа. Также и для многих иудеохристиан I века, сохраняющих традиции предков, этот храм имел очень важное символическое значение. Разрушение Иерусалимского Храма было расценено христианами как окончательный знак Господа, что Ему больше не нужны жертвы иудеев и их религия отныне мертва. Вместе с этим многие иудеохристианские общины Палестины, до сих пор держащиеся этого храма, эмигрировали в другие города Средиземноморья, в том числе в Рим, что составило отдельную большую волну распространения Церкви.
Недолго пришлось ждать христианам повторения нероновщины: младший сын Веспасиана, император Домициан (правил 81–96 гг.), при жизни объявил себя богом и подвергал казни всех, кто отказывался приносить ему жертвы. Естественно, в первую очередь это касалось христиан, и их казни стали настолько многочисленны, что репрессии Нерона запомнились как разовый эксцесс. Наиболее знаменитым мучеником этого времени был епископ Пергамский Антипа (+68), которого языческие жрецы за отказ поклониться идолам доставили в храм Артемиды и бросили его внутрь медного вола, предназначенного для сожжения жертв, а снизу этой жуткой печи подожгли огонь – вполне в духе карфагенских жертвоприношений. Священномученик Антипа был учеником апостола Иоанна, сосланного в то время на остров Патмос, где он написал Апокалипсис и упомянул в нем своего ученика Антипу: «И Ангелу Пергамской церкви напиши: так говорит Имеющий острый с обеих сторон меч: знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя Мое, и не отрекся от веры Моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель Мой Антипа»(Откр. 2:12–13). Гонения Домициана показали несовместимость христианства с языческим миром, в котором сама религия не позволяет верующим во Христа чувствовать себя в безопасности. Для очень многих людей соблюдение культа императора, как, впрочем, и других языческих культов, не обязательно предполагало веру, а было данью принятым условностям. Для христиан же такое отношение было невозможно, потому что именно в христианстве истинная, внутренняя мотивация человеческой личности, закрытая для других людей, но зато всегда известная Богу, имеет не меньшее значение, чем ее внешние действия. Ведь языческие боги, а уж тем более император вряд ли знают, о чем на самом деле думает человек – им нужны внешние проявления, поклоны и жертвы, а что творится у человека в душе, им не очень интересно… В итоге своей кровавой политики Домициан был убит заговорщиками в собственной спальне, а Сенат потребовал стереть его имя со всех сооружений.
16. Гонения II века
Гонения II века открывает император Траян (правил в 98–117 гг.), прославившийся тем, что отказался принимать бесконечные доносы жителей Римской империи, которые давно научились таким образом расправляться друг с другом, а особенно с христианами, легко попадающимися на отказе поклоняться императорскому гению. Однако это не очень помогло Церкви: в 104 году. Траян запретил все тайные общества, под которыми подразумевались в том числе попечительские коллегии христиан. Фактически это означало запрет христианства, хотя еще не в явной форме. Известна переписка Траяна с наместником Вифинии, провинции на севере Малой Азии, Плинием Младшим, где император говорит ему о том, что не стоит специально преследовать христиан, но если кто-то обвиняет христианина и это обвинение доказано, то наказание необходимо. Кроме того, если обвиняемый отречется от христианства и докажет это на деле, то есть «помолится нашим богам», то его нужно помиловать (Письма Плиния Младшего, X, 97). Для своего времени политика Траяна считалась вершиной римской цивилизованности, но для Церкви она означала настоящие притеснения, в которые пострадало много святых мучеников, в частности папа римский Климент (+101), изгнанный из Рима на каменоломни Херсонеса; епископ Антиохийский Игнатий Богоносец (+ 107), растерзанный львами в Колизее на потеху публике; епископ Иерусалимский Симеон (+107), распятый на кресте в столетнем возрасте, и др.
Троюродный брат Траяна, император Адриан (правил 117–138 гг.), остановивший территориальную экспансию Рима и начавший призывать в армию варваров, закрепил правило не наказывать христиан без суда и следствия, чем прославился еще более предшественника. Однако это не означало, что преследования христиан закончились: в его эпоху в тюрьме умер от голода священномученик Кодрат (+130), автор первой в истории защитительной речи в оправдание Церкви к римскому императору, то есть первой «Апологии», написанную им для Адриана в 126 году. Кодрат стал основателем христианской апологетики, которая до эпохи Константина была одним из ведущих жанров церковной письменности. В истории христианской философии даже различают эпоху апологетикиII–III веков, когда основной упор делался на защите Церкви перед языческим миром, от эпохи патристикиIV–VIII вв., то есть учений Отцов Церкви, внесших вклад в развитие догматического богословия. Другими мучениками за веру в эпоху Адриана и по причине его жестокости стали три сестры Вера, Надежда, Любовь и мать их София (+137). Когда их привели к императору, то он приказал им принести жертву Артемиде, а за отказ приговорил к зверским пыткам, продолжавшимся очень долго, потому что сестры все еще оставались живы, но потом они были обезглавлены.
Качественно новым этапом гонений на Церковь были репрессии императора Марка Аврелия (правил в 161–180 гг.). Марк Аврелий весьма известен как философ на троне, оставивший после себя двенадцать «Размышлений к самому себе», хорошо отражающих морально-психологический аспект стоической философии. Размышления Марка Аврелия проникнуты пафосом умеренности и размеренности, стремлением согласовать разумное начало в себе с разумным началом в космосе – том самом Огне-Логосе. И так же как многие интеллектуалы, восторгаясь этим императором из «блистательной» династии Антонинов, не обращают внимания на онтологическую подоплеку его стоической этики, так же они забывают, что этот невозмутимый философ был одним из самых страшных гонителей христианства всех времен. Именно он был первым римским императором, издавшим официальный указ о запрете христианства в 177 году, – до него репрессии против Церкви проходили с помощью тех законов, по которым можно было осудить далеко не только христиан, теперь же сам факт исповедания христианства стал преступлением. Во многом этот указ был связан с пилатовским желанием «угодить народу», поскольку в это время в Галлии и Малой Азии сильно увеличилось число антихристианских погромов со стороны языческого простонародья, но все-таки личный идейный стоицизм императора имел принципиальное значение. Это была вторая крупнейшая волна гонений после Домициана, и среди ее жертв был, между прочим, первый христианский философ – Иустин Философ со своими учениками (+165), обезглавленные за свои убеждения, что очень характеризует режим философа Марка Аврелия. Также при Марке Аврелии был замучен епископ Поликарп Смирнский (+167), ведущий богослов христианского Востока того времени, заживо сожженный на восемьдесят шестом году жизни; особенно запомнились Церкви массовые пытки и казни в Лионе и Вене, после которых остался подробный мартиролог (от греч. цартид – «свидетель»), то есть перечень мучеников, своей смертью свидетельствовавших о Христе. Сам Марк Аврелий умер от чумы во время военного похода на Дунае.
Парадоксальным явлением римской истории остается сын Марка Аврелия, император Коммод (правил в 180–192 гг.), про которого верно писали, что «он был скорее гладиатором, чем императором», потому что в отличие своего «благородного» отца-философа Антонин Коммод занимался преимущественно тем, что устраивал гладиаторские бои для собственного участия в них, глубоко запустив дела Империи. Марк Аврелий очень хотел оставить после себя достойного наследника и, разумеется, обращал свои «Размышления» не в последнюю очередь именно к нему, но, узнав уже его образ жизни, он страшно страдал, и это было для него гораздо большим наказанием, чем смерть от чумы. Коммод был во всем не похож на отца – своим сумасбродством он воспроизводил худшие образцы римских правителей типа Калигулы и Нерона, но одним он отличался от отца в лучшую сторону: он практически не преследовал христиан. Объяснялось это не столько равнодушием к мировоззренческой политике, свойственной подобным натурам, сколько его любовной связью с христианской Марцией, влияющей на него в пользу Церкви. Но между тем под конец его своеобразного правления был замучен сам сенатор Аполлоний (+192), обвиненный своим рабом в христианстве. При этом после казни Аполлония был казнен и его раб за доносительство. Стоит ли говорить, что Коммод был убит заговорщиками и Сенат в очередной раз приказал стереть имя императора со всех сооружений, что бы и произошло, если бы к власти не пришел новый император по имени Септимий Север (правил в 193–211 гг.), ненавидящий Сенат и вообще всю аристократию.
17. Гонения III века
Исторический эпизод прихода к власти Септимия Севера обращает на себя внимание тем, что он наиболее ярко демонстрирует механику смены императорской власти в Риме, которая была свойственна первым трем векам. Как мы помним, Октавиан Август ввел институт преторианской гвардии, которая должна была охранять императора, но быстро обрела собственную политическую субъектность и непосредственно влияла на выбор нового властителя. После убийства Коммода, на котором поучительно оборвалась «блистательная» династия Антонинов, преторианцы обнаглели настолько, что предложили продать власть императора любому, кто готов заплатить за это наибольшую сумму.
Очевидно, что подобный эксцесс был возможен только при полном падении правового порядка, когда все институты власти утратили свой авторитет.
Многие объясняют эту «революцию» стражников тем, что во II веке армия Империи наполнилась варварами, не знающими благородного воспитания в духе римского права, но о каком правовом порядке можно говорить, если сами императоры стремительно превращали другие органы власти в пассивных штамповальщиков издаваемых ими законов? Если политик основывает свою власть на грубой физической силе, а не на авторитете закона, то нет никаких гарантий, что эта сила рано или поздно не обратится против него самого. Таким образом, в результате разгоревшейся борьбы за власть императорский трон занял варвар с африканским акцентом Септимий Север, откровенно говоривший, что для сохранения власти достаточно ублажать воинов и ни на кого больше не обращать внимания. Однако в отличие Коммода новый император не только любил оружие, но и вплотную занялся религиозной политикой, подтвердив указы Марка Аврелия о христианах и издав в 201 году новый рескрипт о запрещении перехода язычников в христианство.
В результате этой новой волны репрессий начала III века погибло много мучеников и среди них такие, как Отец Церкви епископ Лионский Ириней (+202), знаменитый своими «Пятью книгами против ересей» и борьбой за единство Церкви, которому отсекли голову мечом; отец Оригена Леонид (+202); девица Потамиена, брошенная в кипящую смолу; девица Фивия Перпетуя, брошенная к зверям в цирке и добитая мечом; епископ Магнезийский Харлампий (+202), глубокий старец, которого несколько раз пытали до полного изнеможения, но при этом, наблюдая его мучения, многие сами приняли Христа и среди них – сама дочь Септимия Севера Галина, дважды разгромившая идолов в языческих храмах. Вообще, обращение мучителей к Христу во время наблюдения за поведением мучеников было не редким событием, и уже далеко не каждый легионер или тюремщик соглашались участвовать в этих мучениях.
Старший сын Септимия Севера, император Каракалла (Септимий Бассиан, правил в 211–217 гг.), был первым правителем Рима, не стеснявшимся своих варварских корней и окружившим себя германцами, которые с этого времени были крупной этнической группой в армии. Больше всего он знаменит тем, что в 212 году даровал всему свободному населению Римской империи гражданство, что, с одной стороны, было существенным проявлением цивилизаторской миссии Рима, а с другой – еще больше способствовало изменению этнокультурного облика самого Рима. Правда, нужно иметь в виду, что от количества граждан зависело количество налогов, большим потоком хлынувших в казну, так что в этом жесте императора были очевидные утилитарные мотивы. Как варвар африканского происхождения, Каракалла поклонялся египетской богине Изиде и даже построил ей храм в Риме, что для самих «наследников Энея» было абсолютным нонсенсом – для них уж лучше, чтобы императоры величали себя богами при жизни, чем поклонялись «варварским богам». Еще большим нонсенсом было понимание Каракаллой задач своего правления, когда он решил проехаться по Империи как единоличный хозяин, а точнее, как варвар-кочевник по степи, обкрадывая и насилуя каждый новый регион. Как мы понимаем, это несколько противоречило цивилизаторской миссия Рима. Наибольшее моральное сопротивление своему походу он встретил в рафинированной Александрии, после чего устроил в ней настоящую карательную операцию, особенно настаивая на разрушении сисситиев – домов, где собирались философы, почему жившему там Оригену пришлось бежать в Кесарию Палестинскую. При власти Каракаллы юристом Ульпианом была совершена кодификация всех законов против христиан, что обеспечило антихристианские репрессии более основательной юридической базой. Несмотря на свою варварскую политику, Каракалла прославился в столице построением гигантских роскошных терм, то есть красивых каменных бань, бывших в Риме своего рода отдельными культурными центрами, где были даже музеи и библиотеки.
В итоге своего недолгого правления Каракалла был убит начальником преторианской гвардии Макрином, сделавшим самый последовательный вывод из своего положения – самому стать императором, и хотя Сенат с радостью признал его как избавителя от прежнего кошмара, сам Макрин вскоре был убит во время похода против парфян.
После этого варваризация Рима усилилась в превосходной степени: сестра жены Каракаллы по имени Меза решила привести к власти своего четырнадцатилетнего внука Вария Авита Бассиана и путем подкупа легионеров и других интриг добилась почти невозможного – этот мальчик, абсолютно далекий и от политики, и от римской культуры, был объявлен внебрачным сыном Каракаллы, взошел на престол под очередным длинным императорским именем Цезарь Марк Аврелий Антонин Август, однако в историю он вошел под именем Гелиогабал (правил в 218–222 гг.), потому что все свое существование посвятил сирийскому культу бога-солнца Гелиогабалу (или Элагбалу), постоянно принося ему жертвы и танцуя вокруг его капища. За всю свою историю римская власть не ведала большего позора и шока от того, как такое вообще могло случиться. Весь императорский двор превратился в одно сплошное ритуальное пространство этого азиатского бога, все обязаны были участвовать в поклонении ему, а тех, кто выразил свое неудовольствие, император-подросток приказал казнить. Не будем перечислять, какими «инициатическими» извращениями сопровождалось пребывание в этой экстравагантной для Рима религии, но отметим только ее самые жуткие элементы – это принесение в жертву богу молодых и красивых мальчиков, которых Гелиогабал собирал для этой цели со всей Италии. В то же время этот юный тиран не считал все остальные религии абсолютно ложными, что, как мы уже отмечали, никогда не было свойственно язычеству, – он просто решил подчинить всех других богов своему и поэтому хотел объединить все существующие религии, включая иудаизм и христианство, вокруг культа Гелиогабала, чтобы узнать их «тайны» и использовать в этом культе. Поэтому, как ни странно, специальных гонений против Церкви Гелиогабал не устраивал, хотя любой христианин, отказавшийся поклониться этому сирийскому богу, был обречен на смерть.
Стоит ли удивляться тому, что молодой император был убит преторианцами вместе со своей матерью, но что достойно удивления, так это что его бабка Меза не только избежала преследований, но даже вновь решила повлиять на власть и поставила на престол своего другого внука, тринадцатилетнего Александра Севера (Алексиана Бассиана, правил в 222–235 гг.), отличавшегося исключительно гуманной политикой на фоне всех своих предшественников в III веке. Определяющим фактором этой гуманности было воспитание нового императора, мать которого, Юлия Мамея, была поклонницей философии Оригена, хотя сама не принимала крещения. Подобно многим другим язычникам, юный Александр признавал Христа как одного из богов, но при этом, в отличие от своего троюродного брата Гелиогабала, он не подчинял его другим богам, а ввел в собственный пантеон наряду с такими «богами», как Аполлон, Орфей и… Авраам. Для эпохи всеобщего синкретизма это было совершенно естественно – многие язычники готовы были признать существование чужих богов, как подданные одного царства признают существование царя из другого царства, совершенно не понимая метафизической разницы между богами своих пантеонов и Богом Библии, низводя его до уровня очередного этнорегионального культа. Но при этом, узнав о том, что какие-то народы и религии весьма почитают каких-то исторических личностей, они с тем же успехом возводились у них в степень очередного божества, и поэтому у них – и Христос мог быть богом с маленькой буквы, и Авраам, и Моисей, и пророк Илия, и Иоанн Предтеча, и кто угодно другой. Из этой логики следовало, что человек может поклоняться Христу, но также должен поклоняться и другим богам, что и происходило в относительно «вегетарианскую» эпоху Александра Севера. Среди мучеников этой эпохи была святая Татьяна (+226), происходившая из знатной и при этом христианской семьи, что к этому времени уже не было большой редкостью. За то, что она отказалась поклоняться языческим богам и, по преданию, разрушала их изваяния своими молитвами, святая Татьяна многократно подвергалась пыткам, пока вместе со своим отцом не была приговорена к усекновению главы мечом, как все римские граждане.
Правление Александра Севера закончилось так же трагично, как и его предшественников, – его властная мать потребовала по своему усмотрению перебросить войска из Германии на Восток, что привело к восстанию легионеров, убивших и самого императора, и его мать.
Разумеется, уроженцам Центральной и Восточной Европы было удобнее охранять Империю в своих регионах, чем на непредсказуемом и чуждом Востоке. В качестве нового императора сами легионеры провозгласили своего командующего Максимина Фракийца (правил в 235–238 гг.), ненавидящего христиан из чувства мести к Александру и его матери, якобы покровительствующих Церкви. Вернулись наиболее мрачные времена одновременно и для Церкви, и для Империи. Фракиец издал специальный эдикт против христиан, особенно против иерархов Церкви, представлявших в глазах антицерковно настроенных правителей «параллельную власть» над христианами. Будучи весьма чуждым Риму, Фракиец все время проводил в дальних походах, а антицерковные репрессии успели разразиться только в Понте и Каппадокии, то есть в Малой Азии. В этот период погиб Отец Церкви, епископ Римский Ипполит (+ 236), или иначе папа римский, как именовались с самого начала римские епископы. После святого Иринея Лионского Ипполит Римский является самым крупным обличителем ересей, который был сослан на рудники «чумного острова» Сардиния, где он и принял мученическую смерть.
Недолгой была относительная передышка при Александре, но недолгой был ужас при Максимине Фракийце, убитом своими же солдатами за его жестокость, тут же провозгласившими нового императора, престарелого Гордиана (правил в 238–244 гг.), славного определенным затишьем в отношении различного рода карательных операций, столь свойственных III веку.
После Гордиана императором стал Филипп I Араб (правил в 244–249 гг.), происхождение которого отразилось в его имени. Филипп Араб был префектом претория, то есть начальником военного гарнизона, направленного в 241 году с весьма удачным походом против самого главного и, можно сказать, вечного противника Рима на Востоке – Персидского царства. Легионеры очень любили Филиппа Араба и сделали его регентом при малолетнем внуке Гордиана, а фактически новым императором. Хотя он не отличался миролюбием Александра Севера или Гордиана, он очень хорошо относился христианам, так что существует устойчивое мнение, что Филипп Араб был чуть ли не первым христианином на римском троне. При его правлении в Империи произошло знаменательное событие – в 248 году Рим отпраздновал свое тысячелетие, после чего даже на монетах его стали называть «Вечным городом» (Roma aeterna). И если все римские язычники воспрянули духом, то христиане не предали этому событию особенного значения, чем обрекли себя на целую серию погромов с известными обвинениями в «ненависти к человеческому роду», к которым теперь еще примешались и упреки в антиримских позициях. Филипп пытался остановить этот произвол, но был убит начальником дунайского легиона Децием, желавшим захватить власть по преторианской схеме.
Для Церкви правление Деция Траяна (249–251) ознаменовалось самым чудовищным гонением со времен Марка Аврелия. Деций настойчиво возрождал постепенно забываемый культ императорского гения и приказал всем участвовать в соответствующих жертвоприношениях, а также в 250 году реанимировал эдикт Максимина Фракийца. Причинами этой нетерпимости, если не считать желания насадить везде культ императора, были ненависть к политике предшественника и советы гражданского наместника Деция в Риме, сенатора Валериана, принципиального антихристианина.
В походе против готов на Балканах Деций утонул в болоте, и его место тут же занял Валериан (правил в 253–260 гг.), решивший управлять столь большим государством не в одиночку, а взяв себе в соправители сына Галлиена (правил в 253–268 гг.). Если на антихристианство Деция влиял Валериан, то на самого Валериана влиял египетский маг Маркиан, видевший в последователях Христа своих главных врагов. В это время среди многочисленных мучеников был сам Ориген (+254), погибший от пыток в тюрьме города Трира. В 257 году Валериан издал дополнительный эдикт, специально запрещающий христианские собрания и предписывающий арестовывать священнослужителей, но этого ему было мало, и в 258 году он издал указ о том, что священнослужителей нужно казнить, христианам из высшего сословия отрубать голову мечом, христианок из высшего сословия высылать в далекие тюрьмы, а исповедующих христианство слуг отдавать в императорские поместья. Среди жертв этого террора был Отец Церкви, епископ Карфагенский Киприан (+ 258), которого сначала отправили в ссылку, а потом казнили на глазах у своих прихожан. На этой фигуре стоит остановиться отдельно.
В период гонений Деция и Валериана особенно остро встал вопрос о единстве Церкви, потому что столь агрессивные репрессии породили две противоположные тенденции, раскалывающие христианские общины изнутри. В определенном смысле эти тенденции воспроизводили противоречия между зелотами и эллинистами I века. С одной стороны, среди христиан появилось много людей, не выдерживающих пыток, а иногда даже и малейших притеснений, что совершенно естественно, потому что если человек принял крещение, то из этого еще не следует, что он стал святым. Однако после того, как репрессии прекращались, многие из них возвращались в Церковь, а если это были бывшие священнослужители, то они даже просили вернуть себе сан. Возникал неизбежный вопрос: как принимать этих людей и принимать ли вообще?
С другой стороны, появились ревнители, жестко выступающие против любых послаблений отпавшим и считающие их навсегда лишенными всякого спасения. Еще будучи пресвитером в Карфагене, Киприан проповедовал, что возвращение отпавших возможно, но только через основательное покаяние и повторное крещение. В принципе, для сознательного христианина такая мера никогда не может быть унизительной, но по этому поводу возникали не только психологические, но и чисто физические проблемы, потому что таковых людей было слишком много и отдельно взятые приходы не могли справиться с таким количеством отпавших. Кроме того, излишняя недоверчивость и скрупулезность в вопросе о процедуре возвращения отпавших несколько девальвировала мистическую природу Церкви – ведь реальное прощение грехов и крещение происходят силою Святого Духа, которому сознательный христианин уж никак не может не доверять.
Поэтому для большинства пастырей стало ясно, что есть две крайности: не принимать отпавших вообще, чем лишать их надежды на спасение, и принимать всех подряд без всякого покаяния, чем откровенно профанировать саму Церковь, – и обе крайности очевидно нехристианские. Поэтому для одних позиция Киприана была слишком либеральной, а для других слишком зелотской. Когда в 248 году Киприан был выбран епископом Карфагена, то его конкурент, пресвитер Новат, вместе с пятью другими пресвитерами не признал это избрание и откололся от Карфагенской епископии, а после этого совершил еще более страшный поступок – самочинно рукоположил диакона Филициссима, достаточно влиятельного человека в городе. В период гонений Деция Киприан бежал из Карфагена, чем дал повод расколу Новата и Филициссима хозяйничать в Карфагене на правах епископии. Когда в 251 году Киприан вернулся, то состоялся Собор африканских епископов, осудивших раскольников. Тогда сам Новат бежал в Рим, где в это же время произошел другой раскол, но только по противоположной причине. В том же 251 году епископом Римским был выбран пресвитер Корнилий, готовый принимать отпавших не столь строго, как его конкурент, пресвитер Новациан. В итоге Новациан откололся от Римской епископии и образовал собственный раскол. Что весьма показательно в этом процессе, так это то, что более «либеральный» раскольник Новат объединился с более «зелотским» раскольником Новацианом, а объясняется этот парадокс тем, что помимо чисто богословских споров о приеме отпавших обе партии выступали против власти епископов над пресвитерами, считая пресвитерство достаточным для полноты Церкви. Не вдаваясь в тонкости этого вопроса, можно совершенно точно сказать, что в организационном плане для Церкви, постоянно страдающей от внешних гонений и, при этом постоянно расширяющей свое влияние, епископский принцип власти был так же предпочтительнее, как для сражающейся армии единое командование. Гонители Церкви это очень хорошо понимали и поэтому основной своей мишенью выбирали именно епископов.
А ведь кроме раскольников-пресвитериан, вроде бы во всем православных и только отрицающих власть епископов над собой, были еще и радикальные еретические секты, которые считали себя христианскими, но уже выступали не только против «князей Церкви», но и против самой иерархии. Подобные секты исходили из того, что церковное священство совершенно не обязательно нуждается в каком-либо апостольском преемстве и рукоположениях, а должно быть основано на свободном вдохновении Святым Духом, наделяющим тех или иных людей особой духовной харизмой, позволяющей им выступать от имени Бога без какой-либо внешней санкции.
Ярким примером таких еретиков-харизматиков во II–IV веках было движение монтанитов, названного по имени его основателя, языческого жреца из Фригии Монтана, объявившего себя тем самым Духом-Утешителем (Параклетом), которого обещал Христос и который в его лице пришел всем проповедовать истину, минуя всякую церковную иерархию. И как это часто бывает, у самозваного «утешителя» нашлось много поклонников, называющих себя христианами, но отрицающих любую церковную иерархию, а не то что епископов. Поэтому сторонники сильной и организованной Церкви постоянно сталкивались то с новацианской агитацией, то с монтанистской пропагандой, оказывающими очень большую услугу всем, кто хотел исчезновения христианской Церкви как таковой.








