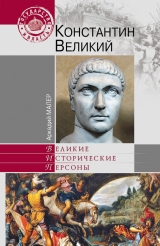
Текст книги "Константин Великий"
Автор книги: Аркадий Малер
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Соответственно, признание Единого Бога и примата духовного над материальным не является существенным признаком христианства в сравнении с язычеством, и, более того, в некоторых языческих учениях акцент на монотеизме и идеализме ставится гораздо больше, чем в христианстве. Да, в христианской религии онтологическое качествосамой божественной природы и его связис опытным миром принципиально отличается от язычества, но оно не сводится к различению опытного и сверхопытного уровней, на котором так настаивали неоплатоники.
Первое и основополагающее отличие христианства от языческих учений заключается в признании им Бога в качестве абсолютной Личности, а не какого-то безличного «божественного начала», каким предстает высшая духовная инстанция во всех случаях языческого монотеизма, к которым можно отнести, например, античный неоплатонизм или индийскую адвайта-веданту, а также весьма близкие к ним иудейскую каббалу и исламский суфизм. Понятие Личности – центральное для всей христианской теологии и слишком сложное, чтобы определить его в двух словах. Прежде всего можно сказать, что личность – это всегда не «что», а «кто», и поэтому полноценное познание личности невозможно как некоей отвлеченной или посторонней реальности, подобно любому объекту в материальном мире, любую личность можно реально познать только через личное общение, в режиме «я – ты», а не в режиме «я – оно», и при этом это познание никогда не достигнет своего предела, потому что мир личности бесконечен. Среди основных свойств личности основополагающее значение имеют ее разумностьи свобода, позволяющие ей осознанно действовать в окружающем мире, не впадая в состояние полного произвола в силу ее разумности или полной зависимости в силу ее свободы.
Отсюда возникают такие фундаментальные свойства личности, как способность к взаимодействию с другими личностями, то есть общение, а также способность к творчеству, то есть к сознательному созданию новой реальности из уже доступной. Если говорить о внешних признаках личности, отличающих ее от безличных предметов и от других личностей, то это ее Имя и ее Лик, которые есть у каждого человека и благодаря которым мы можем с ним общаться. Всеми этими свойствами проявляет себя в человеческом мире Бог, а также сами люди, потому что, с точки зрения Библии, «человек создан по образу и подобию Божию»(Быт. 1:26), где понятие образа как раз означает личность человека. [1]1
Сравните тезис митрополита Филарета (Вахромеева), председателя Синодальной Библейско-богословской комиссии Русской Православной Церкви: « Человек изначально сотворен по образу Божию, который следует отождествить с его личностью, т. е. с ипостасным образом его бытия».Цит. по: Филарет (Вахромеев), митр. Минский и Слуцкий.Православное богословие в новом веке// Церковь и время. 2002. № 4 (21). С.22. По этой теме также можно рекомендовать следующие исследования: Аосский В.Н.Богословское понятие человеческой личности // Боговидение. М.:АСТ, 2003; Малков П.Ю.Ипостась: личность или индивидуум?// По образу Слова. М.:ПСТГУ, 2007.
[Закрыть]Из этого следует, что каждый человек является сознательным и свободным образом Бога, призванным не только к служению Господу, но и к общению и сотворчеству с ним и со всеми людьми, которое само по себе, если оно служит благим целям и использует благие средства, уже составляет это служение. Из этого также следует, что земная жизнь каждого человека всегда имеет смысл и является принципиальной онтологической ценностью, хотя, конечно, не абсолютной, потому что абсолютным может быть только Бог. Отсюда также следует фундаментальное для всей христианской теологии различение личностии природы. Любая личность всегда состоит из определенной природы и никогда не может существовать вне природы, но при этом не природа обладает личностью, а личность обладает природой. Поскольку после грехопадения Адама и Евы, с точки зрения христианства, человеческая природа, а также и вся наблюдаемая природа были повреждены, то задача человеческой личности состоит в том, чтобы путем своих личностных, интеллектуально-нравственных усилий, а не каких-то внешних магических средств преодолеть эту поврежденность и достигнуть обожения, то есть стать «причастником Божественного естества» (2 Петр. 1:4). Однако не только достигнуть этой цели, но даже двигаться в ее сторону совершенно невозможно без встречной помощи самого Господа, который общается с человеком в свободном взаимодействии (синергии) своей и человеческой воли. Свобода человека позволяет ему открыться Господу и идти ему навстречу, а также отвернуться от него, и сам Господь периодически «останавливает свою свободу» перед свободой человека, чтобы дать ему возможность самостоятельно совершать выбор между разными решениями, как нейтральными в этическом смысле, так и соотнесенными с добром и злом. Если бы человек не был свободен, то его предпочтение добра злу не имело бы никакой этической ценности, это было бы механическое действие заведенного робота, а также его бессмысленно было бы судить Господу, как бессмысленно судить неразумных животных.
В философской терминологии признание онтологической ценности личности называется «персонализмом» (от латинского слова person). Однако языческое сознание далеко не сразу смогло воспринять смысл этого понятия, потому что латинское person – это «маска» в буквальном или переносном смысле. Правда, в римском праве категория «person» означает социальное положение человека в государстве, что принципиально отличается от таких категорий, как caput – человек как единица обложения и homo – человек как экземпляр вида человека. Поэтому христианским богословам очень важно было подчеркнуть, что для них личность (person) – это не просто социальное, правовое или театральное понятие, а ценность, обладающая онтологическим значением, что она существует до того, как возникает само общество и само мироздание, потому что Личностью является сам Бог. О том, как эта проблема была решена, мы вспомним в дальнейшем, но можем сразу сказать, что император Константин имел к этому решению непосредственное отношение, выступая не только как политик, но и как богослов и философ.
Сейчас важно отметить то, что именно персонализмхристианского вероучения существенно отличал его от всего мирового язычества, причем в такой степени, что в самой античной философии не нашлось таких понятий, которые могли бы с полной адекватностью описать это отличие. Многие язычники интуитивно понимали, что отличие их мировоззрения от христианского не заканчивается на различении количества богов или отношении к материальному миру, потому что в противном случае христианство можно было представить лишь как очередную версию язычества, но их картина мира была настолько имперсоналистской (безличностной), что понять и признать существование Бога-Личности им было не очень легко.
В связи с этим вполне можно спросить: а неужели язычники не знали о том, что они личности, и представляли своих богов не как личностей? Так в том-то вся проблема, что для того, чтобы признать существование личности на уровне концептуального осмысления, необходим такой понятийный аппарат, который бы это позволял, а у древних римлян person означал не совсем то, что христиане понимают под личностью, а точнее даже, совсем не то. И это действительно было связано с самодовлеющей безличностью их религиозной мифологии.
Если можно найти какой-то общий знаменатель всех языческих учений, это не что иное, как имперсонализмкак в представлении о богах, так и о людях. Дело в том, что языческие боги – это не личности, потому что они не обладают настоящей свободой воли, это определенные космические функции, участвующие в общем процессе циклического развития и угасания природных стихий, и насколько бы могущественными они ни были, их власть ограничена их функциональным предназначением. Например, бог морских вод Нептун может быть сколько угодно сильным, хитрым и заносчивым по отношению к другим богам, но он только бог морских вод, и его существование полностью вписано в общеприродные циклы, на которых основана вся языческая историософия – от «золотого века» к «железному» и обратно. Поэтому для того, чтобы у таких богов-функций получить что-то нужное для себя, к ним нужно обращаться не с молитвой, а с заклинанием – произнесением определенных сакральных формул, которые вызывают у них неизбежную энергийную реакцию, подобно гипнотическому внушению. Молитва– это обращение личности к личности, которое может получить непредсказуемый ответ или не получить его вовсе, а заклинание– это введение необходимого кода в определенную программу, работающую по заранее заведенному алгоритму. Когда мы говорим о том, что языческие боги возникли как определенные «персонификации» тех или иных природных, социальных или психологических явлений, то здесь речь идет о «персонах» скорее как о масках, чем как о личностях. Язычники надевали на эти явления разнообразные «маски», чтобы легче с ними взаимодействовать, поскольку общаться с себе подобными легче, чем общаться с деревьями или камнями. При этом, разумеется, эти маски все больше наделялись личностными свойствами, поскольку сами люди были личностями и они переносили на безличные явления свои собственные качества. Когда же языческие философы, по преимуществу платоники, стали сводить своих богов к одному единому божеству, то его безличностностьстала для них принципиально важным условием.
В истории религиозной философии мы часто можем встретить тезис о том, что поскольку античная философия эволюционировала в сторону монотеизма и трансценденции, то она тем самым подготовила почву для христианства и сама чуть ли не вплотную подошла к христианскому мировоззрению.
В этом тезисе есть определенный смысл, потому что античная философия в целом действительно внесла основной вклад и преодоление примитивного суеверия необразованных масс, в «расколдование мира» античной мифологии, как сказал бы немецкий социолог Макс Вебер. Достаточно сказать, что сам Платон резко негативно оценивал содержательную сторону греческой мифологической поэзии, и в частности самого Гомера, за ее лживость, противоречивость и аморальность, а самих поэтов, как пробуждающих худшую сторону души и губящих ее разумное начало, он бы изгнал из своей утопии («Государство», 605Ь). Таким образом, так же как римское право сыграло основную роль в преодолении тирании и анархии, так и греческая философия, помимо иных своих достоинств, сыграла основную роль в разоблачении античного язычества. Однако если мы внимательно посмотрим на претензии греческих философов к языческим богам, то увидим, что для них они «слишком человечны», как сказал бы Ницше, слишком антропоморфны и поэтому не могут быть настоящими богами, поскольку, с их точки зрения, абсолютность божественного начала должна противоречить любым свойствам, которые можно обнаружить у человека, – не только такие, как ненависть, жестокость или презрение, но также такие, как любовь, милосердие или сострадание. Неоплатоникам было стыдно, что у них есть тело, но если развить этот тезис, то можно сказать, что им было стыдно, что они остаются людьми. В этом плане они бы солидаризировались с точкой зрения того же Ницше, «что человек есть нечто, что следует преодолеть». Основная причина этой античеловеческой установки античного неоплатонизма, а также и иных религиозно-философских учений того времени заключалась в отождествлении негативных свойств человеческого бытия с самим человеческим бытием.
С христианской точки зрения зло в мире возникало в результате свободного человеческого волеизъявления, как следствие человеческого греха, но это зло можно исправить.
С точки зрения языческой философии зло возникало в результате безличного онтологического процесса, в котором все люди были лишь пассивной жертвой, и преодолеть его можно было только переставая быть человеком, то есть развоплотившись. Поэтому бог языческого монотеизма, будучи абсолютно единым и абсолютно трансцендентным, был вместе с тем и абсолютно безличным, а все существующее бытие было лишь его проявлением(манифестацией) с соответствующими градациями на более высокие и более низкие уровни, вплоть до самого низменного уровня грубой материи. Если во всех языческих религиях можно найти какой-то общий знаменатель, кроме имперсонализма, то это идея мира как продолжения безличной божественной природы, пусть даже очень низкого качества. В такой картине мира, которую лучше всего назвать манифестационизмом,или пантеизмом, нет представления о частной, автономной, индивидуальной реальности, здесь все является пассивной частью божественно-космической природы, от любых «телодвижений» которой автоматически зависит судьба всех элементов этого «тела». Поэтому также в такой картине мира нет и не может быть никакой свободы, если только не в качестве глупой и трагической иллюзии. При этом очень важно подчеркнуть, что само проявление Единого божественного начала во всех языческих доктринах объясняется некоей необходимостью его внутренней природы, и в этом смысле само это божественное начало совершенно несвободно и порождает такую же несвободную реальность, где нет места свободному существу.
Справедливости ради надо сказать, что два философских учения Античности все-таки проявили определенную интуицию индивидуального и, что самое интересное, эти учения находились в наиболее остром конфликте с языческой религиозностью. Во-первых, это теория атомизма, полагающая, что мир состоит из неделимых частиц (атомов), которые философ Эпикур наделил свободой. Во-вторых, это несравнимо более влиятельная философия Аристотеля, который ввел понятие «ипостаси», весьма пригодившееся христианской теологии для формулирования своего учения о личности, о чем мы, как было обещано, еще вспомним.
9. Мир без творца
Если языческий имперсонализм был логически связан с идеей мира как продолжения природы безличного божественного начала, то в христианском мировоззрении это было невозможно, потому что абсолютный Бог-Личность Библии не проявляет мир из своей природы, а творит его из ничего (ex nihilo).
Христианское учение о творении мира «из ничего», называемое креационизмом, непосредственно связано с представлением о Боге как абсолютной Личности.
Если бы мир был проявлением и продолжением Божественной природы, то живущие в нем люди, будучи органической частью этой природы с самого начала своего существования, а не восприняв ее в результате свободного совершенствования, были бы несвободны и поэтому бессмысленны, и тогда невозможно было бы объяснить возникновение зла, если только не приписывать зло самому Богу, как это делают некоторые нехристианские учения, например определенная разновидность гностицизма. Кроме того, если это проявление продиктовано внутренней необходимостью божественной природы, то это уже природа не абсолютного Бога, а ограниченного божка, каковым являются все языческие боги. Бог ничего не делает по необходимости, иначе он не Бог. Одновременно с этим, когда мы говорим, что Бог сотворил мир «из ничего», сама эта формула остается лишь удобной фигурой речи, потому что до творения мира не было и не могло быть параллельно с Богом какой-то природы, из которой он мог бы что-то сотворить, потому что такая природа ограничивала бы его существование и тогда он также не был бы Богом. Иными словами, нет того нечто, «из чего» Бог мог сотворить мир, и поэтому сотворение мира было результатом его абсолютно свободного волеизъявления: «И сказал Бог: да будет свет. И стал свет»(Быт. 1: 3). Здесь также важно отметить, что поскольку с христианской точки зрения Бог сотворил мир не из своей природы и не из какой-то параллельно существующей природы, то мы не можем сказать, что он сотворил мир как нечто внешнее по отношению к себе, подобно тому как мать рожает ребенка или художник рисует картину. Сотворяя мир, Бог творит саму природу, из которой состоит этот мир, которая, по определению, абсолютно несовершенна по сравнению с абсолютно совершенной природой Бога. Как очень точно сказал по этому поводу Отец Церкви св. Иоанн Дамаскин (VIII в.), все сотворенное отстоит от Бога не местом, но природой.Поэтому бессмысленно искать Бога как некий материальный предмет в пространстве, поскольку он вне материи, вне пространства и вне времени: он их Творец. Можно сказать, что сотворение мира было не проявление Божественной природы, а проявлением Божественной свободы.
Отсюда возникает принципиальное для библейской религиозности понимание источника истинного знания о Боге. Для всех языческих религий истинное знание об истинном божественном мире коренится в той информации, которая безличное божественное начало сохраняет о себе в самой природе и в культуре соответствующего языческого народа, и только особо избранные или особо посвященные люди, жрецы и прорицатели, могут «расшифровать» эту информацию. Такой тип получения знания называется традицией(некоторые языческие авторы пишут это слово с большой буквы – Традицией), то есть трансляцией знания от одного поколения к другому, от одного посвященного к другому посвящаемому. Поскольку мир является продолжением безличного божественного начала, то в самом мире уже есть информация об этом начале, из чего следует логичный вывод, что чем какая-либо информация древнее, тем она подлиннее, а значит, истиннее. Соответственно, вся языческие религии соревнуются в том, какая из традиций древнее, то есть ближе к источнику бытия.
В авраамическом контексте источником бытия является Бог-Личность, сотворивший само это бытие «из ничего», и поэтому искать истинное знание об этом источнике в прошлом времени – это то же самое, что искать самого Бога в пространстве: Бог вне пространства и вне времени, и мы не можем сказать, что вот «здесь» Бога нет, а «там» он есть или что «вчера» он был, а «сегодня» его нет. Если Бог вне времени и пространства и творит само это время и пространство, то человек может получить истинное знание о нем только от него самого, а также о той информации о нем, которую оставили те люди, которые действительно имели с ним общение. Только к «традиции» эта информация никакого отношения не имеет, потому что срок давности этой информации ничего к ней не прибавляет, скорее наоборот, можно даже заподозрить, что кто-то эту информацию исказил.
Поэтому такой тип получения знания называется Откровением, какое мы можем наблюдать в Библии, когда Бог непосредственно обращается к людям сквозь все границы тварного бытия. Следовательно, если христианская картина мира основана на идеях Бога-Аичности, его Творения и его Откровения, то языческая картина мира основана на идеях безличного божественного начала, проявления им этого мира и оставления им традиции знания о самом себе в этом проявленном мире.
В связи с этим очень интересно сравнить христианскую космогонию с тремя ведущими учениями античной философии – Платона, Аристотеля и неоплатонизма. С точки зрения Платона (427–347), источником бытия является мир вечных и неизменных божественных идей (эйдосов), которые мыслит бог-демиург (творец-ремесленник), но при этом он находится в подчиненном положении по отношению к ним, а наравне с ним существует мир вечной хаотической материи. Демиург воспринимает эти идеи как первообразы (парадигмы) и по их подобию творит все существующие вещи из этой хаотичной материи, выступая здесь в роли оформителя уже существующего мира и посредника между миром идей и миром материи. Таким образом, бог-демиург Платона, как явствует из самого его названия – это бог-творец, но только это не абсолютный Бог, а очень ограниченный и не свободный в своем творчестве. С точки зрения Аристотеля (384–322), радикально пересмотревшего философию своего учителя, бытие представляет собой иерархию форм, своеобразных аналогов платоновских эйдосов, возглавляемых первичной и вечной формой форм, называемой богом-перводвигателем. Как и у Платона, параллельно с этим богом-перводвигателем существует материя как некая вечная потенциальность, по отношению к которой бог-перводвигатель также выступает оформителем, приводя ее потенции в «актуальное» состояние с помощью форм, то есть буквально оформляя материю. Для этого этому богу-перводвигателю требуется некая целевая причина, причем совершенно необходимая, а не произвольная. Соответственно, бог-перводвигатель Аристотеля тоже бог-творец и тоже ограниченный в своем творчестве, как и бог-демиург Аристотеля, хотя, в отличие от платоновского бога-демиурга, он является абсолютной формой форм, не только распределителем, но и источником своих идей-первообразов.
Неоплатоники в значительной степени объединили платонизм и аристотелизм, и их божественное Единое абсолютно не потому, что это форма форм, венчающий иерархию форм, а потому что оно находится за пределами всех иерархий, благодаря чему многие считают абсолютное Единое неоплатонизма метафизическим аналогом абсолютного Бога в христианстве, но это грубая ошибка, потому что при всей своей трансцендентности и неограниченности Единое неоплатоников подчиняется внутренней необходимости и порождает в порядке истечений (эманаций) все существующее бытие вплоть до материи. Следовательно, в отличие от ограниченного платоновского бога-демиурга и «абсолютного» аристотелевского бога-перводвигателя, Единое неоплатоников еще более «абсолютно», но не так, как абсолютен христианский Бог-Личность, потому что оно не является Творцом мира, а лишь его безличным божественным началом. Конечно, философия Платона и философия Аристотеля были кардинальным прорывом человеческого духа сквозь тоталитарный натурализм ранней греческой философии с ее представлениями о том, что все в этом мире произошло из воды (Фалес), воздуха (Анаксимен), огня (Гераклит), земли (Ксенофан) и т. д. и обречено вернуться в эту первостихию. Но в конечном счете в их философии на место одного натурализма пришел другой, поскольку их духовная реальность была частью общей мировой природы с ее жесткими законами необходимости и неизбежности и поэтому она не могла объяснить феномен человеческой Свободы, без которой любая мораль становится относительной. Можно сказать, что тоталитаризм безличной материи подменялся здесь тоталитаризмом безличного духа и поэтому человеческая личность так и не получала своего онтологического обоснования.








