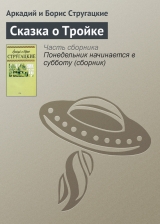
Текст книги "Сказка о Тройке-1 (журнальный вариант)"
Автор книги: Аркадий и Борис Стругацкие
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 12 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
ахнул дверью, так что за обоями что-то просыпалось, и сообщил:
– Меня охрана топтала, когда я этого снимал… как его… и то
ничего! Не на таковского напали! Где фас? Нет фаса! А нет фаса – нет
фото! Будет фас – будет фото. Инструкция! – Он пренебрежительно
поглядел на распростертого коменданта и сказал: – Слабак! Курица! Я
таких пачками снимал. Закурить есть?
Я дал ему закурить, и он удалился, грохая всеми дверями по
дороге. Я тоже закурил и, сделав две затяжки, вернулся в комнату
заседаний. Полковник уже снова дремал. Фарфуркис, отдуваясь,
листал записную книжку, а Хлебовводов что-то шептал на ухо Лавру
Федотовичу. Завидя меня, он перестал шептать и спросил боязливо:
– Этот… фотограф… ушел?
– Да, – сказал я сухо.
– А комендант где? – грозно спросил Хлебовводов.
– У него печеночная колика, – сухо сказал я.
– Госпитализирован? – быстро спросил Фарфуркис.
– Нет, – сказал я.
– Тогда пусть войдет, пусть ответит! Это подсудное дело!
Я набрал в легкие побольше воздуха и начал:
– Мне непонятно, товарищи, что здесь происходит. Мне
непонятно, где я нахожусь. Это авторитетная комиссия или я не знаю
что? Мы присутствуем при интересном научном явлении, которое
67

развивается по имманентным ему законам, представляющим
огромный научный интерес. Я вам удивляюсь, товарищ Выбегалло, на
вашем месте я бы давно потребовал констатировать в протоколе, что
здесь
обнаружена
несомненная
корреляция
между
колориметрическими и контракционными характеристиками
объекта… Как мы должны это понимать? – сказал я, обращаясь к
Эдику.
– Мы должны понимать это так, – немедленно подхватил Эдик, –
что резкое изменение объема и массы объекта, так называемая
контракция, привело к изменению цвета, а возможно, и химического
состава…
– Я прошу товарищей вдуматься в этот факт! – сказал я. –
Особенно вот вас, товарищ Выбегалло. Мы обнаруживаем изменение
цвета, не имея в своем распоряжении ни колориметра, ни
спектрографа, ни… э-э…
– Ни даже простейшего термобарогелиоптера, – восторженно
сказал Эдик. – Такого еще не бывало! Удивительный эффект,
наблюдаемый простым глазом! А если учесть, что эффект этот
обнаруживается
при
комнатной
температуре и при нормальном
атмосферном давлении, то можно смело
утверждать, что мы имеем дело с
необъясненным явлением феноменальной
ценности. Я должен подчеркнуть, что
многие аспекты проблемы остались еще
абсолютно не исследованными. Было бы
чрезвычайно интересно изучить влияние
контракции на вкусовые и магические
свойства данной субстанции. Науке
известны случаи, когда под влиянием
контракции
магодетерминант
Иерусалимского менял знак на
противоположный. Так, например, Роже де
Понтреваль установил…
Пока Эдик, постепенно все более увлекаясь, излагал суть работ
Роже де Понтреваля, я старался определить настроение
присутствующих. Реакция Тройки казалась мне благоприятной: Лавр
Федотович за бинокль не брался, Фарфуркис книжечку не листал,
Хлебовводов слушал, отвесив челюсть, а полковник спал. Опасения
68
мог внушить один лишь Выбегалло, который, по-видимому, все еще
прикидывал, какие выгоды можно извлечь из создавшейся ситуации.
Ему надо было помочь определиться, и, как только Эдик замолчал, я
двинул в бой гвардию.
– Между прочим, мне еще неясно, – сказал я, – должны ли мы
рассматривать происшедшую здесь безобразную сцену как
недоразумение, проистекающее из легкомыслия отдельных членов
Тройки, или, может быть, как сознательную попытку отдельных
членов Тройки замазать новооткрытый эффект и скрыть его от
научной общественности. Такие случаи бывали, – закончил я
гробовым голосом, сел, выхватил из кармана блокнот и изобразил
несколько сверхчеловеческих профилей.
Было слышно, как на столе перед председателем умывается муха.
– Грррм, – сказал Лавр Федотович. – Какие вопросы к
докладчику?.. Нет вопросов? Какие предложения?
Было видно, что Выбегалло понял, с какой стороны масло на
данном бутерброде. Однако он не торопился. Он встал, разгладил
бороду, уперся растопыренными пальцами в тома «Малой
Энциклопедии» и некоторое время смотрел поверх голов.
– Эта… – начал он. – Я уже тут неоднократно говорил, не знаю, в
протокол меня занесли или нет, шумно было очень, говорил я уже,
значить, что эффект колориметрической контракции до сих пор не
обнаруживался, а мы его тут… эта… обнаружили и свалили, значить,
на коменданта, на… ле пувр Зубо… Не все, конечно, свалили, а
некоторые отдельные… эта… далекие от науки. Я уже тут говорил,
что рано, товарищи, дело номер шестьдесят четвертое
рационализировать, а тем более, упаси бог, утилизировать. Дело,
конечно, надо отложить, и отложить его надо на срок, который
потребуется, а вот чего отложить нельзя, товарищи, чего мы с вами не
имеем никакого права откладывать, так это вопроса о приоритете. Дан
нотр позисьон нэ определенный де девуар.11 И в данном случае наша
девуар состоит в том, чтобы эффект назвать и… эта… сохранить для
истории. А потому я категорически предлагаю ходатайствовать перед
компетентными органами о присвоении этому эффекту имени
товарища Вунюкова. Се ту се ке же ву ди.12
Дальше все пошло как по маслу. Появился комендант, который,
11 В нашем положении существуют определенные обязанности.
12 И это все, что я могу вам сказать.
69
разумеется, подслушивал под дверью. Встретили его благосклонно, он
твердил, что ничего не знает, что это дело научное, а у него только
едва восемь классов за душой… а его уверяли, что все выяснилось, что
нельзя же так, работа есть работа, бывают срывы, бывают отдельные
ошибки. Фарфуркис пожал ему руку в знак извинения, Хлебовводов
назвал братком, а Лавр Федотович даже пошутил: «Была вам здесь
сегодня баня, товарищ Зубо, так что посетите-ка вы сегодня баню!»
Когда все отсмеялись, Лавр Федотович снова посуровел и произнес:
– Повестка заседания исчерпана. Я констатирую, что данное
заседание, как и все предыдущие, происходило в деловой и рабочей
атмосфере. Другие предложения будут? Нет? Тогда объявляю дневное
заседание Тройки закрытым и предлагаю перейти к отдыху и обеду.
Он погрузил в портфель все свои председательские
принадлежности, поднялся из-за стола и степенно двинулся к выходу.
Хлебовводов и Выбегалло, сбив с ног зазевавшегося Фарфуркиса,
кинулись, отпихивая друг друга, открывать ему дверь.
– Бифштекс – это мясо, – благосклонно сообщил им Лавр
Федотович.
– С кровью! – преданно закричал Хлебовводов.
– Ну зачем же с кровью? – донесся голос Лавра Федотовича уже
из приемной.
Мы с Эдиком распахнули все окна. С лестницы доносилось: «Нет
уж, позвольте, Лавр Федотович… Бифштекс без крови, Лавр
Федотович, – это хуже чем выпить и не закусить…» – «Наука
полагает, что… эта… с лучком, значить…» – «Народ любит хорошее
мясо… например, бифштексы…»
– В гроб они меня вгонят, – озабоченно сказал комендант. –
Погибель они моя, мор, глад и семь казней египетских…
– Товарищ Зубо, – сказал я сурово, – извольте объяснить, что же
произошло на самом деле. Почему так мало пришельца? Почему он в
этой банке?
– Ничего не знаю, ничего не делал, это эффект научный, –
забарабанил комендант. Я прервал его.
– Товарищ Зубо, вы мне это прекратите, ведь Корнеев из вас душу
вынет за эти штучки. Вы знаете Корнеева.
Комендант знал Корнеева. Он снова наладился было в обморок, но
тут в комнату вернулся Фарфуркис. Тройка, как всегда, забыла за
столом полковника. Фарфуркис разбудил его и увел, приговаривая:
«Неужели трудно было проснуться вовремя? Старая вы песочница, в
70

самом деле… Удивительно даже!»
– Ну? – сказал я, когда они удалились.
– Вы расскажите нам, пожалуйста, товарищ Зубо, – попросил
вежливый Эдик. – Может быть, делу удастся помочь…
Комендант понурился.
– Нет, – сказал он. – Никак этому делу уже не поможешь. Кто
разбил, не знаю, а только прихожу я сегодня утром готовить его к
демонстрации, а горшок евонный, глиняный… ну, в котором он
прилетел… лопнул, половина вытекла, лужа на полу, и дальше
вытекает. Ну что мне было делать? Эх, думаю, семь бед – один ответ.
Перелил я, что осталось, в эту банку – совру, думаю, что-нибудь, а
может, и вовсе не заметят… Но это еще что! – В глазах его мелькнул
пережитый ужас. – Бурый ведь он был, ребятки, переливал его –
видел… А тут выхожу за банкой – мать моя мамочка – синий!.. Не-ет,
вгонят они меня в гроб, сегодня бы уже и вогнали, если бы не вы,
ребятки, благодетели мои…
Мы с Эдиком переглянулись.
– М-м? – спросил я.
– Ну что ты, – неуверенно сказал Эдик. – Не может быть… Вряд
ли… Сомнительно что-то… Хотя…
Когда мы спускались по лестнице, он сказал:
– Вся беда в том, что это – Витька. Никогда нельзя угадать, на что
он не способен…
71

ГЛАВА ПЯТАЯ
Вечернее заседание не состоялось.
Официально нам было объявлено, что Лавр
Федотович, а также товарищи Хлебовводов
и Выбегалло отравились за обедом грибами
и врач рекомендовал им всем до утра
полежать. Однако дотошный комендант не
поверил официальной версии. Он при нас
позвонил в гостиничный ресторан и
переговорил со своим кумом, метрдотелем.
И что же? Выяснилось: за обедом Лавр
Федотович, выступая против товарища
Хлебовводова в практической дискуссии
относительно сравнительных преимуществ
прожаренного
бифштекса
перед
бифштексом с кровью, стремясь выяснить
на деле, какое из этих состояний бифштекса
наиболее любимо народом и, следовательно, перспективно, скушали
под коньячок и под пльзенское бархатное по четыре
экспериментальные порции из фонда шеф-повара. Теперь им совсем
плохо, лежат пластом и до утра, во всяком случае, на людях появиться
не смогут.
Комендант ликовал, как школьник, у которого внезапно и тяжело
заболел любимый учитель. Я – тоже. Один только Эдик остался
недоволен. Он как раз намеревался на вечернем заседании учинить
очередной сеанс позитивной реморализации всей компании.
Мы купили по стаканчику мороженого, попрощались с
комендантом и пошли к себе в гостиницу. По дороге на меня напал
из-за угла старикашка Эдельвейс. Я дал ему рубль, но это не
произвело на него обычного действия. Я отдал ему свое мороженое,
но он не отставал. Материальные блага его больше не интересовали.
72
Он жаждал благ духовных. Он требовал, чтобы я включился в
качестве руководителя в работу по усовершенствованию и
модернизации его эвристического агрегата и для начала составил бы
развернутый план этой работы, рассчитанной на три года (пока он
будет учиться в аспирантуре). Через пять минут беседы свет стал
мраком перед моими глазами, горькие слова готовы были вырваться, и
страшные намерения близились к осуществлению. Старикашку спас
Эдик. «Такого рода работу, – вежливо, но твердо сказал он, –
следовало бы начать с тщательного изучения литературы.
Приходилось ли вам читать „Азбуку радиотехники“ Кина?» Старику
вообще не приходилось читать, и скрывать этого он не стал.
«Прекрасно, – сказал я, возвращаясь к жизни. – Немедленно
запишитесь в библиотеку, возьмите там „Азбуку“, „Геометрию“
Киселева и что-нибудь по алгебре для восьмого класса. Прочтите и
законспектируйте. До конца этой работы извольте меня не
беспокоить». Старикашка спросил меня, что такое алгебра, и
удалился, увлекаемый агрегатом, которому, видимо, надоело стоять
спокойно.
Поднявшись в свой номер, мы обнаружили там следующее.
Витька Корнеев, очень довольный, валялся в ботинках на моей койке
и разглагольствовал о свободе воли. Роман, голый по пояс, сидел у
окна, и Федя осторожно обмазывал ему алую распухшую спину
какой-то желтой дрянью, распространяющей аптекарский запах. Клоп
Говорун взобрался на стену и, зажав нос, с неодобрением на них
поглядывал, ожидая случая вставить словечко-другое.
– А, работяги! – вскричал при виде нас Витька, дрыгнув ногами. –
Прозаседавшиеся! Как здоровье многоуважаемого товарища
Вунюкова? Как утилизировали дело номер шестьдесят четыре?
Распили на четверых или вылили на помойку?
– Значит, это все-таки ты натворил? – сказал Эдик.
– Хватать и тикать, – ответил Витька. – Сто раз я вам говорил.
– Убирайся с моей койки, – потребовал я.
– Я вам тысячу раз говорил, остолопам, – сказал Витька,
перебираясь с моей койки на свою. – Нельзя ждать милостей от
природы и бюрократии. Я, например, никогда не жду. Я выбираю
подходящий момент, хватаю и рву когти. Но я знаю, что все вы
чистоплюи и моралисты. Без меня вы бы здесь сгнили. Но я есть! И я
сегодня все устрою. Эдельвейса я утоплю в канализации. Чего тебе
еще нужно, Сашка? Черный Ящик тебе? Будет тебе Черный Ящик, я
73

знаю, где он у них стоит… Теперь Амперян. Чего тебе нужно,
Амперян? А, Клопа тебе? Давай сюда тару какую-нибудь…
С этими словами он схватил Говоруна за ногу и потащил со стены,
но тот заорал таким ужасным голосом, что из соседнего номера к нам
постучали и в грубых выражениях предложили прекратить безобразие.
Витька отпустил Клопа, и Говорун, оскорбленно отодвинувшись,
принялся массировать потревоженную ногу.
Витька понизил голос и начал рассказывать, как он нынче ночью
проник по водопроводной трубе в павильон, где томился в своем
керамическом снаряде Жидкий пришелец; как он долго не мог
вскрыть контейнер, как он, наконец, несмотря на кромешную тьму,
расколол его взглядом над бидоном, позаимствованным в кладовке у
коменданта («…у него там целое сырное производство, у кулака, даже
сепаратор есть…»), как потом долго искал, что бы этакое налить в
опустевший контейнер, пока не обнаружил в подвале ведро с какой-то
бурдой… В Институт он трансгрессировался в два часа ночи, работал
до обеда, как зверь, получил огромное удовольствие и кое-какие
довольно пока скромные результаты, и вот он снова здесь, юный и
свежий, как д'Артаньян, чья шпага всегда – к услугам друзей.
Пришелец шлет всем приветы, утверждает, что только в Витькиной
лаборатории почувствовал себя на Земле как дома, а бидон он, Витька,
честно приволок обратно, потому что он, Витька, ученый, а не
какой-нибудь паршивый домушник, и теперь намерен вскорости
вернуть бидон владельцу, так что если кому-нибудь нужно что-нибудь
хапнуть на территории Колонии, то ради бога, не стесняйтесь, он,
Витька, готов.
Роман отнесся к этому рассказу, в
общем, сочувственно, хотя слушал его уже
второй раз и этот второй раз, по его словам,
ничем не отличался от первого: то же
хвастовство и те же сомнительные
притязания на честность. Я не без
восхищения обозвал Витьку шпаной и
уголовником. Эдик же явно расстроился и
сказал, что это нечестно, что это свинство,
что коменданта сегодня из-за Витьки чуть
не довели до разрыва сердца, что это не
метод, что Витька доиграется, что
порядочные люди так не поступают и так
74
далее.
Витька неприятно ухмыльнулся и спросил, а как же поступают
порядочные люди. Он, Витька, очень интересуется узнать, что в такой
ситуации обычно делают порядочные люди. Он, Витька, уже
полмесяца ждет каких-нибудь порядочных результатов от действий
порядочных людей. Может быть, порядочные люди все-таки
снизойдут и просветят его, темного уголовного Витьку, как надлежит
им, порядочным людям, поступать. Может быть, они даже поступят
как-нибудь, наконец?
Эдик ответил, что да, порядочным человеком быть гораздо
труднее, чем темным и уголовным. Действия порядочных людей
всегда направлены на улучшение окружающего мира. Порядочные
люди не могут испытывать удовлетворения, если им удалось
достигнуть пусть даже самой благородной цели неблагородными
средствами. Тем и труднее положение порядочного человека в
сравнении с положением темного и уголовного, но порядочный
человек вынужден тщательно и придирчиво отбирать средства для
достижения целей в каждом частном конкретном случае.
Витька ответил, что, по его наблюдениям, так называемые
порядочные люди были всегда чрезвычайно сильны в теории. Но его,
Витьку, сейчас меньше всего интересует теория, его интересует
практическая деятельность порядочных людей. Уж не принуждают ли
его, Витьку, рассматривать в качестве образца такой деятельности
жалкий благотворительный спектакль, разыгранный товарищем
Амперяном на вчерашнем вечернем заседании? («…Если уж взялся,
так и довел бы до конца, чистоплюй; прикончили бы насильственно
облагороженные стервятники насильственно облагороженного дурака
Эдельвейса – было бы дело, а то один пшик и розовые сопли…»)
Эдик, сильно покраснев, заявил, что Корнеев решительно ничего
не смыслит в методике позитивной реморализации, а потому его,
Эдика, никак не задевает этот плоский, безграмотный выпад. Он,
Эдик, и в дальнейшем намерен продолжать попытки довести Тройку
до верхнечеловеческого уровня, и хотя он, Эдик, отнюдь не
гарантирует стопроцентной удачи, он, Эдик, не видит пока другого
пути существенного улучшения данного участка мира. Он, Эдик,
предвидит, однако, что дальнейшая дискуссия в таком тоне должна
неизбежно выродиться в вульгарное препирательство, на которое
Корнеев мастер, и поэтому он, Эдик, просит высказаться по существу
дела как присутствующего здесь Александра Привалова, известного
75
своей добротой и объективностью, так и присутствующего здесь
Романа Ойру-Ойру, старшего из магистров.
Известный своей добротой и объективностью Александр
Привалов в моем лице честно и прямо заявил, что вся эта проблема
представляется ему надуманной, если, конечно, не считать
небезынтересной, хотя и высказанной мимоходом, идеи относительно
Эдельвейса и канализации. Он, добрый и объективный Привалов, ждет
только субботы, когда Тройка будет рассматривать дело номер
девяносто семь, надеется это дело выиграть и после этого покинет
Китежград навсегда, унося в клюве Черный Ящик. А пока он намерен
всеми разумными средствами выражать свою горячую
заинтересованность деятельностью Тройки и присутствовать на всех
без исключения заседаниях, дабы не упустить и тени шанса.
Старший из магистров к моменту своего выступления закончил
холю ногтей, густо напудрил воспаленные от бритья щеки и, развеся
на трельяже все свои восемнадцать галстуков из тринадцати
различных стран мира, решал задачу на оптимум. Он начал свое
заявление с того, что все здесь правы, каждый по-своему, и,
следовательно, все здесь не правы. Он, старший из магистров,
всячески приветствует благородное намерение Э. Амперяна
разоблачить членов Тройки в их собственных глазах и показать им,
какими они могли бы быть, если бы не были такими, каковы они есть.
Он, Роман, всегда считал, что позитивная реморализация является
высшей формой воздействия человека на человека, но он же, Роман,
считает необходимым напомнить, что далеко не всегда высшая форма
воздействия является в то же время и наиболее эффективной. Он,
Роман, всячески приветствует положительный фатализм А.
Привалова, его, А. Привалова, нерушимую надежду на счастливый
случай, ибо что бы там ни говорили, а счастливый случай есть
необходимая компонента всех начинаний. Но он же, Роман (старший
из магистров), напоминает, что в нашем реальном мире вероятность
счастливого случая всегда была и остается значительно меньше
вероятности любого другого. Наконец, действия В. Корнеева
вызывают в нем, Романе, чувство невольного восхищения, каковое
чувство, впрочем, в значительной степени омрачается сознанием того,
что указанные действия определенно лежат по ту сторону морали.
Нет, он, старший из магистров, не знает общего решения поднятой
здесь проблемы. Ему кажется совершенно естественным, что каждый
из присутствующих ищет частное решение – в соответствии со своей
76
духовной конституцией. Например, он, Роман, глядит сейчас в это вот
зеркало и видит в нем смуглое худощавое лицо, сверкающие жгуче
черные глаза и чрезвычайно редкий в этих широтах, а потому
дефицитный горбатый гасконский нос. Между тем у товарища Голого,
администратора в высшей степени авторитетного и состоящего в
приватном знакомстве с небезызвестным товарищем Вунюковым,
имеется среди прочих детей любимая дочь на выданье по имени
Ирина. Назвав имя, он, Роман, полагает, что сказал уже более чем
достаточно и имеет только добавить, что товарищ Голый, насколько
известно, никогда и ни в чем не отказывает товарищу Ирине; что
товарищ Вунюков, по имеющимся сведениям, с большой охотой
выполняет практически все просьбы товарища Голого; и что задача
таким образом сводится лишь к созданию ситуации, когда товарищ
Ирина вознамерится выполнять все существенные просьбы товарища
Романа, старшего из магистров. Пока в своем активе он, Роман,
числит: три бессонных ночи, заполненных чтением наизусть поэта
Гумилева; два кошмарных вечера, проведенных у товарища Голого в
беседах о хорканье вальдшнепов и чуфыканье тетеревов; ежедневное
мучительное бритье опасной бритвой; сожженную нынче днем на
пляже спину и хроническую боль в лицевых мускулах – следствие
непрекращающейся мужественной улыбки.
– Победа будет за мной, – заключил Роман, натягивая пиджак. – И
тогда я вас не забуду, мои дорогие фаталисты, моралисты и
уголовники!
Он сделал ручкой, построил на лице мужественную улыбку и
вышел, посвистывая. Клоп, потеряв надежду самовыразиться, с
независимым видом выскользнул за ним. Только сейчас я заметил, что
Феди в комнате тоже нет. Федя был очень чуток к напряженности в
отношениях и, вероятно, счел за благо удалиться, когда Витька начал
орать на Эдика.
– Может, хватит трепаться? – сказал я утомленно. – Может, лучше
пойдем прогуляемся?
– Я знаю только одно, – не обратив на меня внимания, сказал
Эдик. – Все, что ты говорил здесь, Виктор, ты никогда не осмелишься
повторить ни Жиану Жиакомо, ни Федору Симеоновичу. И уж во
всяком случае, ты никогда не расскажешь им, как тебе достался
пришелец.
Это был удар большой жестокости и силы. Я даже поразился, как
вежливый Эдик позволил себе это. Жиан Жиакомо и Федор
77
Симеонович, учителя Витьки, принадлежали к предельно узкому
кругу людей, которых Витька уважал, любил и вообще принимал во
внимание.
Грубый Корнеев, только что нахально скаливший зубы в лицо
Эдику, почернел, как удавленник. Он искал слов, грубых,
оскорбительных слов, и не находил их. Тогда он стал искать грубые
жесты. Он вскочил и пробежался по потолку. Потом он превратился в
камень, полежал так, раздумывая, и, отыскав жест, вернул себе
прежний вид. Он извлек из-под кровати комендантский бидон,
аккуратно поставил его посередине комнаты, отошел в угол,
разбежался и пнул бидон ногой с такой силой, что бидон исчез. Потом
он оглядел нас желтыми глазами, крикнул: «Ну и пр-ропадайте тут,
вегетарианцы!» – и исчез сам.
Несколько минут мы с Эдиком сидели молча. Говорить было не о
чем. Затем Эдик тихонько сказал:
– Я хотел бы осмотреть Колонию, Саша. Ты меня не проводишь?
– Пойдем, – сказал я. – Только я не буду бродить с тобой, ты сам
все осмотришь. А то я обещал Спиридону кое-что почитать.
Эдик не возражал. Я взял папку с японскими материалами, и мы
вышли в коридор. По коридору, заложив руки за спину, прогуливался
Клоп Говорун, задумчиво прислушиваясь к каким-то своим
ощущениям. Я сообщил ему, что иду к Спиридону.
– Да-да, – рассеянно отозвался он. – Обязательно.
– Так пошли? – предложил я.
– Я занят! – раздраженно сказал Клоп. – Разве вы не видите, что я
занят? Идите к своему Спиридону, я потом к вам присоединюсь…
Некоторые люди, – сказал он Эдику с любезной улыбкой, – бывают
временами чрезвычайно бестактны.
Эдик вспомнил, видимо, замечание, которое он сделал Витьке, и
совсем расстроился. До Колонии мы шли молча и около павильона, в
котором жил Спиридон, расстались. Эдик сказал, что он посмотрит,
как тут и что, а потом вернется сюда.
Под резиденцию Спиридону отвели бывший зимний бассейн. В
низком помещении ярко светили лампы, гулко плескала вода. Запах
здесь стоял ошеломляющий – холодный, резкий, от которого
съеживалась кожа, а в мозгу возникали неприятные ассоциации:
вспоминалась преисподняя, пыточные камеры и костяная нога нашей
Бабы Яги. Но тут уж ничего нельзя было поделать. Нужно было
преодолеть первый спазм и ждать, пока принюхаешься. Я сел на край
78

бассейна, спустил ноги и положил папку рядом с собой. Спиридона
видно не было – вода волновалась, по ней прыгали блики, крутились
маслянистые пятна.
– Спиридон, – позвал я и постучал каблуком в стенку бассейна.
Вот это больше всего раздражало меня в Спиридоне: наверняка
ведь видит, что пришли к нему в гости, папку ему принесли, которую
он просил, и не Выбегалло какой-нибудь пришел, а старый приятель,
который все эти штучки наизусть знает, – и
все-таки нет! Обязательно надо ему лишний
раз показать, какой он могущественный,
какой он непостижимый и как легко он
может спрятаться в прозрачной воде.
Оказался он, разумеется, прямо у меня
под ногами. Я увидел его подмигивающий
глаз величиной с тарелку.
– Ну хорошо, хорошо, – сказал я. –
Красавец. Ничего не вижу, только глаз
вижу. Очень эффектно. Как в цирке.
Тогда Спиридон всплыл. То есть не то
чтобы он всплыл, он, собственно, и не
погружался, он все время был у
поверхности, просто теперь он позволил
себе быть увиденным. Плоские дряблые
веки его распахнулись мгновенно, словно судно-ловушка откинуло
фальшивые щиты, огромные круглые глаза, темные и глубокие,
уставились на меня с нечестивым юмором, и слабый хрипловатый
голос произнес:
– Как ты сегодня меня находишь?
– Очень, очень, – сказал я.
– Гроза морей?
– Корсар! Смерть кашалотам!
– Опиши меня, – потребовал Спиридон.
– Пожалуйста, – сказал я. – Но я не Альфред Теннисон, я правду о
тебе порасскажу такую, что хуже всякой лжи. Ты сейчас похож на
кучу грязного белья, которую бросили отмокать перед стиркой.
Спиридон одним длинным неуловимым движением как бы
перелился на середину бассейна. Перепонка, скрывающая основания
его рук, стала бесстыдно выворачиваться наизнанку, обнажилась
иссиня-бледная поверхность, густо усеянная сморщенными
79
бородавками, из самых недр организма высунулся в венце мясистых
шевелящихся выростов и раскрылся, дразнясь, огромный черный
клюв. Послышался пронзительный скрежет: Спиридон хохотал.
– Завидуешь, – сказал он. – Вижу, что завидуешь. Ох, и
завистливы же вы все, сухопутные! И напрасно. У вас есть свои
преимущества. Гулять сегодня пойдем?
– Не знаю, – сказал я. – Как все. Я вот папку принес. Помнишь, ты
просил?
– Помню, помню, – сказал Спиридон. – Как же…
Он разлегся на воде, распустив веером чудовищные щупальца, и
принялся мерцать и переливаться перламутром. У меня зарябило в
глазах и потянуло в сон. Представилось, что сижу я с удочкой ясным
утром, солнышко греет, блики бегают по теплой воде, и сладко так
тянет все тело. Спиридон пустил мне в лицо струю холодной воды, и я
опомнился.
– Тьфу, – сказал я. – Грязью своей… Тьфу!
– Почему же – грязью? – удивился Спиридон. – Чистейшая вода, в
нечистой я бы умер.
– Черта с два ты бы умер, – вздохнул я. – Знаю я тебя.
– Бессмертен, а? – самодовольно сказал Спиридон.
– Что-то вроде этого, – согласился я. – Ну-ка, перестань мерцать.
Ты на меня сон нагоняешь. Ты что, нарочно?
– Я не нарочно, но я могу и перестать. – Он вдруг снова оказался у
самых моих ног. – А где наш говорливый дурак? – спросил он. – И где
твой волосатый приятель?
– Он не только мой приятель, – возразил я. – Он и твой приятель.
Что у тебя за манера – оскорблять друзей?
– Друзей? – спросил Спиридон. – У меня нет друзей. Я не знаю,
что это такое.
– А как насчет Генерального содружества? – спросил я. – Чей же
ты тогда Полномочный посол?
Спиридон холодно взглянул на меня.
– Ты имеешь какое-нибудь представление о дипломатии? –
осведомился он. – Можешь не отвечать. Вижу, что очень смутное.
Дипломатия есть искусство определять новые явления старыми
терминами. В данном случае совершенно новое для вас, людей,
явление – мою искреннюю и нерушимую дружбу меня сегодняшнего
со мной завтрашним – я определяю старым термином «Генеральное
содружество».
80
– Ага, – сказал я. – Значит, Генеральное содружество – это вранье.
– Ни в коем случае, – возразил Спиридон. – Это, повторяю,
содружество меня со мной.
– Вот я и говорю: вранье, – повторил я. – Кроме самого себя, ты
ни с кем не можешь находиться в содружестве, даже со мной.
– Гигантские древние головоногие, – наставительно сказал
Спиридон, – всегда одиноки. И всегда рады этому обстоятельству.
– Понятно. А кто же тогда тебе мы – Федя, Говорун, я?
– Вы? Собеседники. Развлекатели… – Он подумал немного и
добавил. – Пища.
– Скотина ты, – сказал я, обидевшись. – Грязные ты
подштанники. – Это прозвучало несколько по-хлебовводовски, но я
очень рассердился. – Ну и отмокай здесь в своем гордом одиночестве,
а я пойду.
Я сделал вид, что собираюсь встать, но он ловко вцепился
крючьями присосков мне в штанину и не пустил.
– Подожди, подожди, – сказал он. – Надо же, обиделся! До чего
же вы все, сухопутные, правды не любите… Все что угодно вам
можно говорить, кроме правды. Вот мы, Гигантские древние
головоногие, всегда говорим только правду. Мы мудры, но
бесхитростны. Когда я готовлюсь напасть на кашалота, я предельно
бесхитростен. Я не говорю ему: «Позволь мне обнять тебя, мой друг,
мы так давно не виделись!» Я вообще ничего не говорю ему, а просто
приближаюсь с совершенно отчетливо выраженными намерениями…
И ты знаешь, – сказал он, словно эта мысль впервые его осенила, – и
ведь кашалоты этого тоже не любят! Удивительно нерационально
построен мир. Жизнь возможна только в том случае, если реальность
принимается нами как она есть, если черное называют черным, а белое
– белым. Но до чего же вы все не любите называть черное черным! А я
вот не понимаю, как можно обижаться на правду. Впрочем, я вообще
не понимаю, как можно обижаться. Когда я слышу неправду, когда
Клоп называет меня трясиной, а ты называешь меня грязными
кальсонами, я только хохочу. Это неправда, и это очень смешно. А
когда я слышу правду, я испытываю чувство благодарности –
насколько Гигантские древние головоногие вообще способны
испытывать это чувство, – ибо только знание правды позволяет мне
существовать.
– Ну хорошо, – сказал я. – А если бы я назвал тебя сверкающим
брильянтом и жемчужиной морей?
81
– Я бы тебя не понял, – сказал Спиридон. – И я бы решил, что ты
сам себя не понимаешь.
– А если бы я назвал тебя владыкой мира?
– Я бы сказал, что предо мною разумное существо, которое
привыкло говорить владыкам правду в глаза.
– Но ведь это же неправда. Никакой ты не владыка мира.
– Значит, ты менее умен, чем кажешься.
– Еще один претендент на мировое господство, – сказал я.
– Почему – еще? – забеспокоился Спиридон. – Есть и другие?
– Злобных дураков всегда хватало, – сказал я с горечью.
– Это верно, – проговорил Спиридон задумчиво. – Взять хотя бы
одного моего старинного личного врага – кашалота. Он был альбинос,
и это уродство сильно повлияло на его умственные способности.
Сначала он объявил себя владыкой всех кашалотов. Это было их
внутреннее дело, меня это не касалось. Но затем он объявил себя






