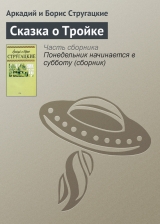
Текст книги "Сказка о Тройке-1 (журнальный вариант)"
Автор книги: Аркадий и Борис Стругацкие
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 12 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]

1





Аркадий СТРУГАЦКИЙ
Борис СТРУГАЦКИЙ
2





Аркадий Стругацкий. Борис Стругацкий
(Первоначальный авторский вариант. Журнал «Смена» 1987 № 11–14)
Сказка о Тройке-1
Иллюстрации Игоря Гончарука
История непримиримой борьбы за повышение трудовой
дисциплины, против бюрократизма, за высокий моральный уровень,
против обезлички, за здоровую критику и здоровую самокритику, за
личную ответственность каждого, за образцовое содержание
отчетности и против недооценки собственных сил
3
Предисловие редактора
славном Китежграде герои народных сказок, легенд,
мифов и преданий чувствуют себя также свободно и
Ввольготно, как и герои Рабле, как и вымышленные
персонажи, хорошо известные каждому из нас из опыта
своей жизни, полной проблем, забот, борьбы, требующей
поступков и веры в свои силы…
Китежград и его обитатели знакомы многим читателям
по популярной повести братьев Стругацких «Понедельник
начинается в субботу» (изд-во «Детская литература», 1979
г.), по телефильму «Чародеи», снятому по их сценарию.
«Сказка о Тройке» – продолжение повести «Понедельник
начинается в субботу», герои которой и здесь не вешают
нос, столкнувшись с глупостью и пошлостью, но с
весельем и отвагой вступают в отчаянную схватку с ними.
В лукавом и потешном сказочном обличье, в
карнавальном
круговороте
фантасмогорических
персонажей и ситуаций предстает перед нами
противоборство молодых творческих сил с
бюрократическим консерватизмом, громыхающим столь
знакомым всем нам привычным набором фраз, штампов,
бесплодных резолюций, продиктованных единственным
желанием запретить все необычное, живое, свежее,
плодотворное.
Сказка весело и заразительно смеется над этими
отжившими свое застойными явлениями, борьба с
которыми приобрела такую остроту и значение.
«Сказка – ложь, да в ней намек, добрым молодцам
урок». Уроки «Сказки о Тройке» очевидны и не подлежат
сомнению. Жизнь не остановить, это не по силам никаким
параграфам и регламентациям, она идет вперед, движимая
усилиями людей, полных сил, замыслов и веселой отваги.
Актуальность этого произведения, его ненатужное, изящное
остроумие, пронизанный бодростью и оптимизмом юмор
наверняка привлекут к сказке-сатире внимание читателей, м
прежде всего молодых, кому хочется пожелать идти по
4

жизни с отважным весельем.
Сказка о Тройке-1
5


6

ГЛАВА ПЕРВАЯ
Мы сидели на травке в пыльном скверике
под окнами заводского управления и
переваривали обед – каждый по-своему.
Федя читал «Китежградские новости»,
медленно ведя по строчкам черным
неразгибающимся пальцем; мрачный Витька
Корнеев лелеял обуревавшие его черные
замыслы; Эдик Амперян спрашивал, Роман
Ойра-Ойра отвечал; а я, не теряя
драгоценного времени, загорал себе
подмышки. Комаров и слепней поблизости
не было, они тоже, вероятно, переваривали
обед.
Внизу под обрывом величественно несла в
своих
хрустальных
струях
ядовито-оранжевые сточные воды прохладная Китежа. На другом
берегу сладко томились под солнцем заливные луга. По ровной
желтой насыпи, выбрасывая белые дымки, полз игрушечный поезд. На
горизонте в парном мареве синела зубчатая кромка далекого леса. Над
серыми башнями Старой крепости, сверкая солнечными зайчиками,
совершало эволюции небольшое летающее блюдце.
Окна заводского управления были раскрыты, и слышно было, как
пишущие машинки вяло и неубедительно отвечают на энергичные
напористые очереди бухгалтерских «рейнметаллов». Зажмурившись,
можно было легко представить себя в районе боев местного значения.
В полуподвале управления, подчиняясь сложному ритму, сдвоенно и
тяжело грохали печатающие механизмы табуляторов. Пикирующими
бомбардировщиками визжали и завывали на складе циркулярные
пилы. По бомбардировщикам выпускали обойму за обоймой
скорострельные пневматические молотки. В ремонтных мастерских,
устрашающе лязгая гусеницами, разворачивались танки, а где-то в
цехах дальнобойно ухал паровой молот. Кроме того, у ворот склада
разгружали машину листового железа – звуки были сочные, военные,
но я не мог подобрать для них удовлетворительную аналогию.
– А это что за развалина? – спрашивал Эдик.
– А это Старый Китежград, – отвечал Роман.
7

– Тот самый?
– Тот самый. Двенадцатый век.
– А почему только две башни? – спросил Эдик.
Роман объяснил ему, что до осады было четыре: Кикимора,
Аукалка, Плюнь-Ядовитая и Уголовница. Годзилла прожег стену
между Аукалкой и Уголовницей, ворвался во двор и вышел
защитникам в тыл. Однако был он дубина, по слухам – самый
здоровенный и самый глупый из четырехглавых драконов. В тактике
он не разбирался и не хотел, а потому, вместо того чтобы
сосредоточенными ударами сокрушить
одну башню за другой, кинулся на все
четыре сразу, благо голов как раз хватало.
В осаде же сидела нечисть бывалая и
самоотверженная, братья Разбойники
сидели, Соловей Одихмантьевич и Лягва
Одихмантьевич, с ними – Лихо
Одноглазое, а также союзный злой дух
Кончар по прозвищу Прыщ. И Годзилла,
естественно, пострадал через дурость свою
и жадность. Вначале, правда, ему повезло
осилить Кончара, скорбного в тот день
вирусным гриппом, и в Плюнь-Ядовитую
алчно ворвался Годзиллов прихвостень
Вампир Беовульф, который, впрочем, тут
же прекратил военные действия и занялся
пьянством и грабежами. Однако это был
первый и единственный успех Годзиллы за всю кампанию. Соловей
Одихмантьевич на пороге Аукалки дрался бешено и весело, не
отступая ни на шаг, Лягва Одихмантьевич по малолетству отдал было
первый этаж Кикиморы, но на втором закрепился, раскачал башню и
обрушил ее вместе с собою на атаковавшую его голову в тот самый
момент, когда хитрое и хладнокровное Лихо Одноглазое, заманившее
правофланговую голову в селитряные подвалы Уголовницы, взорвало
башню на воздух со всем содержимым. Лишившись половины голов, и
без того недалекий Годзилла окончательно одурел, пометался по
крепости, давя своих и чужих, и, брыкаясь, кинулся в отступ. На том
бой и кончился. Захмелевшего Беовульфа Соловей Одихмантьевич
прикончил акустическим ударом, после чего сам скончался от
множественных ожогов. Уцелевшие ведьмы, лешие, водяные, аукалки,
8

кикиморы и домовые перебили деморализованных вурдалаков,
троллей, гномов, сатиров, наяд и дриад и, лишенные отныне
руководства, разбрелись в беспорядке по окрестным лесам. Что же
касается дурака Годзиллы, то его занесло в большое болото,
именуемое ныне Коровьим Вязлом, где он вскорости и подох от
газовой гангрены.
– Любопытно, – проговорил Эдик, разглядывая из-под ладони
заросшие серые глыбы Аукалки и Плюни-Ядовитой. – А вход туда
свободный?
– Свободный, – ответил Роман. – За
пятачок.
– Жалко, – сказал Эдик. – Не успею я
туда сходить.
Роман промолчал, а Витька Корнеев,
отвлекшись от черных мыслей, посмотрел на
Эдика с состраданием.
– А вот это блюдце? – спросил Эдик. –
Это наше блюдце?
– Наверное, – сказал Роман. – Колонист
какой-нибудь упражняется. Чтобы навыков
не растерять.
– А где сама Колония?
– В городском парке, вон на том конце
города.
– Сходим? – предложил Эдик.
– Успеется, – сказал Роман.
Эдик посмотрел на часы.
– Четыре часа уже, – сказал он озабоченно. – До приема остается
всего час, но, может быть, успеем? А то пока разговоры, пока бумаги
подпишут…
– Пока тебе подпишут здесь бумаги, шляпа ты фетровая, – сказал
грубый Корнеев, – и пока кончатся все разговоры, ты здесь и
накупаешься, и назагораешься, и на лыжах находишься, и женишься, и
разведешься (Эдик посмотрел на него с изумлением), от Колонии тебя
будет тошнить, от этих дурацких развалин тебя будет рвать…
– Что это с ним? – спросил Эдик, обращаясь к Роману. Роман, не
говоря ни слова, повалился на спину и задрал ногу на ногу. Тогда
Эдик поглядел на меня. Глаза у него были такие чистые, такие
наивные, и весь он был такой нездешний, такой уверенный в
9
могуществе разума, такой свеженький из своего отдела Линейного
Счастья, еще пахнущий яблоками и детским смехом, такой
избалованный – избалованный дружбой с умными и добрыми людьми,
избалованный рациональностью и справедливостью, избалованный
горним воздухом чистого знания… Витька и Роман тоже были такими
две недели назад.
– Эдик, – ласково сказал я. – Ты намерен, я вижу, сегодня же
вечером вернуться в Институт?
– Да, – сказал Эдик. – А что?
– И времени у тебя нет, не так ли? Вся аппаратура готова, а завтра,
прямо с утра, ты хочешь начать?
– Естественно…
– И тебе так не терпится начать, что ты просто не можешь
позволить себе остаться здесь еще хотя бы на день, чтобы осмотреть
Колонию?
– Д-да… Вообще-то, я бы с удовольствием, но… В чем дело?
– А внимательно осмотреть крепость? – спросил я.
– А поискать зубы Годзиллы, выбитые Соловьем
Одихмантьевичем? – предложил Роман.
– И еще девочки, – сказал Витька с горечью. – Ух, какие девочки в
Китежграде!
– Я не понимаю, ребята, – сказал Эдик. От обиды у него даже
припухла нижняя губа. – Не смешно.
– Ты еще не знаешь, до чего все это не смешно, – сказал Роман. –
Тебе вот даже не пришло в голову спросить, почему мы сидим здесь
так долго – Саша уже второй месяц, а мы с Витькой третью неделю.
Уж не стал ли ты, чего доброго, эгоистом?
– Ну как – почему… У Саши дела на заводе…
– А мы с Витькой?
– Н-ну… ну, я не знаю… В конце концов, почему я должен был об
этом думать?
– Эгоист! – сказал Роман, с грустью укрепляясь в этом ужасном
предположении относительно Эдика. – Федя, полюбуйтесь,
пожалуйста. Вот это – эгоист. Видите, как выглядит эгоист?
Федя вздрогнул, поглядел на Эдика поверх газеты, мучительно
засмущался и, поскольку обе руки у него были заняты, в полном
смятении задрал правую ногу, снял пенсне и принялся тереть линзы о
штанину.
– По-моему… – пробормотал он. – Нет… Эгоист… Не может
10
быть… Как же так…
– Спасибо, Федя, – сказал вежливый Эдик. – Это была шутка. – Он
оглядел нас. – Вы хотите сказать, что здесь имеет место
бюрократическая волокита, из-за которой я вынужден буду
задержаться?
– Нет, – сказал я. – Нашей простой, многократно описанной и
разоблаченной бюрократической волокитой здесь, к сожалению, и не
пахнет.
– Волокита! – презрительно сказал Витька и сплюнул сквозь зубы
на одуванчик.
Одуванчик увял.
– Волокита… – мечтательно произнес Роман. – Волокита, Эдик,
это, в сущности, прекрасно. Несешь, бывало, на подпись что-нибудь
исходящее, а бухгалтер, шалун этакий, посылает тебя за визой к
директору… Идешь к директору, а у директора, естественно,
совещание, надобно подождать, садишься в кожаные кресла,
пощебечешь с референтом, полистаешь газету, а там, глядишь, и
совещание закончилось, – возвращаешься к бухгалтеру, а бухгалтер,
шалунишка, на обеде… Садишься в кожаные кресла, пощебечешь со
счетоводом…
– Золотые люди, – сказал Витька. – День-два, и все готово…
– А здесь? – спросил Эдик с интересом.
– А здесь, Эдик, – сказал я, – ничего этого и в заводе нет. Здесь у
нас – ТПРУНЯ!
– Ну и что же? Я знаю.
– Ты знаешь, что такое ТПРУНЯ? – осведомился Роман.
– Знаю. Тройка По Распределению и Учету Необъяснимых
Явлений.
Витька хрипло захохотал.
– Да, – сказал Роман, качая головой. – Распределение, значит, и
Учет. И как же ты себе это представляешь?
Эдик пожал плечами.
– Я никак это себе не представляю. Зачем? Два месяца назад я
подал заявку. Месяц назад меня любезно известили о том, что моя
заявка зарегистрирована. Сегодня мне понадобился экспонат из
Колонии необъясненных явлений, и я за ним прибыл. Вот и все.
– Шалунишки! – вскричал вдруг Панург. – Учетчики-бухгалтеры!
А между прочим, матриархат имеет свои преимущества! В
Центральном московском бассейне некий гражданин повадился
11

подныривать под купальщиц и хватать их за ноги. И вот одна из
купальщиц, изловчившись, саданула его, нахального,
ногой по голове. – Панург захохотал во все горло. – Она
попала ему по челюсти, а сама вышла и отправилась
одеваться. Проходит время, а нахального гражданина
нет и нет. Вытащили его… – Панург снова захохотал. –
Вытащили они его… – Панург еле говорил от смеха. –
Вытащили, понимаете, они его, а он уже холодный! И
челюсть сломана…
Все мы, кроме Эдика, тоже не могли удержаться от
жуткого смеха, хотя я ощутил некий озноб, Роман
побледнел лицом, а по шерстистому загривку Феди
прошла волна. Витька же, отсмеявшись, сплюнул на анютины глазки и
спросил Эдика:
– Понял?
– Не совсем, – сказал Эдик, рассматривая Панурга, утиравшего
глаза шутовским колпаком.
– Не смешно тебе? – спросил Витька.
– Честно говоря, нет, – ответил Эдик.
– Ничего, привыкнешь, – пообещал Витька. – Время у тебя еще
есть.
– Да, – сказал Роман. – Время у тебя теперь есть. Никогда в жизни
не было у тебя так много времени. И я сейчас объясню тебе, почему.
ТПРУНЯ, Эдик, это не Тройка По Распределению и Учету. ТПРУНЯ,
Эдик, это Тройка По Рационализации и Утилизации.
– Ну и что же? – спросил Эдик.
– Он воображает, будто ТПРУНЯ – это что-то вроде
кладовщика, – с сожалением сказал Роман, обращаясь ко мне и к
Витьке. – Он воображает, будто стоит ему принести накладную, как он
тут же получит все, что ему положено… Что есть ТПРУНЯ? –
осведомился он, обращаясь в пространство.
Я немедленно откликнулся:
– ТПРУНЯ есть авторитетный административный орган,
неукоснительно и неослабно выполняющий свои функции и никогда
не подменяющий собою других административных органов.
– Понял? – сказал Витька Эдику. – Кладовщик – это кладовщик, а
ТПРУНЯ – это ТПРУНЯ.
– Позвольте, – сказал Эдик, но Роман продолжал:
– Что есть Рационализация?
12
– Рационализация, – мрачно ответствовал Витька, – это такая
поганая дрянь, когда необъясненное возвышается или низводится
авторитетными болванами до уровня повседневщины.
– Однако позвольте… – сказал смущенный Эдик.
– А что есть Утилизация? – вопросил Роман.
– Утилизация, – сказал я Эдику, – есть признание или же
категорическое непризнание за рационализированным явлением права
на существование в нашем бренном реальном мире.
Эдик опять попытался что-то сказать, но Роман упредил его:
– Могут ли решения Тройки быть обжалованы?
– Да, могут, – сказал я. – Но результаты не воспоследуют.
– Как мордой об стол, – разъяснил Корнеев.
Эдик безмолвствовал. Выражение решительности и готовности к
благородному протесту медленно сползало с его лица.
– Авторитетны ли для Тройки, – тоном провинциального адвоката
спросил Роман, – рекомендации и пожелания заинтересованных лиц?
– Нет, не авторитетны, – сказал я. – Хотя и рассматриваются. В
порядке поступления.
– Что есть заинтересованное… – начал Роман, но Эдик перебил
его.
– Неужели Печать? – спросил он с ужасом.
– Да, – сказал Роман. – Увы.
– Большая?
– Очень большая, – сказал Роман.
– Ты такой еще не нюхивал, – добавил Витька.
– И круглая?
– Зверски круглая, – сказал Роман. – Никаких шансов.
– Но позвольте, – сказал Эдик, с видимым усилием стараясь
подавить растерянность. – Если, скажем… скажем, оквадратить?
Скажем… э-э… преобразование Киврина – Оппенгеймера?..
Роман покачал головой.
– Определитель Жемайтиса равен нулю.
– Ты хочешь сказать – близок к нулю?
Витька неприятно заржал.
– А то бы мы без тебя не догадались, – сказал он. – Равен, товарищ
Амперян! Равен!
13

– Определитель Жемайтиса равен нулю, – повторил Роман. –
Плотность административного поля в каждой доступной точке
превышает число Одина, административная устойчивость абсолютна,
так что все условия теоремы о легальном воздействии выполняются…
– И мы с тобой сидим в глубокой потенциальной галоше, –
закончил Витька.
Эдик был раздавлен. Он еще шевелил лапками, поводил усами и
топорщил надкрылья, но это были уже
чисто рефлекторные действия. Некоторое
время он открывал и закрывал рот, потом
выхватил из воздуха роскошный блокнот с
золотой надписью «Делегату городской
профсоюзной конференции» и принялся
бешено строчить в нем, ломая и
нетерпеливо восстанавливая грифель, потом
вновь растворил в воздухе канцелярские
принадлежности и принялся без всякого
аппетита покусывать себе пальцы,
бессмысленно тараща глаза на мирный
пейзаж за рекой. Все молчали. Роман лежал
на спине, задрав ногу на ногу, и, казалось,
спал. Витька, вновь погрузившись в океан
черных замыслов, шумно сопел и оплевывал
окружающую натуру ядовитой слюной. Не вынеся этого
душераздирающего зрелища, я отвернулся и стал смотреть, как Федя
читает.
Федя был существом мягким, добрым и деликатным, и он был
очень упорен. Чтение давалось ему с огромным трудом. Любой из нас
уже давно бы отказался от дела, требующего таких усилий, и признал
бы себя бесталанным и негодным. Но Федя был существом другой
породы. Он грыз гранит, не жалея ни зубов, ни гранита. Он медленно
вел палец по очередной строчке, подолгу задерживаясь на буквах «щ»
и «ъ», трудолюбиво покряхтывал, добросовестно шевелил большими
серыми губами, длинными и гибкими, как у шимпанзе, а наткнувшись
на точку с запятой, надолго замирал, собирал кожу на лбу в гармошку
и судорожно подергивал далеко отставленными большими пальцами
ног. Пока я смотрел на него, он добрался до слова
«дезоксирибонуклеиновая», дважды попытался взять его с налету, не
преуспел, применил слоговый метод, запутался, пересчитал буквы,
14
затрепетал и робко посмотрел на меня. Пенсне косо и странно сидело
на его широкой переносице.
– Дезоксирибонуклеиновая, – сказал я. – Это такая кислота.
Дезоксирибонуклеиновая.
Он, жалко улыбаясь, поправил пенсне.
– Кислота, – повторил он перехваченным голосом. – А зачем она
такая?
– Иначе ее никак не назовешь, – сочувственно сказал я. – Разве
что сокращенно – ДНК… Да вы это пропустите, Федя, читайте
дальше.
– Да-да, – сказал он. – Я лучше пропущу… Саша, что такое
детский сад?
– Детский сад? Детский сад… – Я подумал. – Детским садом
называется организация, которая заботится о детях дошкольного
возраста, пока родители заняты на производстве.
– Спасибо, Саша, – сказал Федя, и по его тону я понял, что он не
удовлетворен.
– А что там написано? – спросил я.
– «У меня аптека, а не детский сад…» – по слогам прочитал Федя.
– Ясно, – сказал я. – Заведующий китежградской аптекой
подвергается принципиальной критике за то, что препятствует
выдвижению молодых кадров. Так?
– Кажется, так, – сказал Федя неуверенно. – Но я все равно не
понимаю… Аптека – это магазин, где продают лекарства… Вы знаете,
Саша, я стал понимать даже хуже, чем раньше. Он что хотел сказать,
что не хочет продавать лекарства детям дошкольного возраста, пока
их родители заняты на производстве? Тогда он прав, они же
маленькие, не понимают… А молодые кадры – это просто молодые
люди… Да, правильно, здесь есть такое слово. Кад-ры. Вот оно. Нет,
не понимаю.
– Заведующий хотел сказать, – пояснил я, – что ему в аптеке
нужны опытные работники, а не молодые люди, которых он
фигурально сравнивает с детьми дошкольного возраста.
– А, – сказал Федя. – Тогда другое дело. Как же можно
сравнивать? Тогда он не прав. Молодые люди – скажем, вы, Саша, –
это одно, а маленькие дети – это совсем другое. Правильно его
критикуют. Я, знаете ли, тоже не люблю, когда человек хочет сказать
одно, а говорит совсем другое. Помните, когда Говорун назвал
Спиридона старой дубиной? Зачем? Ведь Говорун хотел сказать, что
15

Спиридон недостаточно понятлив, и хотя это тоже совершенно
неправильно, потому что Спиридон, по-моему, самый понятливый из
нас, что в общем неудивительно, если учесть, сколько ему лет, но
совсем уж непонятно, почему нельзя было
именно так и выразиться, не прибегая к
уподоблению
такому
совершенно
постороннему, решительно не имеющему к
делу никакого отношения веществу, как
дерево. Или я ошибаюсь? – Он с некоторой
тревогой наклонился и заглянул мне в
глаза.
Я открыл было рот, но тут представил
себе, в какие дебри нам придется
забираться, как трудно будет объяснить,
что такое метафоры, иносказания,
гиперболы и просто ругань, и зачем все это
нужно, и какую роль здесь играют
воспитание, привычки, степень развитости
языка, эмоции, вкус к слову, начитанность
и общий культурный уровень, чувство юмора, такт, и что такое юмор,
и что такое такт, и представив себе все это, я ужаснулся и горячо
сказал:
– Вы совершенно правы, Федя.
Он снова принялся читать, а я смотрел на него и думал, какой же
чудовищной мощью должна обладать Большая Круглая Печать, если
одного прикосновения ее к бумаге оказалось достаточно для того,
чтобы навеки закабалить этого свободолюбивого снежного человека,
этого доброго и деликатного владыку неприступных вершин и
превратить его в вульгарный экспонат, в наглядное пособие для
популярных лекций по основам дарвинизма. Потом я услышал
осторожное кваканье и обернулся. Кузька был, конечно, тут как тут.
Он сидел на крыше заводского управления и робко поглядывал в нашу
сторону. Я помахал ему и поманил его пальцем. Он, как всегда,
страшно смутился и попятился. Я призывно похлопал ладонью по
траве возле себя. Кузька смутился окончательно и спрятался за
вытяжную трубу. Я пригорюнился и, подперев подбородок ладонью,
стал смотреть на груду бракованных волшебных палочек, сваленных у
забора среди прочего металлолома.
Из столовой вышла компания молоденьких работниц. Завидев
16
Федю, они принялись поправлять платочки и взбивать прически,
размахивать ресницами, перехихикиваться и совершать прочие
обыкновенные для их возраста действия. Федя дернулся, чтобы
удрать, но сдержался и, потупившись, стал щипать рыжую шерсть у
себя на левом предплечье. Девушки это сейчас же заметили и затянули
частушку матримониального содержания. Федя жалобно улыбался.
Девушки стали его окликать и приглашать вечером на танцы. Федя
вспотел. Когда компания прошла, он судорожно перевел дыхание и
сразу перестал улыбаться.
– Вы, Федя, пользуетесь успехом, – сказал я не без некоторой
зависти.
– Да, это очень меня мучает, – произнес Федя. – Вы меня не
поймете. У вас тут совсем иные порядки. А ведь у нас в горах
матриархат… Я не привык… Это совершенно невыносимо, когда на
тебя обращает внимание столько девушек сразу. У нас такое
положение грозило бы многими бедами… Впрочем, у нас это
невозможно.
– Ну, у нас это тоже бывает только в исключительных случаях, –
возразил я. – И потом они больше шутили, чем что-нибудь серьезное.
Витька вдруг рявкнул:
– Хватать и тикать. Плевал я на них на всех. Подумаешь, Печать…
В первый раз, что ли…
– Главное в нашем положении, – сказал Роман, не открывая глаз, –
это спокойствие. Выдержка и ледяное хладнокровие. Надо искать
пути.
– Главное в нашем положении – вовремя рвануть когти, –
возразил Корнеев. – Унося что-нибудь в клюве при этом, – добавил он.
– Нет-нет, – встрепенулся Эдик. – Нет! Главное в нашем
положении – не совершать поступков, которых мы потом будем
стыдиться.
Я посмотрел на часы.
– Главное в нашем положении – не опоздать к началу заседания.
Лавр Федотович очень не одобряет опозданий.
Мы встали. Федя из вежливости тоже встал. Когда мы выходили
из скверика, я обернулся. Федя уже снова читал. А Кузька сидел рядом
с ним и пробовал на зуб шапочку с бубенцами, которую часто
оставлял после себя Панург.
17

ГЛАВА ВТОРАЯ
Ровно в пять часов мы перешагнули
порог комнаты заседаний. Как всегда, кроме
коменданта Колонии, никого еще не было.
Комендант сидел за своим столиком, держал
перед собой раскрытое дело и аж
подсигивал от нетерпеливого возбуждения.
Глаза у него были как у античной статуи, а
губы непрерывно двигались, словно он
повторял в уме горячую защитительную
речь. Нас он не заметил, и мы тихонько
расселись на стульях вдоль стены под
табличкой «Представители». Роман сразу же
принялся орудовать пилочкой для ногтей.
Витька засунул руки в карманы и выставил
ноги на середину комнаты. Эдик, усевшись
в изящной позе, осторожно озирался. Он
скользнул равнодушным взглядом по демонстрационному столу
прямо перед входом, по маленькому столику с табличкой «Научный
консультант», с некоторым беспокойством задержал взгляд на
огромном, под зеленой суконной скатертью столе для Тройки и, все
более беспокоясь, принялся изучать увлеченного коменданта,
полускрытого горой канцелярских папок. Вид чудовищного
коричневого сейфа, мрачно возвышавшегося в углу позади
коменданта, поверг его в первую панику, а когда он поднял глаза и
обнаружил на стене необъятный кумачовый лозунг «Народу не нужны
нездоровые сенсации. Народу нужны здоровые сенсации», лицо его
так переменилось, что я понял: Эдик готов.
Именно в этот момент, вероятно, комендант вдруг ощутил, что в
комнате присутствует нечто, не прошедшее должной проверки и оной
подлежащее. Он встрепенулся, повел большим носом и обнаружил
Эдика.
– Посторонний! – произнес он со странным выражением.
Эдик встал и поклонился. Комендант, не спуская с него
напряженного взора, вылез из-за стола, сделал несколько крадущихся
18
шагов и, остановившись перед Эдиком, протянул руку. Эдик пожал
эту руку и представился: «Амперян». Затем он отступил и поклонился
снова. Потрясенный комендант несколько мгновений стоял в прежней
позе, а затем поднес ладонь к лицу и недоверчиво осмотрел ее. Затем
он с беспокойством, как бы ища оброненное, оглядел пол у своих ног.
– Здорово, Зубо, – сказал грубый Корнеев. – Эдик, это Зубо. Дай
ему документы, а то его сейчас кондрат хватит.
Витька был недалек от истины. Комендант, болезненно улыбаясь,
продолжал лихорадочно озираться. Эдик торопливо сунул ему свое
удостоверение. Комендант ожил. Действия его стали осмысленными.
Он пожрал глазами сначала фотографию на документе, а на закуску
глазами же пожрал самого Эдика. Явное сходство фотографии с
оригиналом привело его в восторг.
– Очень рад! – воскликнул он. – Зубо моя фамилия. Комендант я.
Представитель, так сказать, городской администрации. Устраивайтесь,
товарищ Амперян, располагайтесь, нам с вами еще работать и
работать…
Он вдруг замолчал и рысью кинулся на свое место. И вовремя. В
приемной послышались шаги, голоса, кашель, дверь распахнулась,
движимая властной рукой, и в комнате появилась Тройка в полном
составе – все четверо – плюс научный консультант профессор
Выбегалло. Лавр Федотович Вунюков, ни на кого не глядя,
проследовал на председательское место, сел, водрузил перед собой
огромный портфель, с лязгом распахнул его и принялся выкладывать
на зеленое сукно предметы, необходимые для успешного
председательствования: номенклатурный бювар крокодиловой кожи,
набор шариковых авторучек в сафьяновом чехле, коробку
«Герцеговины Флор», зажигалку в виде триумфальной арки и
призматический театральный бинокль.
Отставной полковник мотокавалерийских войск, брякнув
медалями, устроился справа от Лавра Федотовича, высоко задрал
седые брови и, придав таким образом своему лицу выражение
бесконечного изумления и неодобрения, мирно заснул.
Рудольф же Архипович Хлебовводов, еще более пожелтевший и
усохший за минувшие три часа, сел ошую Лавра Федотовича и
принялся немедленно что-то шептать ему в ухо, бесцельно при этом
бегая воспаленными, с желтизной глазами по углам комнаты.
Фарфуркис по обыкновению не сел за стол. Он демократически
устроился на жестком стуле напротив коменданта, вынул толстую
19

записную книжку в дряхлом переплете и сразу же сделал в ней
пометку.
Никто из членов Тройки не обратил на нас, по-видимому,
никакого внимания. А научный консультант профессор Выбегалло
обратил. Он равнодушно оглядел нас, сдвинул брови, поднял на
мгновение глаза к потолку, как бы пытаясь припомнить, где это он нас
видел, не то припомнил, не то не припомнил, уселся за свой столик и
принялся деятельно готовиться к исполнению своих ответственных
обязанностей. Перед ним появился первый том «Малой Советской
Энциклопедии», затем второй том, затем третий, четвертый…
– Грррм, – произнес Лавр Федотович и обвёл присутствие
взглядом, проникающим сквозь стены и видящим насквозь. Все были
готовы: полковник спал, Хлебовводов нашептывал, Фарфуркис сделал
вторую пометку, комендант, похожий на школьника перед началом
опроса, судорожно листал страницы дела, а Выбегалло положил перед
собой шестой том. Что же касается представителей, то есть нас, то мы
значения не имели. Я посмотрел на Эдика и поспешно отвернулся.
Эдик был близок к полной деморализации
– появление Выбегаллы его доконало.
– Вечернее заседание Тройки объявляю
открытым, – сказал Лавр Федотович. –
Следующий! Докладывайте, товарищ Зубо.
Комендант вскочил и, держа перед
собой раскрытую папку, начал было
высоким голосом: «Машкин Эдельвейс
Захарович…», но его тут же перебил
бдительный Фарфуркис.
– Протестую! – крикнул он, обращаясь
к Лавру Федотовичу. – Где порядковый
номер дела? Почему не поименованы
пункты?
Лавр Федотович повернул голову и
некоторое время рассматривал коменданта.
– Правильное обобщение, верное, –
произнес он наконец. – Поименуйте, товарищ Зубо.
Комендант с бумажным шорохом облизнул сухим языком сухие
губы и начал снова, но теперь уже голосом низким и как бы севшим:
– Дело номер сорок второе. Фамилия: Машкин. Имя: Эдельвейс.
Отчество: Захарович…
20

– С каких это пор он Машкиным заделался? – брюзгливо спросил
Хлебовводов. – Бабкин, а не Машкин! Бабкин Эдельвейс Петрович. Я
с ним работал в одна тысяча девятьсот сорок седьмом году в Комитете
по молочному делу. Эдик Бабкин, плотный такой мужик, сливки очень
любил… И, кстати, никакой он не Эдельвейс, а Эдуард. Эдуард
Петрович Бабкин…
Лавр Федотович медленно обратил к нему каменное лицо.
– Бабкин? – произнес он. – Не помню… Продолжайте, товарищ
Зубо.
– Отчество: Захарович, – дергая щекой, повторил комендант.
– Год и место рождения: тысяча девятьсот первый, город
Смоленск. Национальность…
– Э-дуль-вейс или Э-доль-вейс? – спросил Фарфуркис.
– Э-дель-вейс, – сказал комендант.
– Дивизия СС «Эдельвейс», – прошамкал сквозь дрему полковник.
– Национальность: белорус. Образование: неполное среднее
общее, неполное среднее техническое. Знание иностранных языков:
русский – свободно, украинский и белорусский – со словарем. Место
работы…
Хлебовводов вдруг звонко шлепнул себя по лбу.
– Да нет же! – закричал он. – Он же помер!
– Кто помер? – деревянным голосом спросил Лавр Федотович.
– Да Бабкин этот! Я же как сейчас
помню – в одна тысяча девятьсот пятьдесят
шестом году помер он от инфаркта. Был он
тогда финдиректором Всероссийского
общества испытателей природы, пришел,
значит, в свой кабинет, сел и помер. Так что
тут какая-то путаница.
Лавр Федотович взял бинокль и
некоторое время изучал коменданта,
потерявшего дар речи.
– Факт смерти у вас отражен? –
осведомился он.
– Христом богом… – пролепетал
комендант. – Какой смерти?.. Да почему же
смерти?.. Да живой он, в приемной
дожидается…
– Одну минуточку, – вмешался Фарфуркис. – Вы разрешите, Лавр
21
Федотович? Товарищ Зубо, кто дожидается в приемной? Только
точно. Фамилия, имя, отчество.
– Бабкин! – с отчаянием сказал комендант. – То есть, что я






