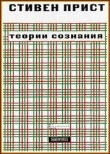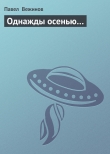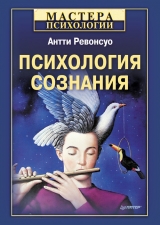
Текст книги "Психология сознания"
Автор книги: Антти Ревонсуо
Жанр:
Психология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Следовательно, отрицание существования сознания – это не то же самое, что отрицание существования флогистона; оно аналогично отрицанию того, что является доказательством горения: тепла, пламени и дыма. Разумеется, если вы сознательно откажетесь видеть эти доказательства или притворитесь, что не видите их, а также откажетесь признавать факт существования горения, тогда вам не нужно объяснять его. Отрицание данных, которые доступны всем, не может убедить никого.
Как можно воспринять всерьез элиминативную точку зрения, не говоря уже о том, чтобы защищать ее? Чтобы ответить на этот вопрос, нам придется углубиться в такие понятия, как «наука» и «информация». Согласно традиционному представлению естественных наук, в качестве источников информации рассматриваются только те явления, за которыми можно наблюдать объективно или открыто. За нашей субъективной психологической реальностью нельзя наблюдать ни одним из этих способов; можно наблюдать только за активностью мозга и поведением. Результаты объективных наблюдений за мозгом и поведением не выявляют где-либо внутри нас ничего похожего на сознание, на субъективный «мир» переживаний. Сознание открывается нам только внутри нас, когда мы выступаем в роли субъектов переживаний в собственном сознании. Процесс обладания переживаниями – существование сознания – ученые не могут ни увидеть, ни выявить с помощью научных инструментов, наблюдая за нами со стороны.
Естественные науки не признают «точку зрения от первого лица» валидным источником информации, поэтому есть возможность утверждать, что субъективные переживания не являются частью общей научной информации, которую должны объяснять науки. С объективной точки зрения стороннего наблюдателя сознания (как информации) не существует; существуют только поведение и активность мозга, а это значит, что нетрудно, а может быть, даже и необходимо, элиминировать сознание из науки как ошибочную гипотезу народной психологии.
Хотя с другой стороны, критики элиминативизма могут возразить, что мы не обязаны принимать точку зрения стороннего наблюдателя на естественные науки как истину в последней инстанции. Если сознание, само существование которого, согласно Декарту, не вызывает никакихсомнений, тем не менее отрицается определенной наукой, это значит, что серьезные проблемы есть у этой науки, а не у сознания. Задача науки – достоверно описывать и объяснять, как мир «работает» и из каких сущностей состоит. Если в мире существуют субъективные феномены, отрицать которые невозможно, но которые не могут быть зафиксированы и осмыслены с традиционной точки зрения естественных наук, необходимо пересмотреть эту научную точку зрения таким образом, чтобы она «прозрела» в отношении сознания. Нам нужна наука, которая признает реальность внутреннего субъективного мира и серьезно отнесется к ней. Самое малое, что может сделать наука, – перестать делать вид, будто такой реальности не существует.Итак, битва бушует, обнажая, возможно, фундаментальную причину, почему наука испытывает такие трудности с сознанием. Возможно, природа сознания несовместима с традиционной научной практикой. Возможно, кругозор наших естественных наук слишком узок. Как бы там ни было, элиминативному материализму не удается убедить нас в том, что проблему сознания можно решить, просто игнорируя ее. Самое меньшее, что следовало бы сделать элиминативному материализму, если он хочет кого-то убедить, – предложить альтернативу, чисто нейронаучную и якобы самую совершенную теорию без каких бы то ни было ссылок на сознание, которая откроет нам глаза на то, как «работает» фактическая реальность. В химии все отказались от флогистона и больше не возвращались к нему после того, как была убедительно доказана функция кислорода. Я полагаю, что все точно так же откажутся и от сознания, если сторонники элиминативизма предложат подробную и убедительную теорию, которая ответит на все наши вопросы о душе и мозге, заменив сознание чем-нибудь другим. Но до тех пор, пока не появится подобная альтернативная теория, элиминативный материализм остается отчаянной попыткой отрицать существование проблемы вместо того, чтобы предложить ее достойное решение.
Редуктивный материализм
В отличие от элиминативного материализма редуктивный материализм хотя бы признает существование осознанных ментальных явлений. Говоря о существованиисознания, мы не совершили ошибки. Но мы допустилисерьезную ошибку, полагая, что сознание и мозг представляют собой две совершенно разныесущности. На самом деле это не так. Сознание и мозг – это одно и то же. Поэтому редуктивный материализм утверждает, что само по себе сознание – заурядная физическая сущность или процесс, происходящий в мозге, отличные от всех прочих известных нам физических сущностей и мозговых процессов. Следовательно, мы ошиблись только относительно базовой природы сознания, а не самого факта его существования.
Соответственно редуктивный материализм признает существование осознанных ощущений, восприятия, эмоций, мыслей и т. д., имеющих место в наших головах. Существует и субъективная психологическая реальность. Однако редуктивный материализм не признает того, что субъективная психологическая реальность есть нечто, отличное от мозга – от объективной нейронной реальности. Наша обиходная идея о том, что это не одно и то же, не более чем иллюзия. Сознание – это процесс,протекающий в мозге, и больше ничего. Сознание идентичночереде состояний нейронной активности. Иными словами, сознание может быть редуцировано(низведено) до мозга.
Современная идея редукции сознание-мозг была впервые сформулирована в середине XX века философами Уллином Т. Плейсом и Дж. Дж. Смартом, связавшими ее с более общими редукционистскими идеями, которые были популярны в то время в философии: с моделью интертеоретической редукции Эрнста Нейджела и с дедуктивно-номологической моделью Карла Хемпеля. В более позднее время Джагвон Ким (Jaegwon Kim, 1998, 2005) переформулировал идеи физикалистской редукции сознание-мозг, чтобы они лучше соответствовали тому, что происходит в естественных науках, когда что-то объясняется. Хотя Ким защищает исключительно физикалистский и редукционистский взгляд на сознание, он является автором модной среди нынешних философов точки зрения, суть которой заключается в том, что хотя остальную часть ментальности можно легко редуцировать до мозга, или «физикализировать», этой участи избегает лишь одно сознание, которое представляется нередуцируемым.
Редуктивный материализм, подобно элиминативному материализму, как правило, прибегает к аргументам, почерпнутым из истории науки. Теории, описывающие явления одного типа, иногда успешно превращались в более общие теории, описывающие явления другого рода. Сторонники редуктивного материализма надеются, что подобное в скором времени произойдет и на границе нейронауки и психологии.
В истории науки известны несколько случаев, когда старый термин, возможно, возникший в «народной психологии» и в разговорной речи, был заменен научным термином, обозначавшим то же самое, но с другим описанием. Разговорный термин «свет» (видимый) был заменен научным термином «электромагнитные волны определенной длины» (к которым восприимчив человеческий глаз). Разговорное понятие «вода» было заменено химической формулой «H2O», понятие «тепло» (или «температура» твердого тела) было заменено понятием «средняя кинетическая энергия молекул». Иными словами, «свет», «температура» и «вода» оказались не чем иным, как некоторыми физическими сущностями, описанными и объясненными физикой. Следовательно, «свет» можно идентифицировать с определенным спектром электромагнитной энергии, а воду – с некоторым химическим веществом. Короче говоря: «вода = H2O».
В философии науки подобное тождество названий («X=Y»)сущностей старой теории и сущностей новой, более сложной, теории считается критически важными шагами в превращении старой теории в новую. (Вследствие этого в философии редуктивный материализм также называется «теорией идентичности» или «теорией идентичности моделей»). Тождество определений называется также «законами моста», или «принципами моста». Это название связано с тем, что, допустим, утверждение «вода=Н20» воспринимается как «закон» (природы), и этот закон, или принцип, создает мост от старого к новому, от узкого понятия к более широкой и сложной научной концепции сущностей, о которых идет речь. После того как такие мосты возведены, старые понятия и вся старая теория могут быть отброшены и все явления, которые когда-то описывались старой теорией, отныне могут описываться и объясняться более точно в контексте новой, более широкой, базовой теории.
Редуктивный материализм как теория сознания основан на надежде, что то, что справедливо в отношении развития физической науки, справедливо и для науки вообще и для пограничной области между нейронаукой и психологией в частности. Психологическая теория и описание осознанных ментальных явлений на субъективном психологическом уровне воспринимаются как «устаревшая», узкая концепция, на смену которой должна прийти более фундаментальная и сложная научная база, выработанная нейронаукой (рис. 1.4).
В «старой» народной теории осознанные ощущения, восприятие и мысли описываются разговорным языком. Например: «Я вижу синее», «Мне больно» или «Я думал, что вижу сон». Хотя описываемые таким образом ментальные события реальны и действительно существуют, они не то, что представляется нам с нашей субъективной точки зрения. На самом деле они – исключительно состояния нейронов. Каждый вид осознанных ментальных событий (восприятие синего цвета, восприятие красного цвета, восприятие зеленого цвета…) соответствует определенному типу нейронной активности, который в будущем предстоит открыть нейронауке, или идентичен ей. Следовательно, если мечта сторонников редуктивного материализма осуществится, в один прекрасный день конкретные субъективные переживания будут приравнены к определенным нейронным состояниям. Возможно, мы узнаем, что зрительное переживание, связанное с восприятием синего цвета, на самом деле не что иное, как «результат воздействия электромагнитной (световой) волны с частотой 40 герц на зону V4 зрительной коры»,восприятие красного цвета – «результат воздействия электромагнитной (световой) волны с частотой 42 герца на зону V4 зрительной коры»,а восприятие зеленого цвета – «результат воздействия электромагнитной (световой) волны с частотой 44 герца на зону V4 зрительной коры».Тогда мы сможем заменить старомодные, неточные, разговорные определения субъективных визуальных переживаний точными научными терминами, указывающими на нейроэлектрическое возбуждение в зрительной коре.

Рис. 1.4.Редуктивный материализмПсихологические понятия, относящиеся к осознанным переживаниям, и нейрофизиологические понятия, относящиеся к нейронной активности, – два способа описания одной и той же нейрофизиологической реальности. Нейронаука будущего сможет связать старые, туманные понятия народной психологии с новыми, точными нейрофизиологическими понятиями и, таким образом, низвести все описания сознания до описаний нейрофизиологических процессов. Следовательно, сознание будет низведено до мозга, а наука о сознании станет разделом нейрофизиологии.
Основная идея редуктивного материализма заключается в том, что сознание не является независимой,или автономной,частью (или уровнем) реальности. Следовательно, оно не является и истинно психологическойреальностью; сознание – абсолютно нейронаучная реальность, которую мы ошибочно считаем преимущественно психологической. Подобно тому как вода представляет собой лишь химическое соединение H2O и ничто другое и любая масса воды может быть редуцирована до совокупности молекул H2O без учета чего-либо «водного», так и сознание есть не что иное, как сложная совокупность нейронных процессов, протекающих в мозге, и потому может быть исчерпывающе редуцировано до этого уровня без чего бы то ни было «психологического».
Элиминативный материализм нередко путают с редуктивным материализмом, хотя разница между ними очевидна. Однако понятно, почему это происходит. Эти теории похожи друг на друга тем, что обе утверждают, что реально существуют только мозг и его нейронная активность, и когда дело доходит до описания или объяснения сознания, больше говорить не о чем. В известном смысле обе эти теории стараются избавиться от сознания, или от психологического уровня реальности, принимая во внимание лишь нейрофизиологический и другие уровни, описываемые нейронаукой. Отличаются они только тем, как они «отбрасывают» психологическую реальность. Элиминативный материализм утверждает, что в природе не существуетреального явления такого уровня, которое соответствовало бы сознанию. Осознанные ментальные явления – это явления того же порядка, что каналы на Марсе, Лохнесское чудовище, визиты инопланетян и эльфы. Все они представляют собой явления, в которые многие когда-то верили, но научный прогресс опроверг их существование. В отличие от элиминативного материализма редуктивный материализм не сомневается в существовании сознания, но скорее признает, что, переживая субъективные осознанные состояния, мы находимся в контакте с чем-то реально существующим. Мы ошибаемся, полагая, что это «что-то» существует на отдельном, чисто психологическомуровне реальности и представляет собой чисто психологическиеявления, кардинально отличающиеся от физических и нейронных явлений. По мере того как наука будет двигаться вперед, станет ясно, что это лишь особый тип нейронных явлений, в которых нет ничего специфически «психологического».
Складывается впечатление, что в обоих случаях выбрасывается или остается необъясненным критически важный аспект нас самих, или, возможно, сама суть нашего селф. Возможно, в редуктивном материализме это не так очевидно, как в элиминативном. Тем не менее кажется очевидным, что говорить о возбуждении нейронов, активации и дезактивации в разных зонах мозга или о синхронности колебаний нейрональных ансамблей – вовсе не то же самое, что говорить о чувстве боли, восприятии цвета, страстных чувствах или внутренних мыслях, и никогда не будет тем же самым. Что в первую очередь не принимается во внимание, так это субъективный аспект осознанных ментальных событий. Субъективный аспект касается того, что значит переживать или испытыватьподобные осознанные события, что значит ментальная жизнь для субъекта или для организма,обладающего сознанием.
Действительно, и элиминативный и редуктивный материализм полностью игнорируют субъективный, качественный аспект ментальной жизни. Именно это и является принципиальной причиной, почему они подвергаются суровой критике и считаются философскими теориями сознания, не имеющими будущего. Фактически современная волна исследований сознания родилась из критики философских теорий сознания, отрицающих или игнорирующих субъективную психологическую реальность. Казалось, эти теории даже не осознавали, как много они теряют, вплоть до 1974 года, когда философ Томас Нейджел опубликовал ставшую впоследствии классической статью «Каково быть летучей мышью?», в которой показал, что популярная в то время редукционистская теория сознания не только не может объяснить субъективный, качественный аспект души – сознание, но даже не принимает его во внимание.
Микрофизикализм: крайний редукционизм
В философии науки взгляд редуктивного материализма на сознание связан с более широким взглядом на мир, который пытается дать его грандиозную унифицированную картину. Идея заключается в том, что все науки (или все научные теории), описывающие разные аспекты материального мира, – физика, химия, биохимия, биология, нейронауки, – в один прекрасный день окажутся редуктивно связанными друг с другом. Иными словами, нейронаука будет сведена к биологии клетки и молекулярной биологии, которые будут сведены к биохимии и химии, которая в свою очередь сведется к физике, а физика в конечном итоге сведется к микрофизике, описывающей базовые физические законы и «строительный материал» физической Вселенной: элементарные частицы, фундаментальные физические силы, квантовую теорию и т. д. Эта крайняя форма редукционизма может быть названа микрофизикализмом.Его сторонники (часто это физики) полагают, что «реально» существует только фундаментальный, нижний уровень физической Вселенной. Все остальное – всего лишь удобная иллюзия, от которой мы, люди, страдаем, потому что не можем непосредственно воспринимать фундаментальный микроуровень, а с помощью наших несовершенных органов чувств воспринимаем лишь его грубый макрообраз. Большинство современных научных теорий – это лишь «приближения» к одной истинной микрофизической реальности, но в конечном итоге наука сможет, хотя бы принципиально, избавиться от этих приближений и сведет все к описанию событий на элементарных физических уровнях, представляющих собой единственную подлинную реальность.
Однако мы можем поспорить со сторонниками микрофизикализма, указав на то, что редукциям до предельного уровня, судя по всему, нет места даже в самих физических науках, не говоря уже о биологии, нейронауке или физиологии. Специальные науки – так или иначе – осваивают новые законы или новые сущности и причинно-следственные взаимодействия, которые просто нельзя описать языком микрофизики. Химия до сих пор существует как самостоятельная наука, она не превратилась в квантовую физику. До сих пор существует и биология клетки, она не превратилась в химию. Абсолютная редукция не представляется возможной.
Более того, мы, подобно Декарту, можем обратиться к реальности наших собственных субъективных переживаний, отрицать которую невозможно. Субъективная сенсорно-перцептивная и когнитивно-эмоциональная реальность, переживаемая нами в нашем сознании, даже отдаленно не похожа на то, что описывает микрофизика. Следовательно, мы можем сделать вывод о том, что в физическом мире, за пределами микрофизики, должна существовать по крайней мере однафизическая реальность, а именно субъективная психологическая реальность. Реальность сознания нельзя отвергнуть как иллюзию, потому что мы не можем с такой легкостью обманываться относительно существования нашего собственного сознания. Эта фундаментальная правда уже была установлена Декартом. Само по себе сознание, как мы его переживаем, не может быть и результатом некоего грубого восприятия истинной микрофизической реальности. Мы не «воспринимаем» сознание через наши органы чувств так, как мы воспринимаем палки и камни, а находимся в непосредственном контакте с реальностью сознания как таковой. Однако сознание, в том виде, в каком оно непосредственно открывается нам, нельзя ни описать, ни объяснить микрофизическими терминами. Во всяком случае, сейчас мы понятия не имеем о том, как это может быть сделано. Оно совершенно не похоже ни на квантовые волны, ни на кварки, ни на танцующие одиннадцатимерные струны, хотя физики и убеждены в том, что нижний уровень физического мира образован именно такими экзотическими микросущностями. Сторонники микрофизикализма как минимум должны объяснить нам, как они «извлекают» эмпирические качества и паттерны нашего сознания из физических теорий микроуровня. Только при этом условии микрофизикализм сможет завоевать доверие, которого ему сейчас недостает.
Если сознание представляет собой естественную часть физического мира, тогда микрофизикализм не может быть полной или окончательной правдой о физическом мире. Еще более тревожным представляется то, что сам микрофизикализм покоится на чрезвычайно шаткой основе. Физические теории, описывающие конечные микроуровни реальности, мягко говоря, поражают своей причудливостью. Они описывают реальность, не имеющую ничего общего с нашим повседневным опытом, – реальность квантовых эффектов, в которой время, пространство, причинность и даже само понятие об объективном существовании, похоже, исчезают. Почему мы должны верить в «реальное» существование только этого предельного уровня Вселенной, если на самом деле его существование представляется гораздо менее «реальным», чем существование нашего привычного макромира? Складывается впечатление, что сами реальность и существование требуют более надежных временной и пространственной шкал, которые не могут быть найдены на микрофизических уровнях. Может быть, вопреки микрофизикализму, крупномасштабный макромир на самом деле «более» реален, чем бесконечно малый микромир, существование и поведение которого пока понять невозможно.
В заключение можно отметить, что микрофизикализм оказывается беспомощным, когда мы пытаемся понять, что такое сознающий разум и как он связан с мозгом. Реальность мозга и сознания столь далека от микромира реальности, что сейчас даже не стоит пытаться связать их на этом уровне, но даже если они и будут каким-то образом связаны, трудно представить себе, как между ними может быть установлена какая-то реально объяснимая связь.
Похоже, что элиминативный материализм, редуктивный материализм и микрофизикализм считают само собой разумеющимся, что сознание, субъективная психологическая реальность, менее«реально», чем лежащая в его основе физическая реальность. Судя по всему, все три теории, и наиболее очевидно это в микрофизикализме, исходят из того, что мир в конечном итоге – физическая система, состоящая из простых, элементарных физических сущностей и базовых законов природы, управляющих их поведением, а все остальное – иллюзия человека-зрителя. В конце концов наука должна освободиться от подобных заблуждений.
Однако, по зрелом размышлении, может оказаться, что это базовое допущение ошибочно. Возможно, все наоборот, и мир по своей сути – сложная, состоящая из множества слоев система, в которой сама реальность представлена следующими друг за другом уровнями сложности, и каждый последующий уровень, конечно же, базируется на более низких уровнях, но образует собственную реальность, относительно независимую от низших уровней. Эта идея является отправной точкой эмерджентного материализма – следующей теории, с которой нам предстоит познакомиться.
Эмерджентный материализм [2]
Понятие «эмерджентность» можно определить следующим образом: когда сущности определенного типа организуются сложными способами, вовлекаясь в более совершенные причинные взаимодействия и образуя сложные структурные и функциональные целостности, в них возникают явления или свойства совершенно новоготипа, не похожие на те, что были у любой части этой системы. Явления или свойства нового типа называются эмерджентными;они возникаютиз явлений низшего уровня, которые не обладают ими отдельно от целостной системы.
Однако не любое свойство или явление, продемонстрированное крупномасштабной системой, можно считать эмерджентным. Истинное эмерджентное свойство или явление предполагает новизну: это должно быть нечто абсолютно новое, совершенно не похожее на что-либо из существующего на низших уровнях. Оно именно должно возникнуть. Следовательно, если вы возьмете килограмм песка и добавите его к такой же куче песка, вы получите большую по объему и более тяжелую кучу песка, но эта новая куча вряд ли удивит нас чем-нибудь или даст начало возникновению нового явления. Говоря о «новизне» возникшего, мы имеем в виду его непредсказуемость, неожиданность, а возможно, даже и необъяснимость. Новое свойство называется «непредсказуемым», если, исходя из того, что нам известно о низших слоях, мы не смогли предсказать или вычислить те свойства, которые были продемонстрированы системой более высокого уровня. Напротив, для нас стало большой неожиданностью наблюдать такие новые свойства, следа которых не было в исходных частях. Новые свойства «необъяснимы», если они не только удивили, но и озадачили нас и мы не можем объяснить, почему они вдруг возникли из системы. Следовательно, можно сказать, что эмерджентность более или менее загадочна для нас.Определенная таким образом эмерджентность отчасти зависит от наших прежних знаний. Если вы не очень сведущи в биологии, вам покажется чудом, что из крошечного внешне мертвого зернышка под воздействием воды и солнечного света постепенно возникает совершенно непохожий на него огромный, сложный, живой организм.

Рис. 1.5.Эмерджентный материализмКогда активность мозга достигает высокой степени сложности, возникает более высокий уровень физической реальности – сознание. Этот более высокий уровень нельзя низвести до традиционной нейрофизиологии, потому что он имеет свойства более высокого уровня (квалиа [3] ), не присутствующие ни в одной нейрофизиологической системе более низкого уровня. Тем не менее даже более высокие уровни сознания – это чисто физическое явление и часть материального мира. Нет ясности в том, можно ли появление более высокого уровня сознания объяснить на основании изучения мозга. Согласно слабой форме эмерджентного материализма, объяснение возможно. Однако согласно сильной форме эмерджентного материализма, мы никогда не поймем, как более высокий уровень реальности становится достоянием мозга.
Легко понять, почему эмерджентный материализм может весьма неплохо описывать связь между сознанием и мозгом. Мозг представляет собой чрезвычайно сложную биологическую систему состоящую из физических, химических и нейрофизиологических сущностей низшего уровня, находящихся в разнообразных причинных взаимодействиях. Действительно, судя по тому, что нам известно, человеческий мозг, возможно, – самая сложная физическая система во всей Вселенной. В нашем черепе заключены миллиарды нейронов и синапсов, системы нейромедиаторов и системы активации нейронной сети, которые вместе образуют единое целое. Следовательно, если какая-нибудь система имеет хоть какие-то эмерджентые свойства, возможно, именно человеческий мозг вследствие своей невероятной сложности – кандидат номер один на это место за «предоставление убежища истинной эмерджентности». Таким образом, эмерджентный материализм утверждает, что хотя нейроны и системы нейронной активации как таковые начисто лишены сознания, когда миллиарды нейронов объединяются в единое целое, что и происходит в мозге, из крупномасштабной нейронной активности возникает совершенно новое, непредсказуемое явление, такое как субъективное сознание (рис. 1.5).
В современной философии сознания наиболее заметным защитником эмерджентного материализма является Джон Сирл (John Searle, 1992,1997): «Все наши осознанные переживания объясняются поведением нейронов и сами представляют собой эмерджентные свойства системы нейронов» (1997, р. 22).Пока все идет нормально. Однако проблемы эмерджентного материализма начинаются тогда, когда мы рассматриваем связь между возникновением и объяснением. Можно ли иметь научное объяснениевозникновения, которое описывает именно то, чтопроисходит, когда появляются эмерджентные свойства? Складывается впечатление, что у сторонников эмерджентного материализма нет единого мнения по этому вопросу. Следовательно, мы должны различать две разные формы эмерджентного материализма: слабуюи сильную.Не вдаваясь в подробности, скажем, что с точки зрения слабого эмерджентного материализма считается возможным объяснение эмерджентности, а с точки зрения сильного такую возможность отрицают.
Слабый эмерджентный материализм
Слабый эмерджентный материализм обращается к истории науки, и в первую очередь к связям между разными научными дисциплинами. Сравнительно недавно естественные науки, а именно физика, химия и биология, существовали в теоретической изоляции друг от друга. Это было связано с невозможностью объяснить химические свойства в терминах физики или биологические свойства – в терминах химии, хотя всем было ясно, что химические свойства возникают из физических свойств, а биологические свойства – из химических. Однако в течение XX века разрыв между этими науками был ликвидирован. С появлением модели внутреннего строения атома, Периодической системы элементов и развитием физики элементарных частиц и квантовой физики стало понятно, как физические законы, действующие на микроуровне физических сущностей и структур, в конечном счете управляют химическим миром. Они определяют, какие элементы вступают во взаимодействие друг с другом, образуя химические соединения, и почему. Появилась даже возможность предсказать, какими свойствами будет обладать совершенно новое химическое вещество, которого еще никто не видел.
В том же духе, хотя «жизнь» – уникальная и таинственная особенность биологических организмов, стало возможным объяснить, как живые организмы могут быть объединены в сложные системы сочетанием неживой материи (химического соединения низшего уровня) и биохимического компонента. Сегодня мы понимаем, какие базовые механизмы заставляют живой организм жить: стало возможным объяснить «жизнь», обратившись к микроуровню – неживым фрагментам биологических организмов.
Достаточно присмотреться к разным наукам, чтобы понять, что слабый эмерджентный материализм «работает» едва ли не всюду. Во-первых, идентифицированы некоторые глобальные, приводящие в замешательство явления и описана их корреляция с более низким уровнем. Поначалу эта корреляция воспринималась как нечто таинственное: в то время мы не понимали, как два совершенно разных явления могут быть связаны неким механизмом. Постепенно становилось ясно, что в основе их связи лежат чрезвычайно сложные многоуровневые механизмы. В конце концов появилась возможность описать эти механизмы настолько подробно, что от первоначальной тайны не остается и следа, и мы приходим к пониманию того, как на базе более низкого уровня возникает новое явление более высокого уровня. Действительно, науки в целом представляют собой иерархическую систему теорий или моделей, описывающих мир на разных уровнях сложности. Нижний ярус – это физика, затем идут химия, биохимия, молекулярная биология, биология клетки, физиология и т. д. Структура науки отражает структуру реального мира: похоже, что реальность представляет собой многослойную систему, образованную последовательностью уровней, каждый из которых требует специализированной науки, изучающей и описывающей то, что на нем происходит. Поначалу связи между уровнями могут казаться таинственными, но проходит время, и нам становится понятен принцип, на котором эти связи основаны. Благодаря этому мы понимаем, как из более низкого уровня возникает более высокий.
Слабый эмерджентный материализм исходит из того, что для науки связь между сознанием и мозгом – обычное дело. Сейчас сознание находится на границе нашего понимания, но эта проблема неизбежно будет решена точно так же, как в истории науки были решены другие проблемы. Сто лет назад большинство биологов считали, что «жизнь» – это нечто, фундаментально отличное от обычных физических процессов, и придерживались дуалистической теории жизни, известной под названием «витализм». Эта теория аналогична рассмотренным выше дуалистическим теориям сознания. Сегодня все биологи знают, что «жизнь» – это сложный физический процесс, не требующий никаких нефизических сил или сущностей. В биологическом смысле «жизнь» более не представляет никакой тайны. Одноклеточный организм живет. Эмерджентное свойство «быть живым» может быть исчерпывающе объяснено причинными процессами, протекающими на биофизическом, биохимическом и молекулярном уровнях.