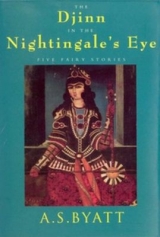
Текст книги "Джинн в бутылке из стекла «соловьиный глаз»"
Автор книги: Антония С. Байетт
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 9 страниц)
Теннис из Франции, с кортов, похожих на красные пустыни; теннис из Монте-Карло, где сейчас жаркий солнечный полдень (в Стамбуле он миновал уже два часа назад); теннис мужской, да к тому же прямая трансляция, да еще на том канале, где никогда ничего не происходило, кроме бесконечных демонстраций человеческого тела (живого, разумеется), распластанного, усталого, или торжествующего, или поверженного – как бы в одном скучно-бесконечном, но прекрасно иллюстрированном повествовании. Доктор Перхольт часто говорила в своих докладах по фольклористике, что тот, кто изобрел правила и систему счета в теннисе, был абсолютным гением повествовательного жанра, сравнимым разве только с древними сказителями, которые определили, что животных-помощников должно быть три, и придумали наказания для тех, кто осмеливался нарушить запреты. Ибо, чем ровнее идет игра, говорила доктор Перхольт, тем труднее при такой системе кому-то из игроков победить. При равном счете, шесть-шесть, ставки растут, и уже не одно очко нужно для достижения победы, а два, не одна, а две игры; таким образом обеспечивается максимальное напряжение, и зрители получают максимальное удовольствие. Теннис в этой стеклянной шкатулке она особенно любила, как любила в детстве сказки на сон грядущий. Она восхищалась мастерством операторов: промелькнувшее в кадре мокрое от пота лицо в момент сильнейшего напряжения, почти балетный, невероятно точный поворот ног, медленный ленивый повтор кадра, где игрок совершает разрывающую легкие пробежку, но показан так, будто в данный момент он парит над площадкой подобно листу, который медленно-медленно, кружась в воздухе, падает на землю с дерева, – так мастера-операторы заставляют тяжелых мускулистых мужчин в раздувающихся рубашках на мгновение повисать в воздухе, плыть вольготно. Она так сильно полюбила теннис лишь тогда, когда, к сожалению, ей уже поздно было играть самой и когда единственно возможной для нее осталась роль зрительницы. Она испытывала наслаждение при виде геометрически точных линий на корте, тех белых линий, что обозначали преграды и ограничения для игрока, его надежду и отчаяние; при виде золотистого шарика мяча, взлетающей из-под ног красной пыли, плетеных квадратов натянутой сетки… У нее были свои причуды – этакий повествовательный снобизм: прямая трансляция всегда была для нее более привлекательна, чем запись, даже если она не могла сразу отличить первую от последней. Ведь при записи кто-то где-то уже знал имя победителя, и напряжение, таким образом, значительно снижалось, а замечательная волшебная непредсказуемость концовки – любая история прекраснее всего, когда приближается к счастливому, удовлетворяющему всех концу, но еще не все расставила по своим местам, – просто исчезала, превращаясь в обман. Ибо при прямой трансляции могло произойти что угодно – на поле могла, например, опуститься тьма кромешная, или же земля могла разверзнуться под игроками. Живой эфир – это живой эфир, прямая трансляция матча – это история, движущаяся к концу, который еще не наступил, но обязательно, почти наверняка наступит. Именно в этом-то «почти» и заключалась вся прелесть.
Прямая трансляция матча (Беккер – Леконт) была обещана через час. Джиллиан рассудила, что у нее вполне хватит времени принять душ – хороший горячий душ; а потом она будет сидеть, не спеша сушить волосы и смотреть, как бегают по корту двое мужчин. Так что она включила душ, массивный, бронзовый, отгороженный стеклянным экраном в углу ванной комнаты, – собственно, это была целая стеклянная кабинка, на стенках которой радовали глаз вьющиеся розы и прелестные маленькие, птички, сидевшие между шипами на могучих стеблях. Стеклянная коробка душа была заключена в красивую бронзовую раму. Вода показалась Джиллиан чуть мутноватой и тоже отливающей бронзой, однако была горячей, и Джиллиан с наслаждением подставляла тело ее струям, намыливала груди, мыла шампунем волосы и с огорчением поглядывала вниз, хотя туда лучше бы не смотреть вовсе: складки под грудью и на боках, обвисшие мышцы живота… Она вспомнила, потянувшись за полотенцем, как всего каких-то лет десять назад с удовлетворением смотрела на свою шею, на крепкие, полные груди и тогда еще, помнится, сочла, что тело у нее сохранилось очень хорошо, что оно почти безупречно. Она тогда все пыталась представить себе, как ее красивая, гладкая, эластичная кожа неизбежно сморщится и обвиснет, но была не в состоянии представить это. Ее кожа выглядела молодой, и сама она чувствовала себя молодой и не видела никакой причины им – ей и ее коже – стареть. Умом она, конечно, понимала, что кожа ее должна рано или поздно сдаться, уступить возрасту, но видела ее молодой, такой живой и прелестной, – и лгала самой себе. И вот теперь все это началось: на веках образовались мягкие маленькие складочки, края губ опустились, возле них появились морщинки, и помада растекалась по этим морщинкам тоненькими лучиками.
Джиллиан, не одеваясь, двинулась к зеркалу. Зеркало, висевшее в ванной комнате номера 49 отеля «Пери палас», запотело, и сквозь клубы пара Джиллиан увидела, как из зеркала к ней приближается ее смерть – волосы струятся черными жидкими прядями, тьма глазниц исходит дымом, рот на меняющем свои очертания каком-то полужидком лице приоткрыт как бы в страхе, что они сейчас сольются в одно. Джиллиан печально уронила голову, отвернулась от своего двойника и взяла висевший рядом в пластиковом пакете купальный халат. Там же лежали и белые купальные тапочки, и на них золотыми буквами было написано «Пери палас». Она сделала себе огромный тюрбан из полотенца и, упакованная столь основательно, вдруг вспомнила о бутылочке из стекла «соловьиный глаз» и решила сунуть ее под кран, чтобы оживить стекло. Она развернула сосуд – он действительно был чрезвычайно грязен, прямо-таки заляпан глиной, – отнесла его в ванную комнату, включила смеситель в раковине, сделав воду теплой, почти прохладной, и подставила бутылку под струю, постоянно поворачивая. Стекло вскоре стало синим, пронизанным неяркими белыми полосками, – кобальтово-синим, темным и ярким одновременно, сверкающим, восхитительным. Она все переворачивала фляжку под струйками воды, оттирая упрямые пятна грязи пальцами, как вдруг сосуд шевельнулся у нее в руках – словно лягушка, словно все еще бьющееся сердце в руках хирурга. Она вцепилась в него, сжала всеми пальцами и застыла; ее собственное сердце яростно и стремительно забилось от страшных предчувствий – ей уже виделись рассыпанные повсюду синие осколки. Но ничего страшного не произошло, лишь пробка вдруг вылетела из горлышка фляжки и упала со слабым стеклянным звоном в раковину, но не разбилась. А из бутылочки, которую она по-прежнему сжимала в руках, появилось нечто вроде роя пчел – какая-то неясная масса, пар или туман, некое быстро движущееся темное пятно, и движение его сопровождалось высоким жужжащим звуком или свистом. В воздухе запахло древесным дымом, корицей, серой и еще чем-то, может быть, ладаном – и почему-то кожей. Темное облако собралось, развернулось и огромной запятой вылетело из ванной. «Ну вот, у меня уже видения начинаются», – подумала доктор Перхольт, направившись следом за облаком и обнаружив, что следовать за ним она не может: дверь ванной оказалась подперта чем-то снаружи, и это «что-то», как она медленно осознала, было человеческой ступней невероятного размера, с пятью пальцами, равными примерно ее росту и украшенными шипастыми ногтями. Кожа на ступне была оливкового цвета и как бы позолоченная, похожая на змеиную, но не чешуйчатая, а скорее бронированная. Она выглядела твердой и в то же время отчасти прозрачной. Джиллиан протянула руку. Ступню вполне можно было пощупать; она оказалась очень горячей – не как раскаленные угли, но все же значительно горячее, чем та вода, в которой Джиллиан мыла бутылку. Кожа была сухой и словно наэлектризованной. Возле сустава билась жилка – зеленовато-золотистая трубка, в которой виднелась почти изумрудного цвета жидкость.
Джиллиан стояла, уставившись на ступню. Никакое существо, если оно пропорционально этой ступне, не может уместиться в ее номере. Да и где же остальное тело? Стоило ей подумать об этом, как она услыхала звуки, вроде бы членораздельную речь; причем голос, произносивший слова, был низким, хрипловатым, однако довольно музыкальным и внятным. Природу языка она определить не смогла. Джиллиан сунула пробку в горлышко фляжки, крепко сжала сосуд в руке и стала ждать.
Ступня начала менять форму. Сперва она еще больше распухла, а потом немного уменьшилась, и теперь Джиллиан смогла бы проскользнуть в дверь с нею рядом, однако она решила, что это было бы слишком большим безрассудством, и пробовать пока не стала. Вскоре ступня достигла размеров большого кресла и немного втянулась в комнату продолжая уменьшаться; Джиллиан поняла, что может выйти из ванной. Странный голос все время продолжал что-то бормотать на своем непонятном языке. Войдя в комнату, Джиллиан увидела джинна, занимавшего примерно половину помещения и изогнувшегося словно змея; его огромная голова и плечи упирались в потолок, руки – в две противоположные стены, а ноги и тело, заняв всю ее постель, сползали на пол. Он даже был одет – в нечто вроде зеленой шелковой туники, не слишком чистой и недостаточно длинной, потому что ей были видны все его мужские прелести, грудой лежавшие на ее расшитом розами покрывале. За спиной у него шевелился ворох каких-то разноцветных перьев – перьев павлинов, попугаев и райских птиц, – которые, как оказалось впоследствии, были частью его плаща, а плащ – частью самого джинна, но в то же время не его крыльями, которые должны по правилам расти от лопаток или хотя бы от позвоночника. Джиллиан наконец определила последний ингредиент его сложного запаха – когда джинн шевельнулся, чтобы посмотреть на нее. Это был запах мужчины, резкий запах самца, от которого у нее поползли мурашки по всему телу.
Лицо у джинна было огромным, овальной формы и совершенно лишенным растительности. Из-под тяжелых морщинистых мутно-зеленых век поблескивали яркие глаза цвета морской воды с малахитовыми вкраплениями. У него были высокие скулы, крючковатый нос и большой рот, широко растянутый и по форме напоминающий рты египетских фараонов.
В одной из своих немыслимых ручищ он держал телевизор, на жемчужном экране которого в красной пыли площадки Борис Беккер и Анри Леконт бросались к сетке, отскакивали назад, танцевали, ныряли. Можно было расслышать удары по мячу, и джинн приложил телевизор к одному огромному, однако весьма изящных очертаний уху, чтобы послушать.
Потом он обратился к Джиллиан. Та сказала:
– Не думаю, чтобы вы говорили по-английски.
Он снова повторил ту же самую фразу. Джиллиан спросила:
– Французский? Немецкий? Испанский? Португальский? – Она колебалась. Она не могла вспомнить, как по-латыни будет «латынь», и уж совсем не была уверена, что сможет вести на латыни какой-то разговор. – Латынь? – наконец выговорила она.
– Je scais le francais, – сказал джинн. – Italiano anche. Era in Venezia [46]
[Закрыть].
– Je prefere le francais [47]
[Закрыть], – сказала Джиллиан. – Я гораздо лучше говорю на этом языке.
– Хорошо, – сказал Джинн по-французски. И прибавил: – Я могу быстро научиться, какой у тебя язык?
– Пожалуй, надо еще уменьшиться, – сказал джинн, переворачиваясь на другой бок. – Приятно было снова стать большим и потянуться. Я пробыл внутри этого сосуда с 1850 года по вашему летоисчислению.
– Похоже, вам здесь очень тесно, – сказала Джиллиан, подыскивая французские слова.
Джинн внимательно следил за теннисистами.
– Все относительно. Эти люди, например, исключительно малы. Я тоже несколько уменьшусь.
И он уменьшился, но не весь сразу: сперва его новое тело, теперь почти таких же размеров, как у нормального человека, практически скрылось за грудой гениталий, которые, правда, он потом тоже сильно уменьшил и даже немного прикрыл, однако все равно это было почти хвастовством и каким-то эксгибиционизмом. Теперь джинн уютно свернулся на постели Джиллиан и оказался всего раза в полтора больше ее самой.
– Я тебе очень обязан, – проговорил джинн. – Ты освободила меня. Я джинн довольно могущественный и должен, разумеется, выполнить три твоих желания. Есть ли что-либо на свете, чего ты желала бы больше всего?
– А существуют ли пределы тому, чего я могу пожелать?– спросила фольклористка.
– Вопрос необычный, – заметил джинн. Его по-прежнему сильно отвлекало драматическое действо, разыгрываемое на экране крохотными, как насекомые, Борисом Беккером и Анри Леконтом. – Действительно, у различных джиннов различные возможности. Некоторые могут выполнить лишь незначительную просьбу…
– Вроде жареных колбасок?…
– Правоверный джинн – слуга Сулеймана, – безусловно, счел бы это отвратительным: выполнить мерзкое желание кого-то из адептов вашей религии относительно свиной колбасы. Но и это возможно. Существуют некие законы, которые нерушимы для всех нас, так что мы действуем в их рамках. Ты не можешь, например, пожелать, чтобы действие твоих желаний длилось вечно. Три – это три, магическое число. Ты не можешь пожелать себе вечной жизни, ибо, согласно твоей природе, ты смертна, а я, согласно моей природе, бессмертен. Я также не смогу с помощью волшебства удержать в едином теле все твои атомы, на которые ты распадешься… – И вдруг заметил: – А хорошо все-таки снова обрести способность говорить – пусть даже на этом непривычном языке! Кстати, не можешь ли ты мне сказать, из чего сделаны эти маленькие человечки и чем они заняты? Это напоминает королевский теннис в том виде, как в него играли во времена Сулеймана Великолепного [49]
[Закрыть]…
– Сейчас он называется лаун-теннис. Tennis sur gazon [50]
[Закрыть]. Но, как ты и сам видишь, в него играют на площадке с грунтовым покрытием. Мне нравится эта игра. А играющие в нее мужчины, – она вдруг обнаружила, что сообщает ему и это, – очень красивы.
– Действительно, – согласился джинн. – А как тебе удалось запереть их в этот ящик? Атмосфера здесь полна чьего-то присутствия, я только не понимаю, чьего – сплошная суета, шум, все насыщено… я не могу найти в своем родном языке подходящего слова, и в твоем тоже, то есть я хочу сказать, в твоем втором языке, – все насыщено электрическими эманациями живых существ, и не только живых существ, но и фруктов, и цветов, они доносятся даже из дальних стран… и еще ведется какая-то высокоумная математическая игра с движущимися фигурками, смысл которой я с трудом могу уловить, словно невидимые пылинки перемещают в прозрачном воздухе, нечто ужасное случилось с моим миром, с моим внешним миром, с тех пор как меня заключили в этот сосуд; мне трудно даже удерживать собственное тело в его теперешней форме, ибо все эти силовые потоки настолько направленны и всепроникающи… А что, эти мужчины – волшебники? Или же ты сама ведьма и с помощью волшебства держишь их в стеклянном ящике?
– Нет, это все наука. Разные технические науки. Телевидение. Оно использует разные волны – световые, звуковые… катодные лучи… ну, я не знаю, как именно это сделано, я всего лишь ученый-литературовед и, боюсь, маловато знаю о таких вещах. А телевизором мы пользуемся для получения различных сведений и для развлечения. По-моему, большая часть жителей земного шара теперь смотрит телевизор.
– Six-all, premiere manche, – сказал телевизор. – Jeu decisif. Service Becker [51]
[Закрыть]. Джинн нахмурился.
– Я довольно-таки могущественный джинн, – сказал он. – Я уже начинаю понимать, каким способом передаются эти эманации. Может быть, ты хочешь иметь собственного гомункулуса?
– У меня есть всего три желания, – осторожно напомнила доктор Перхольт. – Я вовсе не хочу зря потратить одно из них, чтобы заполучить какого-то теннисиста.
– Entendu [52]
[Закрыть], – сказал джинн. – Ты умная и осторожная женщина. Ты можешь высказать свое желание, когда захочешь сама, и древние законы требуют, чтобы я пребывал в твоей власти, пока не будут выполнены все три желания. Джинны помельче непременно постарались бы соблазнить тебя чем-нибудь, чтобы ты побыстрее выбрала желание и совершила глупость, а им дала свободу, однако я истинный слуга Аллаха и честный джинн (хоть и провел большую часть своей долгой жизни запертым в различных сосудах), так что я так никогда не поступлю. Но тем не менее поймать одну из этих бабочек-путешественниц я попытаюсь. Они тоже перемещаются с помощью волн в атмосфере, но не так, как мы, переносясь на волнах, а внутри этих волн; попробуем-ка заманить сюда эту бабочку – главное удовольствие, собственно, заключается в том, чтобы воспользоваться законами, по которым этот теннисист виден в стеклянном ящике, и усилить их действие, – я легко мог бы просто пожелать, чтобы он здесь оказался, но я непременно, непременно заставлю его перелететь сюда по его собственной траектории, согласно законам его существования… так… и вот так…
Крошечный Борис Беккер, с золотистыми бровями и золотым пушком на загорелом теле, покрытом потом, возник на комоде; он был примерно раза в два больше своего телевизионного изображения, которое на экране застыло в момент удара по мячу. Беккер поморгал светлыми, песочного цвета ресницами над голубыми глазами и стал дико озираться, явно не в состоянии что-либо разглядеть, кроме светящейся дымки.
– Scheisse, – сказал крохотный Беккер, – Scheisse und Scheisse. Was ist mit mir? [53]
[Закрыть]
– Я могу показать ему нас, – предложил джинн. – Он нас убоится.
– Отправь его назад. Ведь он проиграет!
– Я мог бы его увеличить. До нормальных размеров. Мы могли бы с ним поговорить.
– Отправь его назад. Это нечестно.
– Он тебе не нужен?
– Scheisse. Warum kann ich nicht… [54]
[Закрыть]
– Нет, не нужен.
Беккер на экране застыл в эффектной позе – ракетка поднята, голова откинута назад, одна нога задрана и согнута в колене. Анри Леконт подбежал к сетке. Комментатор, спасая положение, сообщил, что «Беккера слегка прихватило», что весьма порадовало джинна, который действительно Беккера «прихватил».
– Scheisse,– сказал несчастный маленький Беккер в их комнате.
– Верни его назад, – рассердилась доктор Перхольт и быстро добавила: – Учти, это не одно из трех моих законных желаний; ты, конечно, волен поступать так, как сочтешь нужным, однако пойми, ты разочаровываешь миллионы людей по всему свету, прерывая эту историю на полуслове… извини, это deformation professionelle [55]
[Закрыть]… мне следовало сказать – эту игру…
– А почему твои гомункулусы не трехмерны? – спросил джинн.
– Не знаю. Этого мы пока не умеем. Но, возможно, научимся. Впрочем, ты, кажется, уже разбираешься в таких вещах лучше меня, хоть и просидел столько времени в этой бутылке. Пожалуйста, верни его на место.
– Исключительно ради твоего удовольствия, – галантно сказал помрачневший джинн. Он взял пальцами кукольного Беккера, быстро раскрутил его как волчок, что-то прошептал, и Беккер на экране бессильно рухнул на корт.
– Ты его повредил! – обвиняющим тоном заявила Джиллиан.
– Надеюсь, что нет, – голос джинна звучал несколько неуверенно. Беккер в Монте-Карло встал, пошатываясь и держась обеими руками за голову, его подхватили и повели прочь.
– Ну вот, теперь матч, конечно, прерван, – обиженно сказала Джиллиан и, сама себе изумившись, прижала пальцы к губам: женщина, у которой на постели лежит живой джинн, все еще оказывается способна интересоваться исходом теннисного поединка, который она начала смотреть.
– Ты можешь пожелать, чтобы он стал здоров, – сказал джинн, – но он, скорее всего, и так будет здоров. Даже почти наверняка. Да просто точно. А ты должна высказать свои самые сокровенные желания.
– Я бы хотела, – проговорила Джиллиан, – чтобы мое тело стало таким, как в те времена, когда оно в последний раз действительно нравилось мне, – если только ты можешь это сделать.
Огромные зеленые глаза остановились на ее полной фигуре в белом халате и тюрбане.
– Я могу это сделать, – сказал джинн. – Я могу это сделать. Если ты вполне уверена, что хочешь этого больше всего на свете. Я могу вернуть твои клетки в то состояние, в каком они были тогда, но отсрочить твою Судьбу я не в силах.
– Очень мило с твоей стороны сообщить мне об этом. Да, разумеется, я именно этого хочу больше всего. Именно этого я безнадежно желала каждый день в течение последних десяти лет – чего же еще могла бы я пожелать сейчас?
– И все же, – сказал джинн, – на мой взгляд, ты и сейчас очень хорошо выглядишь. Полнота, мадам весьма соблазнительна.
– Но не для людей моей культуры. И кроме того, тело ведь еще и стареет…
– Ну это-то я понять способен – хотя только разумом. Мы, джинны, созданы из огня, и наша плоть не стареет никогда. Вы же созданы из глины, из земли, из праха, и в него вы вернетесь.
Он поднял руку и лениво ткнул в Джиллиан одним пальцем, напомнив ей Адама с фрески Микеланджело.
Она почувствовала резкий спазм в стенках кишечника, во всем своем утратившем упругость чреве.
– Я рад, что ты предпочитаешь зрелых женщин, а не зеленых девчонок, – сказал джинн. – Я того же мнения. Но твоему идеалу, пожалуй, несколько не хватает полноты. Не хочешь ли стать чуточку покруглее?
– Извини, пожалуйста, – проговорила Джиллиан, внезапно став чрезвычайно скромной, и удалилась в ванную, где быстро распахнула халат и увидела в очистившемся от тумана зеркале крепкую и почти совершенную фигуру тридцатипятилетней женщины с полными, однако ничуть не отвисшими грудями, подтянутым животом, округлыми и нежными бедрами и розовыми сосками. И это крепкое, гибкое, прелестное тело было чуть розоватого оттенка, словно слегка опаленное огнем или распаренное в чересчур горячей ванне. Шрам, оставшийся после удаления аппендикса, был на своем месте, как и отметина на колене – память о том, как Джиллиан упала на разбитую бутылку под лестницей, где пряталась во время воздушного налета в 1944 году. Она принялась изучать в зеркале свое лицо; оно не было таким уж красивым, зато излучало здоровье и жизнерадостность; шея возвышалась стройной гладкой колонной; Джиллиан с радостью заметила, что и зубов у нее снова стало больше, и они выглядят куда здоровее. Она развязала свой тюрбан, и волосы вольготно рассыпались по спине, еще влажные, длинные и блестящие. «Я могу спокойно ходить по улицам, – сказала она себе, – и все легко будут узнавать меня, но жизнь начнется совсем другая, новая и счастливая; и я буду чувствовать себя гораздо лучше, я больше буду нравиться самой себе. Это действительно было очень разумное желание, и я о нем никогда не пожалею!» Она расчесала волосы и вернулась к джинну, который валялся на кровати, наблюдая за Борисом Беккером, – тот, проиграв первую партию, теперь метался по корту как тигр. Джинн успел обложиться блестящими пестрыми журналами и каталогами различных магазинов, вытащенными из ящика прикроватного столика вместе с гидеоновской Библией [56]
[Закрыть], которая, как и Коран, лежала в том же ящичке. Из этих текстов он, по всей видимости, впитывал знания по английскому с помощью некоего сложного мыслительного процесса.
– Хм, – сказал он по-английски, – кто эта блистающая, как Заря, прекрасная, как Луна, светлая, как Солнце, грозная, как полки со знаменами? [57]
[Закрыть] Да, это твой родной язык; я обнаружил, что весьма быстро способен усваивать его законы. Довольны ли вы, мадам, результатом исполнения вашего желания? Есть у нас сестра, которая еще мала, и сосцов нет у нее; что нам будет делать с сестрою нашею, когда будут свататься за нее? [58]
[Закрыть] Я вижу на этих картинках, что в настоящее время вы предпочитаете женщин безгрудых, похожих на мальчиков. Странная форма аскетизма, если это аскетизм. А может быть, и извращения, что тоже возможно… Но сам я не из той породы джиннов; мне никогда не хотелось проникнуть в бани и подкрасться к мальчику сзади. Я любил исключительно женщин, причем самой различной внешности и положения: я любил саму царицу Савскую, я знавал Суламифь, чьи груди были подобны виноградным кистям и зрелым гранатам, чья шея напоминала столп из слоновой кости, ноздри же ее пахли яблоками… Мальчик – он мальчик и есть, а женщина – это женщина, миледи! Хотя у этих, на картинках, красивые глаза; они, надо сказать, весьма искусно пользуются краской для век.
– Если ты общался с самой царицей Савской, – сказала ученая дама, – то как же ты оказался запертым в сосуде, который, насколько я знаю, создан самое раннее в девятнадцатом веке, ибо это стекло «соловьиный глаз», если не венецианское?
– Разумеется, это «соловьиный глаз»,– сказал джинн. – Сделан этот сосуд совсем недавно, и его весьма ценила владелица, прекрасная Зефир, супруга Мустафы Эмин-бея из Смирны. А попал я туда из-за глупейшей случайности, а также из-за слишком большой любви к обществу женщин. Это было уже третье мое заточение; в будущем я постараюсь вести себя осторожнее. Я с удовольствием расскажу тебе свою историю, а ты можешь пока обдумать два оставшихся у тебя желания, однако ж и мне весьма интересно было бы узнать твою историю – ты чья-либо жена или вдова, и как тебе удалось поселиться в таких прелестных покоях с проточной водой, в этом «Пери Паласе» чье название мне поведали твои блестящие книги? Сам я знаю об Англии крайне мало, а то, что знаю, не слишком обнадеживает. Я знаю историю белых рабов с того северного острова, о которых один римский епископ сказал: «Non Angli sed angeli» [59]
[Закрыть]. И еще я знаю о Бизинисменах – из разговора в караван-сарае в Смирне. По слухам, вы должны быть толстыми рыжими людьми, которые не способны ни поклониться как следует, ни улыбнуться, но я давно уже научился не доверять слухам, а тебя я нахожу женщиной изящной и приятной.
– Меня зовут Джиллиан Перхольт, – сказала доктор Перхольт. – Я совершенно независимая женщина, ученый, изучаю сказки и вообще фольклор. – Она подумала, что ему неплохо запомнить такое полезное слово, как фольклор; зеленые глаза джинна сверкнули. -Я приехала в Турцию на конференцию и через неделю возвращаюсь на свой остров. Не думаю, что история моей жизни так уж заинтересует тебя.
– Напротив. Я временно нахожусь в твоей власти, и всегда разумно попытаться понять жизнь тех, кто властвует над тобой. Бoльшую часть своей жизни я провел в гаремах, так вот в гаремах выяснение событий чьей-либо даже совершенно бесцветной личной жизни – предмет особой важности. Единственной действительно независимой женщиной, какую я знал, была царица Caвcкaя [60]
[Закрыть] моя троюродная сестра, однако, как я замечаю, с тех пор положение дел переменилось. Так чего же независимой женщине хотелось бы пожелaть для себя, Джиль-ян Пери-хан?
– Не так уж много, – сказала Джиллиан, – что-нибудь из того, чего у меня еще нет. Впрочем, я должна подумать. Следует быть разумной. Расскажи мне лучше историю трех своих заточений. Если тебе это не неприятно, конечно.
Позже ей пришлось не раз удивляться тому, как прозаично она воспринимала присутствие в своем номере восточного демона, развалившегося в изящной позе на гостиничной кровати. Она безоговорочно принимала и факт его существования, и то, что он говорил, – словно встретила его во сне, то есть с некоторой оглядкой, с неким пониманием того, что реальность, в которой она в данный момент существует, не является реальностью повседневной, во всяком случае, той реальностью, в которой доктор Джонсон [61]
[Закрыть] опровергал солипсизм епископа Беркли [62]
[Закрыть] грубым пинком по валявшемуся на земле камню. Она часто говорила в своих лекциях, что потребность человека рассказывать сказки о несуществующих в действительности, нереальных вещах своим происхождением, вполне возможно, обязана снам и что память человеческая также имеет определенное сходство со снами; память перестраивает, делает более ясным простое повествование о событии, разумеется не только вспоминая, но и придумывая его детали. Гоббс [63]
[Закрыть], говорила она своим студентам, рассматривал воображение как ослабевшую память. Но ей и в голову не приходило, что она может вдруг «пробудиться» и обнаружить, что на самом деле никакого джинна нет и никогда не было; однако она действительно чувствовала, что вполне может неожиданно переместиться – или же это сделает он – в какой-нибудь иной мир, и тогда они уже не будут существовать одновременно. Тем не менее он продолжал оставаться в ее номере на кровати, поблескивая своими странными – особенно на ногах – ногтями, время от времени чуть меняя очертания своего тела и глядя на нее огромными внимательными глазами: и там же был его пернатый плащ-крылья, и его запах – запах духов, благовоний, дыма и неких его феромонов [64]
[Закрыть], если джинны выделяют феромоны, а этот вопрос она еще не готова была ему задать. Она предложила ему заказать обед в номер, и они вместе выбрали блюда: салат из разных овощей, копченую индейку, дыню и шербет из плодов пассифлоры; когда ввезли тележку с этими яствами, джинн спрятался, потом появился вновь и добавил к пиршеству чашу спелых фиг и гранатов и какой-то рахат-лукум с сильным запахом роз. Джиллиан сказала, что вряд ли вообще стоило заказывать что-то в ресторане, раз он может сам сотворить любое блюдо, но он возразил: неужели она жалеет, что удовлетворила любопытство того, кто пробыл в заточении с 1850 года (по вашему летоисчислению, сказал он по-французски), – ведь ему так хочется узнать и новых людей, и новую жизнь по прошествии стольких лет.
– Ваши рабы, – заявил он, – выгладят здоровыми и улыбающимися. Это хорошо.
– Но рабов больше не существует, у нас больше нет рабов – по крайней мере, на Западе и в Турции, здесь все свободные люди, – сказала Джиллиан и тут же пожалела о столь упрощенном ответе.
– Нет рабов? – удивился джинн. – А может, и султанов больше нет?
– Султанов здесь нет. В Турции республика. А в моей стране есть королева. Но у нее нет власти. Она… чисто репрезентативная фигура.
– А у царицы Савской власть была, – задумчиво сказал джинн, приподнимая бровь и добавляя к столу, и без того уставленному яствами, финики, мороженое с фруктами, жареных перепелов, marrons glaces [65]
[Закрыть] и два куска tarte aux pommes [66]
[Закрыть] – Она, бывало, говорила мне, когда шпионы доносили ей о его триумфальном шествии через пустыню – я имею в виду великого Сулеймана, да будет благословенна его память, – так вот, она говорила: «Разве могу я, великая царица, смириться с тяжкими оковами брака, с этими невидимыми цепями, которые прикуют меня к постели мужчины?» И я советовал ей не смиряться. Я говорил, что главное ее богатство – мудрость – всегда при ней, и она свободна как орлица, плывущая на волнах ветра и взирающая сверху на города, дворцы и горы. Я говорил, что тело ее прекрасно, великолепно, роскошно, но разум ее куда прекраснее и богаче, и к тому же долговечнее – ибо, хоть она и была родственницей джиннам, но все же оставалась смертной, как и ты, ведь джинны и смертные не дают бессмертного потомства, подобно тому как осел и кобыла тоже способны произвести на свет лишь бесплодных мулов. И она сказала, что я совершенно прав; она сидела среди подушек в своей дальней гостиной, куда никто без спросу не входил, и накручивала на палец прядь своих черных волос, и морщила лоб в раздумьях, а я пожирал глазами великолепные полушария ее грудей, ее тончайшую талию, ее роскошные, такие пышные и мягкие бедра, подобные двум дюнам шелковистого песка, и голова у меня кружилась от желания, хоть я и молчал об этом, ибо ей всегда нравилось чуть-чуть заигрывать со мной – она ведь знала меня с самого своего рождения, я тогда входил и выходил невидимым в ее спальню, и целовал ее нежные уста, и гладил ей спинку, а она все росла и росла, и вскоре я знал не хуже любой из ее рабынь те местечки, прикосновения к которым заставляли ее дрожать от удовольствия, но все это было только игрой; а еще она очень любила советоваться со мной по всяким серьезным вопросам – о намерениях правителей Персии и Бессарабии, о структуре газелей, о лекарствах против разлития желчи и отчаяния, о расположении звезд… Так вот, она сказала, что я совершенно прав, что ее свобода действительно принадлежит ей, что отдавать ее она не намерена и что только я – бессмертный джинн – и еще некоторые из женщин давали ей подобные советы, но большая часть ее придворных, и мужчины, и женщины, а также ее родня со стороны людей высказывались в пользу ее брака с Сулейманом (благословенна будь его память), который между тем продвигался с каждым днем все дальше и дальше через пустыню, вырастая в ее представлении, как и я мог вырастать или уменьшаться прямо у нее на глазах. И когда он наконец прибыл, я увидел, что для меня все потеряно, ибо она возжелала его. Будет только справедливо, если я скажу, что он был прекрасен, и женщины сгорали от желания при виде его. Шелковые шаровары не скрывали его мужских достоинств, а пальцы его были длинны и удивительно ловки – он мог играть на женщине столь же искусно, как на лютне или на флейте. Но она-то сперва не поняла, что желает его, а я как последний дурак начал снова твердить ей, что нужно сохранить свою власть и не подчиняться ему, а приходить и уходить когда вздумается. И она соглашалась со всем, что я ей говорил, и только мрачно кивала, а однажды даже уронила горячую слезу, которую я слизнул языком, – никогда в жизни никого я больше так не желал, ни женщины, ни демоницы, ни пери, ни мальчика, похожего на только что очищенный каштан. А потом она начала давать ему задания, которые казались совершенно невыполнимыми: найти какую-то определенную ниточку красного шелка в целом дворце; угадать тайное Имя ее матери, которая была из джиннов; сказать ей, чего женщины хотят больше всего на свете, – и тут я окончательно понял, что пропал, ибо он мог разговаривать со зверями земными, и птицами небесными, и с джиннами из царства огня, и он отыскал муравьев, и те нашли для него нужную ниточку, и призвал ифрита из царства огня, который назвал ему то тайное Имя, и, глядя ей в глаза, он сказал, чего женщины хотят больше всего на свете, и она опустила свои очи и подтвердила его правоту, а потом разрешила ему то, чего он хотел больше всего на свете,– сделать ее своей женой, лечь с ней в постель, с этой прелестной девственницей; и когда они легли, дыхание ее вырывалось из уст вместе с легкими стонами страсти, каких я никогда от нее не слышал, никогда и никогда уж больше не услышу. И когда я увидел, как он лишает ее невинности и ручеек яркой крови стекает на шелковые простыни, я не сдержался и застонал, и тут он догадался о моем присутствии. Он был великим волшебником, да будет благословенно его имя, и прекрасно мог меня видеть, хоть я и сделался невидимым. И он лежал, омытый ее потом и своим собственным, и считал легкие любовные укусы, самым артистичным образом разбросанные– но, к сожалению, не ставшие невидимыми – в мягких впадинках у нее на шее и еще повсюду, где ты только можешь вообразить. И он, конечно же, отлично видел ее девственную кровь, иначе судьба моя была бы куда хуже, однако он всего лишь заточил меня могучим заклятьем в большой металлический сосуд, что стоял в той же комнате, и запечатал его своею собственной печатью, и она не сказала ни слова, даже не попросила за меня – хотя я правоверный, а не слуга Иблиса, – а лишь лежала и вздыхала, и я видел, как она касается язычком своих жемчужных зубок, а ее нежная ручка тянется к тем частям его тела, что подарили ей такое наслаждение, и я тогда был для нее ничто, так, глоток воздуха в сосуде. И вот меня бросили в Красное море, как и многих других джиннов, и я томился там две с половиной тысячи лет, пока какой-то рыбак не вытащил мой сосуд своей сетью и не продал меня вместе с сосудом бродячему торговцу, который отнес сосуд на базар в Стамбуле, где его купила служанка принцессы Мирима, дочери Сулеймана Великолепного, и отнесла в Эски-Сарай, во дворец султана, в гарем.








