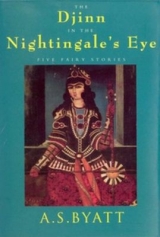
Текст книги "Джинн в бутылке из стекла «соловьиный глаз»"
Автор книги: Антония С. Байетт
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 9 страниц)
Антония С. Байетт
Джинн в бутылке из стекла «соловьиный глаз»
ПОВЕСТЬ
Перевод И. ТОГОЕВОЙ
Давным-давно, когда мужчины и женщины со свистом пересекали воздушные пространства на металлических крыльях, когда, надев ласты, они опускались на дно морское и учили язык китов и песни дельфинов, когда жемчужно-белые духи техасских пастухов и их украшенных драгоценностями гурий мерцали в сумерках на холмах Никарагуа, когда люди в Норвегии и Тасмании в самый разгар зимы вполне могли мечтать о свежей клубнике, финиках, гуаяве и пассифлоре, а утром находили все это разложенным на столах, жила-была женщина, которая на редкость не соответствовала своему времени и своей среде, а потому была счастлива.
Она профессионально занималась рассказыванием сказок и всяких историй, однако не была ни изобретательной царицей, страшащейся того, что с рассветом ее оденут в саван, ни накиб-аль-малеком, старшим постельничим шаха, возвещающим отход его господина в страну снов, ни ашиком, бродячим артистом, любовником-менестрелем, распевающим песни о Мехмете Завоевателе [1]
[Закрыть] и о разграблении Византии, ни хотя бы дервишем в коротких кожаных штанах и кожаной тюбетейке, который отбрасывает страшную тень, размахивая боевым топором или дубинкой. Не была она и меддахом, рассказчиком-панегиристом, который сочиняет невероятные истории при дворе правителей Оттоманской империи или в кофейне на базаре. Нет, она просто исследовала различные повествовательные жанры, была фольклористом, существом, так сказать, вторичного порядка, из тех, кто свою жизнь проводят, согнувшись над столами в огромных библиотеках, разгадывая смысл старинных текстов, интерпретируя их, пытаясь расшифровать волшебные сказки нашего детства и водочные рекламы мира взрослых, бесконечные романтические истории, которые так нравится рассказывать позлащенным солнцем любителям кофе: истории о несчастной любви докторов и сиделок, герцогов и служанок, искусных богатых наездниц и нищих музыкантов. А еще иногда она летала. Бедная юность заставила ее считать жизнь ученых сухой, малоподвижной и пропитанной книжной пылью. Но теперь она знала об этом гораздо больше. Два-три раза в год она летала в города со странными названиями, в Китай, в Мексику, в Японию, в Трансильванию, в Боготу и в страны Южных морей, – где фольклористы и литературоведы собирались в стаи, как скворцы, как члены парламента мудрых птиц [2]
[Закрыть] и рассказывали истории об историях, сказки о сказках.
В те времена, когда начинается моя история, зеленое море казалось черным и скользким, точно шкура кашалота-убийцы, и вялые волны были охвачены огнем, над ними плясали тысячи языков пламени и висела завеса тяжелого вонючего дыма. Пустыни действительно опустели и были усеяны черепами людей и животных и металлическими баллонами, содержащими смерть. Мор незаметно расползался там от бархана к бархану. В те времена мужчины и женщины, включая даже и фольклористов, опасались летать на Восток, так что их собрания стали происходить значительно реже.
Тем не менее, наша фольклористка, которую звали Джиллиан Перхольт, оказалась-таки в воздухе где-то между Лондоном и Анкарой. Кто знает, то ли она продолжала путешествовать, потому что была англичанкой, а стало быть, человеком абсолютно бесстрастным, достаточно флегматичным и даже не представляла себе, как это вдруг ее самолет взорвется прямо в воздухе; то ли потому – хотя, по правде сказать, она обладала чрезвычайно живым воображением и вполне способна была испытывать страх, – что просто не могла противиться соблазну путешествия над облаками, над минаретами Стамбула, в такой вышине, откуда открывается роскошный вид на Золотой Рог [3]
[Закрыть], Босфор, берега Европы и Азии, обращенные друг к другу лицом. Согласно статистике, самолет даже более безопасен, чем любой другой вид транспорта, уверяла себя Джиллиан Перхольт, хотя, конечно, в наши дни, пожалуй, чуть-чуть менее безопасен, даже согласно статистике, чуть-чуть менее.
У нее было одно любимое выражение для обозначения неуловимой прелести таких воздушных путешествий в одиночку. Она повторяла его про себя как заклинание, когда огромный серебристый корабль отделялся от своей пуповины, раздвижного рукава для пассажиров в аэропорту «Хитроу», потом вперевалку, точно альбатрос на суше, выбирался на гудронированную взлетную полосу и начинал подъем сквозь серую завесу английского дождя, сквозь похожие на клочья шерсти серо-стальные густые английские тучи – целый мир клубящегося пара, – ив крохотное окошко она видела, как самолет втягивает длинные ноги-шасси и выпускает шлейф газа, поднимаясь все выше, в тот синий и золотой мир, что всегда существует над миром серым. «Плывет вольготно»,– говорила она про себя, потягивая шампанское, грызя подсоленный миндаль, а вокруг расстилались райские поля – белые волнистые облака, сверкающие и сияющие под солнцем, розовые и голубые в тени. «Плывет вольготно»,– шептала она блаженно, когда самолет накренился, совершая вираж, и бесплотный мужской голос объявил, что хотя над Францией висит довольно мощная облачная пелена, они рассчитывают, что солнце скоро выжжет в ней дыру и пассажиры успеют полюбоваться Альпами. «Выжжет» – какое могучее слово, – подумала она, – и интересное с точки зрения риторики, ибо вода не горит, но тем не менее жар солнца превращает ее в ничто; да, я сейчас нахожусь среди яростных и могучих сил; я сейчас ближе к солнцу, чем любая моя прародительница могла бы мечтать; я могу спокойно смотреть на него здесь и никуда не торопиться, плывя вольготно».
Эти слова она, конечно, придумала не сама; она относилась, как я уже сказала, к существам вторичного порядка. Фраза принадлежала Джону Мильтону [4]
[Закрыть] и была извлечена им в самом расцвете его таланта прямо из воздуха или заимствована в одном из известных ему языков для описания первобытной красоты колец змея-искусителя в райском саду. Джиллиан Перхольт отлично помнила тот день, когда слова Мильтона впервые, свернувшись в змеиное кольцо, поднялись во всей своей красе над страницей книги и поразили ее, ничего не подозревающую, как некогда настоящий змей – Еву. Вот она тогдашняя: ей шестнадцать, золотистые волосы, белая кожа – сама невинность с подернутыми дымкой, чуть рассеянными голубыми глазами (такой она в своем воображении теперь рисовала себя); а перед нею на перепачканном чернилами школьном столе лежит пыльная потрепанная книга в изумрудно-зеленом переплете; ее страницы покрыты: кляксами – книга побывала у многих хозяев и в лавке букиниста, – исчерканы вкривь и вкось старательными или нетерпеливыми девичьими, пальчиками; и вот среди едкого, неистребимого запаха нагретых чернил, линолеума и пыли – а может, пепла? – возникает он, дерзкий и очаровательный обольститель.
… литой и без единого изъяна.
Простершись по земле, над ней он приподнялся.
Из башни, созданной извивом его тела.
Нагромождением колец, волнующимся лабиринтом.
Возникла гордая его глава на шее золотистой.
Застыла неподвижно. Колышется. И снова замерла…
Глаза ж его карбункулам подобны.
То спиралью свившись, то распрямляясь.
Он по траве плывет вольготно,
И удивительно прекрасна его форма,
И восхитительна поистине.
На какое-то мгновение Джиллиан Перхольт тогда действительно увидела его, великолепного, чуть раскачивающегося в воздухе прямо перед нею… нет, это был не тот змей, которого встретила в саду Ева, и пока еще не тот, что вздымался во тьме пещеры – в черепе ослепшего Джона Мильтона, – но просто некий Змей, может быть, тот самый, что в некотором смысле был создан из слов, однако зрим. Точно так же в детстве она порой на самом деле видела волков, медведей и маленьких серых человечков, вечно стоявших между ней и спасительной дверью в гостиную, где, как всегда в воскресенье, спал в кресле отец. Но я отвлекаюсь или вот-вот отвлекусь от темы. Я призвала сюда этого змея (я ведь тоже его видела в свое время), только чтобы пояснить те выводы, которые доктор Перхольт сделала относительно своего состояния.
Некогда ее научили видеть в выражении «floating redundant» – плывущий вольготно – одно из мильтоновских слияний двух языков: слово «floating», явно тевтонского происхождения, имело отношение к разливам и паводкам, а слово «redundant», происхождения неведомого и сложного, но, безусловно, латинизированное, означало нечто льющееся через край, избыточное. Теперь же у нее насчет этого выражения имелась и своя собственная догадка, связанная с некоторыми современными значениями слова «redundant» – «чрезмерный, нежелательный, излишний». «Боюсь, нам придется расстаться с вами»– так всегда говорят работодатели, словно предлагая свободу некоему сопротивляющемуся Ариэлю, словно их работники – плененные эльфы, только и мечтающие о том, как бы вырваться на волю, вернуться в родную стихию. Догадка доктора Перхольт, однако, лишь в некоторой степени касалась отношений работников и работодателей. Прежде всего она имела отношение к ее полу и возрасту, ибо доктор Перхольт была женщиной пятидесяти с лишним лет; она уже миновала детородный возраст и имела двоих взрослых детей, давно покинувших родной дом и даже уехавших из Англии – один в Саскачеван [5]
[Закрыть], а второй в Сан-Паулy [6]
[Закрыть] откуда они писали и звонили редко, потому что были заняты собственными семьями и детьми. Муж доктора Перхольт также покинул родной дом, бросил ее, перебрался в другое место после целых двух лет поисков собственного «я», двух лет бесконечных приездов и отъездов, уходов и возвращений, двух лет приступов самобичевания и раздражительности, внезапной импотенции и нежелания есть приготовленную с любовью пищу, жалкой и хвастливой спекуляции какими-то таинственными записочками; после двух лет приглушенных телефонных разговоров (когда ему казалось, что доктор Перхольт спит), пропущенных встреч и опозданий на званые обеды, загадочных колебаний, облаков вонючего табачного дыма, запаха бренди и странного аромата чужой кожи – чужого пота с примесью аромата гиацинта. Он сбежал тогда на Мальорку с Эммелин Портер, а потом связался по факсу с Джиллиан и сообщил, что поступил как последний трус, но исключительно ради того, чтобы спасти ее, Джиллиан, и никогда домой не вернется.
Когда включился факс и раздался знакомый гнусавый звонок и треск, Джиллиан Перхольт как раз оказалась в своем кабинете. Белый листок бумаги безвольно взметнулся в воздух, а потом совершенно обессиленный упал на край стола; послание было длинным, полным самооправданий, однако мне нет нужды пересказывать его вам: вы и сами легко можете себе представить нечто подобное. Так же легко вы сможете себе представить и Эммелин Портер; она, собственно, больше к данной истории не будет иметь ни малейшего отношения. Ей было двадцать шесть, вот и все, что вам нужно о ней знать. Впрочем, это вы и сами предполагали, наверное. Джиллиан с восторгом наблюдала, как, подрагивая, выползает из факса листок бумаги, восхищаясь отнюдь не самим письмом мистера Перхольта, а тем, что листок с нервными черными каракулями можно засунуть в такой аппарат где-то на Мальорке и он тут же появится у нее на Примроуз-хилл [7]
[Закрыть]. Собственно, факс был куплен для мистера Перхольта, редактора-консультанта, чтобы он мог работать дома, когда с ним «расставались» в той или иной газете или же ему было лень, и он чувствовал себя чересчур вольготно (в самом обычном значении этого слова), чтобы каждый день ходить в редакцию. Однако пользовалась факсом в основном Джиллиан Перхольт, которая часто получала послания – различные варианты фольклорных произведений от ученых из Каира и Окленда, из Осаки и Порт-оф-Спейна. Теперь этот факс принадлежал ей целиком, поскольку муж из дому сбежал. И хотя теперь уже «расстались» с нею и она оказалась лишней и никому не нужной ни как жена, ни как мать или любовница, она ни в коем случае не стала лишней среди ученых-фольклористов, как раз наоборот, она требовалась буквально повсюду. Ибо то были времена, когда женщины оказались в привилегированном положении, а мастерство женщин-фольклористок ценилось особенно высоко, когда в фольклористике существовали свои прорицательницы, хранительницы святынь и сивиллы, которые могли приоткрыть вечные тайны и строго сле дили за соблюдением пределов и законов, установленных их наукой.
Итак, получив послание от мужа, Джиллиан Перхольт постояла немного в опустевшем кабинете, пытаясь вообразить себя горюющей по поводу мужниного предательства, утраченной любви, может быть, еще потери старого друга и уважения в свете, как это бывает, когда стареющая женщина отвергнута ради молодой. На Примроуз-хилл в тот день сняло солнышко, а стены кабинета, окрашенные в веселый золотистый цвет, казалось, сами светились, излучая счастье и радость жизни. Джиллиан чувствовала себя – она как бы примерила эту метафору – узником, разрывающим оковы и, моргая, выбирающимся из темницы на свет божий. Она чувствовала себя птицей в клетке, газом в закупоренной бутылке, которые наконец-то нашли выход и устремились наружу. Она чувствовала, как перед ней раздвигаются горизонты ее собственной жизни. Никакого тебе ожидания совместных трапез. Никакого ворчания и стычек, никакого усталого отвращения к чуждым тебе переживаниям, никакого храпа и прочих отвратительных звуков, никаких вытряхнутых из бритвы волос в раковине…
Она обдумала ответ. И написала:
«Хорошо, я согласна. Одежда сложена в кладовой. Книги в ящиках там же. Сменю замки. Желаю приятно провести время. Дж.».
Она понимала, что ей повезло. Ее предки-женщины, о которых она думала все чаще и чаще, скорее всего, уже умерли бы к тому возрасту, которого она сейчас достигла. Умерли бы от родов, от гриппа, или от туберкулеза, или от родильной горячки, или от элементарного истощения, умерли бы – она все дальше уходила в мыслях своих по оси времени – от изношенных, никуда не годных зубов, от трещины в коленной чашечке, от голода, от удара лапы льва, тигра, может быть даже саблезубого, в результате вторжения чужого племени, наводнения, пожара, религиозных преследований, человеческих жертвоприношений, почему бы, собственно, и нет? Некоторые фольклористки рассказывали с ужасом и восторгом о мудрых Старухах-прародительницах, но она-то еще не старуха и никогда старой каргой не была, она вообще существо беспрецедентное, она – женщина с фарфоровыми коронками на зубах, с исправленным при помощи лазерного луча зрением, со своим собственным банковским счетом, со своей собственной жизнью и полем деятельности; женщина, которая летает по всему свету, которая спит на роскошных простынях в отелях всех городов мира, которая днем смотрит на белоснежные горы облаков, освещенные солнцем, а ночью – на яркие звезды, плывя себе вольготно в небесах.
Конференция в Анкаре называлась «Истории о женских судьбах». Это было удивительно удобное, всеобъемлющее название, ибо оно давало возможность высказаться любому – представителю любой страны, любого жанра, любой эпохи. Доктора Перхольт встречал в аэропорту импозантный турецкий профессор, бородатый, черноволосый, улыбающийся, и она бросилась в его объятия с вполне приличествующими случаю криками радости – то был ее старый друг, они вместе учились когда-то и бродили меж средневековых башен и медлительных, окаймленных ивами рек; у них была и своя собственная история, в общем-то, скорее незначительная, второстепенная сюжетная линия, этакая ниточка – то совсем тоненькая, то становившаяся вдруг крепче, но никогда не рвавшаяся – в пестрых коврах жизни обоих. Доктор Перхольт в данный момент была сердита на белокурую стюардессу, которая с почтительным видом кланялась седым бизнесменам, покидавшим самолет компании «Люфтганза», и говорила: «До свидания, сэр, спасибо вам большое», однако доктора Перхольт удостоила лишь снисходительного «До свидания, дорогая». Впрочем, Орхан Рифат уже за порогом аэропорта успел заворожить ее как всегда оживленным разговором; он был полон проектов, новых идей, новых стихотворений, новых открытий. Они непременно посетят Измир с группой турецких друзей, а потом Джиллиан обязательно приедет к нему в Стамбул, это его родной город.
Конференция в Анкаре, как и большинство подобных конференций, напоминала базар, где все без конца менялись и обменивались историями и идеями. Все это происходило в похожем на пещеру, довольно темном помещении театра, где не было окон во внешний мир, однако светилось множество экранов для слайдов, на которых мелькали бесплотные изображения, дергаясь и сменяя друг друга. Лучшие фольклористы выступали там, рассказывая и пересказывая сказки и истории; это никогда не даст слушателю заснуть, зато позволит рассказчику попытаться проникнуть внутрь сказки. Так, один весьма свирепого вида швейцарский ученый рассказал ужасающую историю о некоей Мэри Брюшной Тиф, невинной отравительнице колодцев, невольной убийце. Элегантная Лейла Дорук добавила страстности и цветистости в свою версию истории о Фанни Прайс, вечно дрожащей и болезненной, что жила в глубине дремучих лесов Англии. Доклад Орхана Рифата был последним; он назывался «Сила и бессилие: джинны и женщины в сказках «Тысячи и одной ночи». Перед ним выступала Джиллиан Перхольт. Она выбрала для анализа «Рассказ студента» из «Кентерберийских рассказов» [8]
[Закрыть] , то есть историю о Терпеливой Гризельде . Никого никогда особенно не привлекала эта история, хотя ее у Чосера рассказывает один из наиболее симпатичных пилигримов, книголюб, человек не от мира сего. Этот сюжет оксфордский студент почерпнул из латинского перевода новеллы Боккаччо, сделанного Петраркой. Джиллиан Перхольт эта история тоже не нравилась; но именно поэтому она и выбрала ее для своего сообщения. О чем я сразу подумала, спросила она себя, получив приглашение на конференцию в Анкару, и сама себе ответила с трепетом и дрожью: о Терпеливой Гризельде.
Итак, она выступала с докладом в Анкаре. Аудитория была смешанная – ученые, студенты. Турецкие студенты в основном походили на всех студентов мира, одетые в такие же джинсы и майки, однако в первом ряду в глаза бросались три молодые женщины, головы которых были укутаны в серые шарфы, а среди молодых людей в джинсах там и сям виднелись военные – молодые офицеры в форме. В Турции, республике светской, эти шарфы были свидетельством религиозного фанатизма, который в данной ситуации следовало рассматривать как проявление внутренней независимости, так что либеральные турецкие профессора чувствовали себя обязанными испытывать некое сочувствие к этим девушкам, хотя в любой другой мусульманской стране большая часть того, чему они учили своих студентов и чем дорожили как идеалами, непременно вызвала бы возмущение или даже запрет, точно такой же, какой могли бы вызывать эти серые шарфы здесь. Джиллиан Перхольт заметила, что молодые военные слушали очень внимательно и усердно записывали. Те три мусульманки, напротив, гордо смотрели перед собой, не желая встречаться взглядом с докладчиками; видимо, их целиком занимало собственное, всем бросающееся в глаза самоутверждение. Однако они досидели до конца и выслушали всех докладчиков. Орхан потом рассказывал, что все-таки спросил одну из них, зачем она так оделась. «Мой отец и жених считают, что так нужно, – ответила она. – И я с ними полностью согласна».
Итак, вот история Терпеливой Гризельды в пересказе Джиллиан Перхольт.
Жил-был в Ломбардии один молодой маркграф по имени Вальтер. Он радовался жизни, как и все молодые люди, любил развлечения – особенно загонную и соколиную охоту – и не имел ни малейшего намерения жениться, возможно, потому, что брак представлялся ему чем-то вроде тюремного заключения, а может, потому, что всякий брак – это конец молодости с ее вольностью и беззаботностью, если юность действительно так уж свободна от забот. Однако приехали его родные и прямо-таки заставили выбирать жену, объяснив это тем, что он должен позаботиться о наследнике, а кроме того, им казалось, что брак сделает молодого человека более уравновешенным. Вальтер поддался на их уговоры, назначил день свадьбы и пригласил их на пир, но с одним условием: пусть поклянутся, что примут его невесту, кем бы она ни оказалась.
Такой уж у него был характер – нравилось ему заставлять людей клясться неведомо в чем и заставлять их подчиняться ему безоговорочно и не ропща, тогда как сам он мог делать все что угодно.
Итак, родственники согласились, дали ему такое обещание и приготовились в назначенный день праздновать свадьбу. Они собрали угощение для пира, припасли богатые одежды, украшения и постельное белье для будущей невесты. И вот в назначенный день в церкви уже ждал священник, свадебная процессия верхом на лошадях тоже была готова, но по-прежнему никто не знал, где же невеста.
Ну а Гризельдис, или Гризельд, или Гризильдис, или Гриззель, или Гризельда, красивая и добродетельная девушка, была дочерью бедного крестьянина. В день свадьбы она пошла за водой к колодцу, ибо, обладая всеми достоинствами настоящей хозяйки дома, хотела сперва покончить с делами, а уж потом присоединиться к ряду крестьян у дороги и приветствовать свадебную процессию, что должна была проследовать мимо. Свадьбы всегда привлекают нас, делая своими зрителями-участниками. Гризельде тоже хотелось поучаствовать в свадебном торжестве и увидеть невесту – ведь все мы любим смотреть на невест. На невест и на принцесс – на существующих внутри истории, которую выдумали или вообразили себе те, кто снаружи. Вполне возможно, что и Гризельда пыталась вообразить себе чувства неизвестной юной женщины, что проедет мимо нее.
Однако на дороге появился один лишь молодой маркграф, да и тот не проехал мимо, а остановился, попросил Грнзельду поставить кувшин на землю и немного подождать. А сам отправился к ее отцу и сказал ему, что хотел бы взять Грнзельду в жены, если тот, конечно, не возражает и дает дочери свое благословение. Потом молодой человек поговорил с самой Гризельдой и предложил ей выйти за него замуж, но при одном условии: она должна пообещать подчиняться мужу во всем и делать все, как он пожелает, не колеблясь и не ропща, в любое время дня или ночи. И Гризельда, «от страха вся дрожа», по словам Чосера, поклялась, что никогда не возникнет у нее желания – ни в поступках, ни в мыслях, ни даже под угрозой смерти – выказать непослушание супругу своему, хотя, конечно же, ей было бы очень страшно расстаться с жизнью, умереть, прибавила она честно.
И тогда молодой Вальтер сразу приказал снять с девушки ее бедное платье и одеть в богатые новые одежды, которые давно уже были приготовлены. Гризельде красиво уложили волосы и украсили ее головку маркграфской короной, сверкающей драгоценными самоцветами. И вот она уехала из родной деревни, стала жить в замке и, как рассказывает нам Чосер – а он специально рассказывает нам об этом, – проявляла большую рассудительность, умела примирить спорящие стороны, была щедра и обходительна со всеми, несмотря на новое, высокое положение, и народ очень ее любил.
Однако история ее жизни неумолимо движется дальше; вот уже миновала свадьба и близится тот черный час, когда ей придется исполнить данное обещание. Учтите следующее, сказала Джиллиан Перхольт: почти во всех историях, связанных с обещаниями и запретами, эти обещания и запреты заранее обречены на то, чтобы их нарушили. Тут Орхан Рифат улыбнулся в бороду, военные начали что-то быстро писать – наверное, насчет обещаний, запретов и их нарушений, – а закутанные в серые шарфы женщины в первом ряду не мигая смотрели перед собой.
Через некоторое время, рассказывает далее Чосер, Гризельда родила дочь, хотя предпочла бы родить сына; тем не менее все обрадовались: раз эта женщина доказала, что небесплодна, то в следующий раз вполне может родить и сына. Вот тут-то Вальтеру и пришло в голову испытать свою жену. Интересно, отметила Джиллиан, – здесь студент из Оксфорда как рассказчик совершенно отстраняется от протагониста, говоря, что не может понять, зачем маркграфу понадобилось такое испытание, однако продолжает рассказывать, как Вальтер мрачно сообщил жене: народ, мол, недоволен, люди ворчат – позволили крестьянской дочери нами править, не желаем, чтобы потом нами ее сын правил. А потому, говорит рассказчик, Вальтер сам предложил предать их дочь смерти. И Гризельда сказала на это: она и ее дитя принадлежат ему, он может делать с ними то, что сочтет нужным. Итак, маркграф велел какому-то мужлану-стражнику взять дитя у матери, и Гризельда отняла девочку от груди, поцеловала ее на прощанье и попросила только, чтобы малютку похоронили там, где ее тело не смогут растерзать дикие звери.
Прошло еще сколько-то времени, и Гризельда родила сына, но ее супруг, по-прежнему настроенный продолжать испытания, снова приказал и этого ребенка отнять от груди, унести прочь и убить. А Гризельда, упорно продолжая хранить верность данному обещанию, уверяла мужа, что вовсе не опечалена этим и ничуть не скорбит, что двое ее детей принесли ей сперва лишь тошноту, «а потом страдания и боль».
И тут в повествовании образуется как бы провал, – сказала Джиллиан, – разрыв во времени, причем достаточно долгий, чтобы малые дети Гризельды, которых тайно воспитывали в Болонье, выросли, достигли зрелости и брачного возраста. Перерыв здесь такой же большой, как между третьим и четвертым актами в «Зимней сказке» Шекспира, когда королева Гермиона прячется и все считают ее мертвой, а ее дочь Утрата, брошенная на произвол судьбы и воспитанная пастухами, успевает вырасти и влюбиться в принца, из-за чего вынуждена бежать вместе с ним на Сицилию, где счастливо воссоединяется со своим раскаивающимся отцом и исчезнувшей матерью, которая является предо всеми на пьедестале в виде статуи, чудесным образом оживает и обретает счастье. В «Зимней сказке», – сказала Джиллиан, – очаровательная взрослая дочь – это как бы второе рождение матери, подобное возрождению Персефоны [9]
[Закрыть], вместе с которой возрождались весною поля, утратившие плодоро дие и превратившиеся в пустыню из-за гнева Деметры [10]
[Закрыть], богини-матери. – В этом месте голос Джиллиан чуть дрогнул. Она умолкла, подняла на аудиторию глаза и рассказала своим слушателям, как Паулина, подруга и верная служанка Гермионы, взяв на себя роль колдуньи, скульптора и рассказчицы, вернула свою королеву к жизни – Лично мне, – сказала Джиллиан, – всегда была неприятна, отвратительна эта искусственная развязка, совершенно противоположная возрождению Персефоны весной. Ибо человеческие существа не способны умирать и возрождаться вновь, подобно траве и злакам; они могут прожить только одну жизнь, потом они стареют и умирают. А у Гермионы – и, как вы, конечно, уже поняли, у Терпеливой Гризельды – большую часть этой единственной жизни отняли во имя построения сюжета, превратили их существование в серую беспросветность вынужденной бездеятельности.
Итак, что же делала Гризельда, пока ее сын и особенно дочь подрастали? История в этом месте несется галопом. Жизнь героини в мгновение ока пролетает от свадьбы до рождения ребенка и… до пустоты. Чосер даже не намекает на то, что у Гризельды рождались еще дети, хотя упорно говорит о том, что Гризельда хранила верность в любви, оставалась терпеливой и покорной. Однако ее супругу явно хотелось превзойти Паулину в желании стать дирижером событий и самостоятельно управлять действием, так что в этот период он сам находит себе занятия, например, добивается у папы римского разрешения отослать прочь свою жену Гризельду и жениться на молоденькой девушке. А люди кругом шепчутся об убиенных детях. Однако Вальтер, если верить этой истории, идет к своей терпеливой жене и сообщает ей, что намерен заменить ее на другую, более молодую и подходящую, а она, Гризельда, должна вернуться к своему отцу-бедняку, оставив в замке все богатые наряды, украшения и прочие вещи, некогда подаренные ей мужем. И заметьте, Гризельда вновь проявляет терпение, хотя здесь-то Чосер и приводит ее просьбу, свидетельствующую о внутренней силе героини, и слова Гризельды вызывают у читателей сочувствие и не дают нетерпению взять над этим сочувствием верх.
Гризельда говорит своему мужу: «Нагая пришла я к тебе от отца моего, нагой к нему и вернусь». Но поскольку у нее отняли тогда всю старую одежду, она просит мужа дать ей хотя бы рубашку. «Вы не допустите, мой господин, – говорит Гризельда, – чтобы то тело женское, в котором зачаты были ваши дочь и сын, нагим как червь предстало бы пред взором толпы сбежавшейся… За девственность мою, что вам когда-то я принесла и ныне взять с собой уж не могу, прошу мне дать в уплату одну рубашку». И маркграф великодушно позволяет жене не снимать ту сорочку, в которой она перед ним стоит.
Однако наш герой неустанно заботится о самых различных поворотах интриги, поскольку каждая гримаса сюжета делает задуманную им развязку все более занятной и привлекательной для него. Итак, отправив Гризельду домой, ее муженек тут же является туда сам и просит снова вернуться в замок и приготовить покои для его новой невесты, а также позаботиться об устройстве свадебного пира. «Никто лучше тебя этого сделать не сумеет», – сообщает он ей. Можно было бы предположить, естественно, что после возвращения в дом отца Гризельда должна бы воспротивиться и нарушить данное некогда слово, но не такова наша Гризельда: терпеливо возвращается она в замок, стряпает, чистит, моет и готовит брачное ложе для невесты.
И вот брачная процессия прибывает в замок; среди гостей прелестная девушка, однако Гризельда продолжает трудиться на «людской» половине и в убогих одеждах, а знатные гости и их жены садятся за накрытые пиршественные столы, и начинается пир. И когда наконец Гризельде удается из темного уголка с опозданием взглянуть на свадьбу, Вальтер подзывает ее к себе и спрашивает, какого она мнения о красоте его юной жены. И Гризельда не только не проклинает ни ее, ни даже его, но отвечает, как всегда, кротко, что никогда не видела более прекрасной женщины, однако молит его всеми святыми никогда не мучить эту очаровательную девушку так, как он мучил ее, Гризельду, ибо юная невеста не так воспитана, слишком нежна и не вынесет подобных пыток.
Вот тут-то и наступает, наконец, вожделенная развязка; Вальтер открывает Гризельде , что юная невеста – вовсе не невеста его, а их дочь, а юноша с нею рядом – их сын, и обещает жене, что все отныне будет прекрасно и теперь она непременно будет счастлива, ибо он заставил ее пережить все эти испытания не по злобе и не из жестокости, но только чтобы проверить ее верность, и не обнаружил в ней ни малейшего изъяна. И все могут друг с другом помириться.








