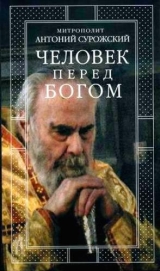
Текст книги "Человек перед Богом"
Автор книги: Антоний Митрополит (Сурожский)
Жанр:
Религия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 49 страниц) [доступный отрывок для чтения: 18 страниц]
И в этом смысле я глубоко уверен (я сейчас говорю теоретически, я не говорю о конкретном безбожнике или об уродстве того, что бывает) в том, что Христос именно держит в Себе все и что поэтому есть тайна спасения гораздо более таинственная для нас, менее понятная для нас, чем такое представление: вот, верь, живи хорошо, веруй во Христа – и спасешься; что есть тема атеиста, тема безбожника, которая разрешается во Христе, а не вне Христа.
Я не знаю, ужасает ли вас такой подход, но я к этому пришел постепенно очень сильным переживанием – ну, сколько я умею переживать…
Можно ли Вас так понять, что в тот момент, когда Христос переживал эту полную богооставленность, Он переживал в самом предельном смысле человечность?
Нет, я бы так не сказал, потому что человек, как Бог его задумал и создал, не был оторван от Него. Оторванность – плод нашей греховности. Но Христос не вступает в область нашего греха, то есть Он приобщается не греху, а его последствиям. Мне кажется, что Христос, с одной стороны, выбрал абсолютную солидарность (если можно употребить такой небогословский термин) с человеком и должен был вместе со всем человечеством испытать богооставленность и потерю Бога и от этого умереть; и, с другой стороны, потому что Он выбрал бескомпромиссную солидарность с Богом, Он был извержен человеческим обществом и должен был умереть вне стен, то есть вне града человеческого, на Голгофе.
В этом направлении мы находим, может быть, картину, реализацию того, о чем говорит Иов: Где тот, кто станет между мной и Судьей моим, положит руку свою на Его плечо и на мое плечо? Где тот, который станет именно в середину, в сердцевину трагедии, которая разделяет Бога и человека? (см. Иов 9, 33). И Бог-Слово вступает в эту сердцевину во всех отношениях, плотски и душевно, и в Себе, внутри Себя совмещает рознь и примирение. Он до конца человек – Он до конца Бог; и то, что между Богом и человеком проходит как явление между двумя лицами, в Нем сосредоточено в одном Лице, и в одном Лице эта проблема разрешается. Но исторически, то есть физически она разрешается отвержением со стороны человеческого общества и богооставленностью.
И у меня вдохновляющая надежда, что можно осмыслять – я не говорю: атеизм во всех его элементах, – но что есть какие-то поиски, которые надо совершать. Не говоря уж о том, что очень многое в безбожии рождено не отрицанием Бога, Какой Он есть, а Бога, Каким мы Его представляем. Если взять историю христианского мира, то можно отшатнуться. Мы так часто – и в нашей отечественной истории, и на Западе – представляли Бога в таком виде, что можно сказать: я не могу признать в Нем свой идеал.
Я как-то прочел лекцию на тему "Бог, Которого я могу уважать". Если бы я не мог уважать Бога, будь Он или не будь, я не выбрал бы Его как своего Господина. Я могу уважать Бога именно ради Воплощения и того, что случилось. А Бога, Которого боятся, перед Которым раболепствуют, – нет, слава Богу, человек не согласен принять, потому что и Бог не согласен, чтобы к Нему так относились; Бог не может нас принять как рабов. Я читал ряд лекций в Кембриджском университете на тему "Бог, Каким я Его знаю"; я выбрал такую тему, потому что она мне позволяла говорить только о том, в чем я уверен, без того чтобы кто-нибудь мог мне сказать: да, но вы не осветили такие-то и такие-то стороны… – о которых я по необразованности, может быть, и понятия не имею, не слыхал. Так вот, я попробовал показать, что Бог достоин нашего уважения, что это не только Бог, перед Которым мы преклоняемся, потому что Он Бог, но такой Бог, Которому можно отдать свою жизнь.
Теодицея потому так часто бывает слабой, что стараются "оправдать" Бога на таком уровне, на такой плоскости, где из Бога делают образ человека, и ничего не остается от Бога в Его величии. Конечно, Бог не требует от нас и не ожидает от нас только поклонения. Когда апостол Павел говорит: Мы стали Богу свои (см. Еф. 2,19), когда Христос после воскресения говорит Марии Магдалине, имея в виду апостолов: Иди и скажи братии Моей (см. Ин. 20, 17), – это значит, что мы стали Ему настолько свои и родные, что должны бы Его знать достаточно; и для этого мы должны продумывать то, что знаем о Нем, ставить перед собой вопросы. Опять-таки, мы грешим против Бога, когда встает вопрос и мы его решаем против Бога без размышления, так же как атеист, потому что в нас есть какая-то доля неопытности, отсутствия опытного знания. Но я не думаю, чтобы Бог гневался, когда мы Ему говорим: Я Тебя не понимаю… Мы легко, часто "оправдываем" Бога: ну, конечно, я недостоин… Само собой разумеется, что мы и вправду часто недостойны, но это можно и в скобки взять, и поставить вопрос себе о Боге или перед Богом в молитве: Господи, я Тебя не могу понять, и это непонимание стоит между Тобою и мной – помоги!.. Мы могли бы в каких-то наших решениях ошибаться, но пока наша ошибка заключается в том, что мы ощупью ищем настоящего ответа, мы не подпадаем под осуждение; осуждение начинается там, где мы просто для удобства или почему-либо еще отказываемся от истины, потому что слишком дорого стоит ее искать
«Вечность мук» или «уверенность надежды» во всеобщем спасении?
Владыко, что вы можете сказать о своем отношении к учению, которое говорит, что грешники будут прощены в конечном итоге и что ад несовместим с представлением о вечности? В частности, Бердяев настаивал на том, что учение об аде имеет скорее психологическое значение, чем богословское.
Это колоссальная тема! В двух словах я могу ответить так: уверенность в спасении всех не может быть уверенностью веры в том смысле, что в Священном Писании нет ясного, доказательного утверждения об этом, но это может быть уверенностью надежды, потому что, зная Бога – каким мы Его знаем, – мы имеем право на все надеяться. Это очень коротко, но достаточно точно выражает то, что я думаю.
Если немного это развить, я думаю, можно сказать несколько основных вещей. Во-первых, в языковом порядке. По-русски, когда мы говорим "вечное", мы имеем в виду разные вещи: мы говорим, что Бог "вечен", и мы говорим "свой век вековать". В одном случае мы говорим о Боге, указывая на то, что у Него нет ни начала, ни конца, что вечность Божия беспредельна, вневременна, надвременна; во втором случае выражение "век вековать" значит прожить ограниченное количество времени. И когда вы читаете Священное Писание и отцов Церкви, встает вопрос о том, что мы хотим сказать, когда употребляем слово "вечность", применяя его к Богу или к твари. В некотором смысле, нет соизмеримости между Божией вечностью и тварной вечностью: тварная вечность укладывается в пределы времени; Божия вечность никакого отношения к времени не имеет. Когда мы говорим, что Бог вечен, мы не говорим о каком-то длении; это одно из выражений, которое значит: Бог, какой Он есть.
Если обратиться к Священному Писанию, когда говорят о Суде, постоянно приводится тот или иной текст, как будто он единственный и самодовлеющий. Текст, который всегда приводится, – это притча о козлищах и об овцах (см. Мф. 25, 31–46). Если мы себе ставим вопрос об этой притче, мне кажется, что мы ошибаемся, если думаем, будто центр тяжести, смысл этой притчи – описать вечную судьбу одних или других. Центр тяжести притчи не в том, чтобы сказать, что одни пойдут в огонь вечный, а другие – в радость вечную, а чтобы указать, на каком основании этот суд происходит. Прочтите, и вы увидите, что тема поставлена драматически – как суд; но урок, который при этом извлекается (больных не посещал, голодных не кормил и т. д.), можно свести к такой фразе: если ты человечным не был, просто – человеком не был, не воображай, что ты божественным будешь.
Вот, в сущности, мне кажется, тема этой притчи, гораздо более чем описание овец и козлищ. Но даже если понять эту притчу как притчу о критериях суда – что мне кажется более верным, – а не просто о суде, то надо ее сопоставить с другими притчами, другими высказываниями Христа. Христос с тем же авторитетом нам говорит: совещавайся со своим соперником, пока ты на пути, как бы он тебя не предал судье, а судья – истязателю, и не посадил бы тебя в темницу; и не выйдешь ты из нее, пока не выплатишь последнюю полушку (см. Лк. 12,58–59). Это уже вовсе не говорит о том, что грех имеет своим результатом вечное мучение. Из этой дилеммы католики выходят тем, что козлища и овцы определяют ад и рай, а этот период тюремного заключения – чистилище. Но это – измышление; справедливо оно или нет, но это плод человеческого творчества, это не сказано. Если мы принимаем всерьез одно место, мы должны также принимать интегрально серьезно другое. Апостол Павел говорит, что когда все будет завершено, Христос предаст Свою власть в руки Отца, и тогда будет Бог все во всем (1 Кор. 15, 28). Этим он говорит что-то очень определенное: все во всем не значит «нечто в некоторых» или «все в немногих». Опять-таки, Иоанн Златоуст выходит из положения, объясняя, что те, которые согрешили и будут козлищами, будут как бы призраками, в них не будет реальности, и поэтому Бог будет все во всех – в тех, которые имеют реальность… Если бы такое объяснение не принадлежало Иоанну Златоусту, я бы сказал: это передергивание, потому что текст ничего подобного не говорит; это способ объяснить в пределах предвзятого богословия текст, который иначе не объясним. Но было бы, вероятно, и добросовестнее, и более творчески сказать: не понимаю!.. Это было бы очень просто; и все бы это приняли, потому что никто не ожидает, что все до конца понятно. Есть и другие места, но достаточно и этих трех примеров.
Если же вы берете отцов Церкви – и богословских, и аскетических, – то вы видите, во-первых, что они выражали разные мнения, а, во-вторых, что те мнения, которые были приняты или осуждены, были приняты или осуждены без осуждения человека. Скажем, учение Григория Нисского о всеобщем спасении было осуждено, вернее, не было принято как учение Церкви: оно не было анафематствовано, но и не стало учением Церкви. Если вы вдумаетесь в него, оно говорит, в сущности, очень коротко и упрощенно следующее: Бог, будучи Любовью, не может осудить на вечное мучение Свою тварь; поэтому Он всех простит и все войдут в Царство Небесное. Но тут есть нравственный момент, или, если предпочитаете, безнравственный момент. Зло не может просто потому войти в Царство Божие, что Господь скажет: Я тебя прощаю… Человек, сотворивший зло, должен перемениться для того, чтобы войти в Царство Небесное. Если вы в Царство Небесное введете человека, которому чуждо все содержание этого Царства, он будет в аду; так же как если человека, который ненавидит музыку, посадить в концерт, он будет ерзать от страдания, и ваша доброта в том, что вы его туда пустили, ему ничем не поможет.
Есть целый ряд других соображений, которые уже относятся к размышлению на тему больше, чем к текстам и к недоумениям, которые рождает текст. Возьмите картину Страшного суда, которую дает апостол Павел (правда, не собирательно, а в различных местах своих посланий). Картина такова: будет суд, судить будет Христос, – но будет ли это похоже на нормальный, справедливый суд? В любой нормальной стране есть законодательная инстанция, которая вырабатывает законы по принципу какой-то справедливости, может быть, справедливости с определенной точки зрения, но все равно, на принципиальном основании; затем есть судья, который непричастен созиданию закона и не может закон менять, он должен его применять; есть обличитель, есть виновный, есть защита. А теперь поставим себе вопрос: похоже ли на этот трафарет наше представление о Божием суде? Законодатель – Бог, судья – Бог, защитник наш – Христос, искупитель наш – Христос, и если весь род человеческий поставить на суд, один из подсудимых – Сын Человеческий, Иисус из Назарета… Какая же это картина суда? Разумеется, Павел никогда и не думал представить суд в таком порядке, но если уж мы хотим говорить о правосудии в человеческой форме, то вот вам и правосудие: кто кого может судить в этом деле, кто кого будет засуживать? Кто создал закон?
И еще: сущность Царства Божия – любовь; сущность царства тьмы – нелюбовь, ненависть, мертвенность по отношению к любви. И вот, представьте себе Царство Божие, в которое вошли беленькие, а снаружи остались черненькие – скажем, овцы и козлища. Каково будет овцам-то в Царстве Божием? Когда вы думаете теоретически: "овцы и козлища", – вас это не особенно волнует, потому что вы никогда ни овцой, ни козлищем не были. Но если себе представить реально: вот, тебя пустили в Царство Божие, а твоего мужа, твою мать или сестру определили в царство тьмы – каково тебе будет в этом Царстве Божием?.. Выйти из положения, как Фома Аквинат выходит (говоря, что тогда мы поймем, что Бог справедлив, и все, что Он делает, – правильно), невозможно, недостаточно, потому что я, может быть, и скажу, что Бог во всем прав, а душа-то моя будет разрываться. А если она не будет разрываться, значит во мне любви-то не так уж много, раз я могу забыть самых родных, самых близких, тех, которые для меня были кровью и плотью моей жизни, просто потому, что сам в рай попал. Если себе представить это картинно (я, знаете, мыслю очень примитивно, вы это, наверное, замечали уже): в центре будет Бог, Который есть Любовь, Который создал всех по любви, Который в конце книги Ионы говорит: Вот, ты плачешь об этом деревце, которое в одну ночь выросло, Мне ли не горевать о целом городе Ниневии, который Я создал? (см. Иона 4, 10–11) – в центре будет Бог, Который есть совершенная Любовь, Который безутешно будет думать о тех, кто вне Царства Божия; потом, по мере того, как концентрическими кругами идут люди с меньшей и меньшей любовью, им будет спокойнее и спокойнее. Единственные, пожалуй, которые будут совсем спокойны, – это те, кто на краю, смотрят через плечо и думают: Слава Богу, я не там! (Знаете, как человек, который вскочил в автобус в последнюю минуту и думает: упаду или не упаду? – и радуется, что он в автобусе и не упал на улицу). Это единственные, кого я могу представить, кому "хорошо". Простите, это, конечно, плохое богословие, но это мое восприятие вещей.
Конечно, такого рода логических выкладок недостаточно, чтобы решить вопрос; но есть и другие вопросы. Нам говорится в книге Откровения о том, что суд придет, когда завершится полное число избранных, и употребляется по отношению к Израилю цифра сто сорок четыре тысячи (см. Откр. 7, 4; 14,2). Но это символика: сто сорок четыре – это двенадцать раз двенадцать, двенадцать в себе содержит три и четыре… Это все комбинации цифр, которые представляют собой символику, – ясно, что это не полное число спасаемых. Далее, когда мы думаем об избранных, мы всегда представляем их привилегированными; избранник – это тот, кому досталось что-то очень хорошее в жизни. Но если мы думаем об избранничестве в Новом Завете, тут избранничество заключается в том, что в человечестве, из человечества Бог выбрал людей, которые согласны разделить Христову крестную участь; наше избранничество – крестное избранничество, а вовсе не избранничество на славу и покой. И тогда можно себе такой вопрос поставить (я его не разрешаю, я просто ставлю вопросы перед вами): не зависит ли спасение мира от того срока, когда земля принесет в дар Богу тех людей, которые вместе со Христом могут поднять тяжесть ее греха и ее спасти? Но – как? Опять-таки намек и вопросительный знак. Французский богослов Жан Даниелу говорит в одной из своих книг, что страдание – единственный встречный пункт между злом и невинностью в том смысле, что зло всегда врезается в человеческую плоть или в человеческую душу и тот, кто является невинной жертвой, в силу своего страдания, своей невинности получает власть прощать. Христос, умирая на кресте, говорил: Прости им, Отче, они не знают, что творят…
Если говорить на эту тему еще минутку-другую, думаю, надо обратить внимание вот на что. Отцы Церкви применяют к сатане отрывок из Исаии: Я поставлю престол мой над небесами (Ис. 14, 13). Цель сатаны – создать независимое от Бога, самостоятельное вечное царство. Вечный ад в этом смысле – победа для сатаны: параллельно с Богом он осуществит то, чего хотел, он будет нераздельный царь вечного, со-вечного ада. Это непонятно.
Есть и другие моменты. Если вы возьмете таких людей, как Исаак Сирин, некоторые места из Ефрема, некоторые места из других отцов, вы увидите, что и они воспринимали вещи гораздо менее просто и примитивно, чем "козлища" и "овцы". Скажем, Исаак Сирин говорит: Единственный огонь ада – это Божественная любовь… Или – что значит "вечный огонь"? Неужели вопрос о длении, в том, сколько это длится? Мы все знаем выражение "сгореть со стыда": в одно мгновение можно действительно сгореть от стыда, и ничего не прибавится от того, что ты будешь гореть часами. Мгновение, когда вдруг тебя сцапали и стыд тебя покрыл, имеет какую-то окончательность, вневременную окончательность, которая может быть названа как вечным огнем, так и мгновением.
А теперь думайте сами на эту тему и – надейтесь; и если бы мы надеялись больше, то, когда нам перепадает страдание, скорбь, унижение и т. д., мы могли бы отзываться так, как древние христиане делали: Слава Богу! я получил над этим человеком, над этим людьми власть прощения… Как опять-таки другой страдалец писал перед своей смертью: Только мученик в день Страшного суда сможет стать перед престолом Божиим и сказать: Господи, Твоим именем и по Твоему примеру я им простил; Ты не можешь их осудить!.. Это власть, которая нам дана вязать и решить. И всем дана! Подумайте просто об этом. Это не вероучение, это надежда христианская, или во всяком случае надежда некоторых из нас.
СОЗЕРЦАНИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Взаимосвязь созерцательной и деятельной установки. Сущность Христовой деятельности – любовь. Молчание и речь
Есть две темы сейчас на Западе, которые в духовной жизни представляются трудными и вызывают напряжение. Это, с одной стороны, вопрос о том, как жить и действовать христианину, и с другой стороны – есть ли еще какое-нибудь место для созерцательной жизни; каким образом можно жить в гуще жизни и выполнить свое призвание к созерцанию; как можно быть созерцателем и вместе с этим не уйти куда-то внутрь себя или в какую-то вещественную, пространственную пустыню.
И вот мне кажется, что Евангелие нам дает творческое и замечательное разрешение этого противоположения, только при условии, что мы не будем изначально определять деятельность и созерцание в несовместимых терминах. Если мы начнем с того, чтобы их определить несовместимо, мы, разумеется, не сможем их нигде свести.
Обыкновенно деятельность определяется своим предметом: деятельность врача – это забота о больных; деятельность юриста – это определенный круг юридической работы и т. д. И человека в этом деле часто забывают; забыт тот, кто делает, а помнится только дело. Кроме того, значительность дела по мирским, обычным масштабам измеряется успехом. Эта терминология успеха и поражения или провала играет сейчас, думаю, громадную роль везде, потому что это человеческие, а не общественные категории. И она создает громадные проблемы, потому что неудачник клеймится как обществом, так и своей совестью; но неудача-то измеряется успехом, который, в свою очередь, измеряется внешними критериями.
Что касается созерцательного момента, мы так привыкли, что созерцание связано с определенной формой жизни (скажем, созерцательное монашество – это пустыня, затвор, монашеская келья, это уход из жизни), что нам больше не представляется естественным думать о созерцательной жизни в самой сердцевине общественной деятельности. И здесь возникает противоречие, которое нам надо разрешить, если мы хотим быть христианами, потому что мы не можем вести христианскую жизнь вне созерцания, ибо нет познания Бога и общения с Ним вне хотя бы созерцательной установки. Самое созерцание – это дар Божий; но та установка, благодаря которой созерцание может случиться, может быть дано, – она зависит в значительной мере от нас. И вот мне хочется продумать с вами немного вопрос о том, прежде всего, что такое деятельность для христианина.
Вообще-то говоря, для христианина деятельность, созерцание, молитва, все, что составляет его христианскую природу, заключено во Христе, то есть все, что в нас не совместимо и не совпадает со Христом, это еще в нас не христианское.
Если мы молимся как бы наперекор воле Божией, – что делается нами постоянно, когда над нами властвуют желания, мечты и мы говорим: “Господи, дай! Дай! Дай!” – зная, что это не в плане строительства Царства, что это только в плане моей личной жизни, – мы вне Христа, или вернее, мы становимся в другое положение по отношению к Нему: это уже не то положение, где мы с Ним участвуем в спасении мира, участвуем в жизни Бога, спасающего мир. Какова же была деятельность Христова?
Во-первых, она не определялась предметом; она определялась милосердием, любовью, жалостью. Все случаи исцелений, которые мы находим в Евангелии (воскрешение сына вдовы Наиновой или Лазаря), все чудеса, которые Христос творил над природой (как умирение бури на море Тивериадском), определяются только одним: Ему жалко, в самом сильном смысле этого слова, жалко погибающей твари, и Он вступает и что-то делает по милости, по милосердию. Но никогда в центре не стоит самое дело. Он никогда не творил чудес ради того, чтобы совершить чудо. Он не определил Себя в истории человечества как целителя, как того, кто может привести в гармонию природу, того, кто может превратить камни в хлебы, того, кто может взять такую власть над человеком и над миром, чтобы создать искусственно, силой Царство Божие: так оно именно не может быть создано.
А второе – выражаясь по-человечески и, конечно, несколько грубо: если кто был неудачником, то это Христос, потому что если посмотреть на жизнь Христа и на Его смерть вне веры – это катастрофа. Вот человек, который всю жизнь ошибался в том, что Он Собой представляет. Он верил, что Он – Бог, и ошибался. Он творил дела милосердия – и те самые люди, над которыми Он их творил, рано или поздно от Него отворачивались; и когда пришло время входа Господня в Иерусалим и наступили Страстные дни, та же толпа, которая вокруг Него роилась, которая от Него ожидала чуда, исцеления, милости, учения, повернулась против Него; и после страшной Гефсиманской ночи начинается Страстная неделя и, в конечном итоге, гибель. (Я говорю сейчас как человек, который не знает о Воскресении Христа.) В конечном итоге – совершенное поражение. Он умер как преступник; Он не умер как герой или мученик; Он не умер за идею; Он умер, потому что Ему приписали политическую недоброкачественность, Он – опасный политически и общественно человек, и Он с другими ворами и разбойниками был распят. Причем, в нашем представлении, распятие именно благодаря Христу приобрело совершенно новое значение. Для нас крест, распятие – знак чего-то великого; но в ту эпоху распинали преступников, это было то же, что на плаху послать человека. В этом не было ничего особенного, тысячами распинали людей; это даже не было зрелище особенное, а зрелище, к которому люди привыкли; ни нового, ни исключительного ничего не было, Он не был ничем выделен и погиб. И люди ходили вокруг креста и говорили: Ну что? Говорил, что Ты – Сын Божий. Если на самом деле Тебя Бог любит, пусть снимет Тебя сейчас с креста. Ты говорил, что Он к Тебе имеет особое благоволение: сойди с креста – мы поверим…
Так что говоря о деле Христа, о том, как Он действовал, можно сказать, во-первых, что Его деятельность ничуть не определялась предметом. Он не искал быть целителем, чудотворцем или чем-нибудь особенным. Единственным двигателем была любовь, милосердие, сострадание, заботливость, причем настолько неразборчивая, что Его и за это упрекали: Он спасает из подонков тех, которые ими и должны бы оставаться, чтобы люди приличные не терлись о них в обществе. И, с другой стороны, Он поражен по всей линии, неудачник во всем.
В этом отношении мы должны быть очень осторожны, когда думаем о христианской деятельности как о такой деятельности, которая целесообразна, планомерна, успешна, которая обращена к определенной цели и ее достигает, которая так проводится, что венчается успехом. Это не значит, что успех, планомерность, целесообразность не соответствуют христианской деятельности, но не в них сущность христианского момента, Христова момента в деятельности. Сущность его в том, что Христос во всей Своей деятельности, в каждом слове, в каждом деле, во всем Своем бытии выражал, делал конкретной, реальной волю и любовь Божию. Христос был как бы Божественным действием. Это был Бог действующий, Бог в движении, динамика Божественная в плоти. И это очень важно, потому что характерная черта христианского действования – не активизм, а то, что кроме христианина никто не может быть посредником, проводником прямого Божественного вмешательства, потому что нам дано знание, определенное знание. Христос нам сказал: Я вас больше не называю рабами, Я вас называю друзьями, потому что раб не знает, что делает его господин, – вам Я все сказал (Ин. 15,15). Вот принципиальная основа; то, что каждый из нас в частности не способен к этому от себя, изнутри, говорит только о том, что у нас нет той глубины приобщенности уму Христову, о которой говорит апостол Павел (1 Кор. 2, 16), нет чуткости к водительству Святого Духа. Но принципиально это не меняет ничего; ни отдельный христианин, ни какая бы то ни было христианская группа людей, ни Церковь через большое “Ц” или даже церковь через самое маленькое “ц”, то есть любая конкретная христианская община, даже как бы бездарная, – не может о себе иначе думать. Наше призвание – быть тем местом, где Бог свободно действует, и теми людьми, через которых Он действует свободно.
Но когда именно встает вопрос: откуда же может христианин – будь то Церковь в целом или кто-либо в отдельности – быть таким Божественным действием, проводником, посредником такой Божественной динамики? Думаю, мы находим ответ на это тоже в Евангелии, если обратиться к образу Христа. Помните, в пятой главе Евангелия от Иоанна, которая читается на отпевании, в конце говорится: Якоже слышу, сужду, и суд Мой праведен есть, ибо Я не ищу воли Моея, но воли пославшаго Мя Отца (Ин. 5,30). Именно: как Я слышу, так Я сужу; то, что Я слышу, Я повторяю, и это – Божественный суд; и потому Я это делаю, что не ищу Своей воли, Я не ищу того, чтобы выразить Сво мнение, Свое желание, Свое волеизъявление; Я прислушиваюсь, и Мои слова выражают то, что Бог говорит. Вот здесь – таинственная и основная связь между глубинами молчания и произнесенным словом.
Один анонимный подвижник XI века, который оставил довольно мало писаний, но интересных, говорит: Если мы имеем право по справедливости, согласно Священному Писанию, называть Христа Словом Божиим, то мы можем сказать, что Бог – это то бездонное молчание, из которого Оно рождается в чистоте… И это очень важно, потому что связь между словом и молчанием имеет огромное значение. Один из подвижников Церкви эпохи отцов пустыни, Авва Памво, был как-то призван своими братьями сказать приветственное слово навещающему их епископу. Он отозвался: Я ему ничего не скажу… – Почему? – Потому что если он не может понять моего молчания, ему никогда не понять моих слов… Мы обманываемся, когда думаем, что общаемся друг с другом через слово. Если между нами нет глубины молчания, слова ничего не передают, – это пустой звук. Понимание происходит на том уровне, где два человека встречаются глубинно именно в молчании, за пределом всякого словесного выражения. И вот о Христе этот монах говорил, что Он – Слово, которое до конца выражает содержание такого молчания. Не слово, которое рождается из внутренней тревоги (как часто мы говорим не из глубины, а от какой-то поверхностной ряби в нашей душе), а то слово, которое рождается, когда, говоря из человеческого опыта, человек или сам войдет внутрь, в глубокую молчаливость, или когда, бывает, нам дается молчание. Когда вдруг на нас, как благодать, сходит такая тишина, такая внутренняя умиротворенность и молчание, что если два человека охвачены таким молчанием, они сначала не могут даже говорить друг с другом, потому что сознают, что любое слово разобьет это молчание, оно разлетится вдребезги с ужасным треском, и ничего не останется. Но если себе дать молчать дальше и дальше, то можно вмолчаться в такую тишину, когда знаешь, что теперь, на этой глубине молчания, можно говорить, не нарушая его, а придавая ему словесную форму. И вы наверное замечали, как тогда говоришь тихо, спокойно, как выбираешь слова, как ничего не оставляешь случайности и лучше оставляешь что-нибудь недосказанным, чем пересказанным; потому что каждое слово должно быть правдой о том, что содержит молчание.
Видение Бога В мире. Разные уровни жизни. Человеческий опыт и Божественная эсхатология
Возвращаясь к цитате: Якоже слышу, сужду, и суд Мой праведен есть… Христос был именно так молчалив, что мог слышать, и так слышал, что мог произносить слова, которые были Божии. В этом смысле Он – Божие Слово во всех отношениях, каждое Его слово есть Божие, не потому только, что Он Бог, а потому, что то, что Он говорит, идет из недр Отчих.
И то же самое относится к Его действиям. Есть разные места в Евангелии, где указывается мимоходом, что Бог, Который почил от дел Своих в седьмой день, не оставил мир на произвол судьбы. Творческое Его действие кончено, но промыслительное действие, Его труд над спасением мира продолжается. И есть ряд мест, где говорится, что Бог и доселе творит: Он показывает Мне дела, и Я их творю (Ин. 5,17–20). Опять-таки, то, что по отношению к слову есть молчание и слышание, здесь – та углубленность, которая дает Христу видеть действующего Бога, видеть невидимое действие, как бы чистую динамику Божественную в этом мире, и воплощать, внедрять Божие действие в тот мир, в котором мы живем. Вот почему Христовы действия, Христовы слова так совершенны, и вот что они собой представляют. И наше призвание как христиан – так обладать умом Христовым, так быть движимым Духом истины и Духом сыновства, так уметь слушать и вглядываться, чтобы наши действия были действиями Самого Бога, которые Он творит через нас. Один из пророков, кажется, Амос, говорит: пророк – это тот, с кем Бог делится Своими мыслями. Мы призваны так быть пророками: не в том смысле, в котором мы говорим о пророчестве как бы о даре предсказания, – не в этом дело. Можно ничего не предсказывать, но тот, кто за Бога говорит вслух Божественные слова, есть пророк в этом смысле.








