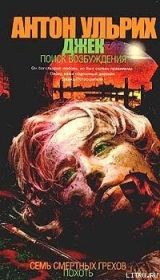
Текст книги "Джек. В поисках возбуждения"
Автор книги: Антон Ульрих
Жанр:
Ужасы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 14 страниц)
После того как я назвал неправильную букву, ход перешел к Руфусу. Мой соперник, поведя ладонью по мокрому от пота лбу, медленно произнес:
– Буква G.
– Есть такая буква, – несколько тревожным тоном сказал Джимбо и, мельком бросив взгляд в мою сторону, кивнул Малышу Саймону. Тот вывел мелом следом за «N»
букву «G» и тоже тревожно посмотрел на меня. Я встал рядом с Руфусом прямо перед петлей. Со спины мне было не видно, но сейчас я заметил, что Руфус прямо-таки не сводил глаз с медленно раскачивающейся петли.
– Итак, достопочтенный Руфус, ты назовешь нам букву? – спросил Джимбо.
– Да. Это буква L, – сказал кандидат на место председателя клуба, часто моргая глазами.
Джимбо с шумом перевел дыхание.
– Нет. Такой буквы здесь нет! – громко объявил он.
Члены клуба зашумели, разом поворачивая головы к доверенному лицу из числа попечительского совета, загадавшему слово и теперь сидевшему на отдельной лавке, дабы исключить подсказки. Руфус тоже с надеждой посмотрел на доверенное лицо. Тот отрицательно покачал головой. Такой буквы в этом слове действительно не было.
Наступил решающий момент. Джордж, пританцовывая от возбуждения, подошел к несчастному сопернику и стал надевать ему на голову петлю. Я ожидал, когда же нервы Руфуса не выдержат и он откажется от дальнейшей борьбы, что и подсказывали со своих мест те немногие члены клуба, у кого осталась толика здравого смысла, однако ничего подобного не произошло. Руфус позволил надеть на себя петлю. Джимбо потуже затянул узел на шее и отошел на свое место, поглядев на меня и удивленно пожав плечами.
Наступила полная тишина. Лишь свечи изредка щелкали, догорая. Руфус возвышался на виселице, стоя с петлей на шее, бледный, как мел в руках Малыша Саймона. Он мелко дрожал, балансируя на непрочном трехногом табурете, и сильно потел. Капли пота стекали по лицу Руфуса, образуя блестящие дорожки.
Я же внимательно смотрел на грифельную доску. Ведь если я не догадаюсь, что за слово задумано, то мне придется поменяться местами с соперником и самому надевать эту дурацкую петлю. И вдруг я догадался! Внезапная мысль тут же вызвала неожиданную эрекцию. Видимо, виной тому был вид приготовленного к повешению соперника.
– Я знаю, что это за слово! – громко произнес я. – Это слово ANGER (гнев)!
– Правильно! – воскликнул сэр Джордж Мюррей-младший. – Ты выиграл!
И тут случилось неожиданное. От его крика стоявший на непрочном табурете Руфус, который едва держался на ногах, сильно качнулся в сторону. Табурет зашатался и накренился. С трудом удерживая кончиками носков табурет в вертикальном положении, несчастный, выпучив глаза и схватившись руками за петлю, сильно сдавившую шею, захрипел:
– Снимите меня. Я проиграл. Я согласен.
Табурет закачался, все сильнее вихляясь в разные стороны, и вдруг со стуком рухнул на пол. Неумело сделанная петля, а также тщедушный вес повешенного не позволил виселице сломать шейные позвонки сыну декана, поэтому он не умер сразу, но петля продолжала душить несчастного. Выпучив глаза и пытаясь найти пальцами свободное пространство между шеей и веревкой, Руфус забился в агонии, хрипя и плюясь пеной.
Все произошло так быстро, что никто не успел ничего сообразить. Первым опомнился Джимбо. Он подскочил к болтающемуся Руфусу, выхватил из кармана складной ножик и принялся перерезать веревку. Но веревка оказалась хорошей, сплетенной из множества волокон первосортной пеньки, и с трудом поддавалась ножу. Остальные члены клуба столпились внизу и смотрели, ничем не пытаясь помочь несчастному. В их глазах читался смертный приговор.
– Оставь его, – неожиданно даже для самого себя властным тоном приказал я Джимбо. – Пусть умирает. Если ты его спасешь, то он же тебя и заложит.
Джордж повернулся, чтобы что-то сказать мне, и тут брюшные мышцы повешенного Руфуса внезапно расслабились, и он обмочил председателя.
– А, черт! – выругался тот, запоздало отскакивая в сторону.
Через пару минут лицо Руфуса посинело и он, перестав дергать членами, затих.
– Он умер, – медленно констатировал я. Застывшие перед виселицей члены клуба с воплями бросились из «Ученого погоста».
Так я стал новым председателем Малого оксфордского клуба. Конечно, затем было дознание и следствие, однако ничего доказать не удалось, и происшедшее списали на несчастный случай во время обычной мальчишеской шалости. Правда, декан филологического факультета, убитый горем отец, настоял на том, чтобы Джимбо, считавшийся главным действующим лицом разыгравшейся драмы, так как все свидетели показали, что именно он надел несчастному на шею петлю, был отчислен с первого курса университета. Да оно и к лучшему. Не прожив и полугода после этого события, декан скоропостижно скончался, а сэр Джордж Мюррей-младший уже на следующий год был восстановлен и стал учиться на одном курсе со мной.
Глава четвертая
– Простите, сэр, но это необходимая мера, – извиняющимся тоном сказал сержант Годли и окунул голову начальника в бочку с дождевой водой.
Фредерик Эберлайн и Годли стояли на заднем дворе опиумного притона. Кругом не было ни души, поэтому-то сержант и выбрал это место, чтобы никто не видел этого позорящего Скотленд-Ярд действа.
Невысокий и щуплый Эберлайн не мог противостоять крепышу Годли, возвышавшемуся над ним почти на целый фут, и его решимости привести инспектора в чувство.
– Терпите, сэр. Еще немного, сэр, – приговаривал сержант, крепко держа своей огромной дланью голову начальника в воде.
Лишь когда огромные пузыри стали появляться на поверхности воды, он отпустил несчастного и позволил ему отдышаться.
– Как вы, сэр? – с сочувствием поинтересовался сержант у Фредерика Эберлайна, добродушно усмехаясь и разглядывая его мокрые волосы, которые прядями свисали на лбу, словно корни диковинной орхидеи, привезенной откуда-нибудь из отдаленной южной колонии, закрывая красивые большие глаза, скорее женские, чем принадлежащие мужчине и уж тем более инспектору Скотленд-Ярда.
– Благодарю, – коротко бросил инспектор, предпочитая не отвечать на вопрос, тем более что чувствовал он себя чрезвычайно плохо.
Именно так и должен чувствовать себя всякий, кто был выдернут из сладких наркотических грез, из нежных объятий фиолетовых фей и красного дракона и возвращен к грязной и пошлой действительности. Эберлайну чрезвычайно повезло с помощником, который, не осуждая, делал все, чтобы тайна инспектора осталась неизвестна начальству, которое, мягко говоря, неблагосклонно относилось к пьянству и наркомании среди служителей лондонского сыска. Однако же стоит заметить, что именно склонность Фредерика Эберлайна к опию позволила ему приблизиться к разгадке зловещей фигуры неуловимого инкогнито, прозванного бойкими криминальными журналистами Джеком Потрошителем. Постоянно пребывая в двух мирах – мире реальности и мире грез – Эберлайн сумел понять того, чей путь к самореализации был кровав и ужасен.
Стоявшие в полумраке заднего двора инспектор и сержант совершенно не заметили, как позади них открылась неприметная дверь наркопритона и из нее, тихо вышагивая, показался давешний китаец Мао. В руке он держал полотенце, которое и подал с глубоким поклоном резко обернувшемуся на его тактичное покашливание Годли.
– Фу! Ты напугал меня, Мао, – буркнул толстяк, передавая полотенце инспектору. – Кстати, Мао, все хочу тебя спросить, – остановил он собиравшегося было уйти под крышу притона китайца, ухватив его за широкий рукав куртки с множеством петелек спереди, – для чего это у вас тут эта потайная дверь, а?
Китаец на мгновение замер, при этом узкие глаза его быстро забегали.
– Его помощники выносят через эту дверь тела умерших, – хрипло ответил за Мао инспектор, старательно вытирая длинные волосы, – привязывают камни к ногам и выбрасывают их в Темзу. Так ведь, Мао? – полувопросительно, полуутвердительно обратился он к китайцу, возвращая полотенце.
Годли бегло оглядел длинный, всегда безлюдный и вечно темный проулок, в который даже в редкий для Лондона солнечный день лучи света не могли пробиться сквозь близко стоящие друг к другу стены бараков из красного кирпича, перевел взгляд на черные воды реки, текущей прямо у окончания проулка, и надвинулся на насупившегося Мао.
– Это так, узкоглазый?
– Моя не понимать, – пропищал тот. – Вы неблагодарный, – обратился он к Эберлайну. – Мы ублажать ваши желания. Всегда.
В инспекторе вместе с ощущением реальности проснулась совесть.
– Оставь его, Годли, – мягко отвел он помощника от китайца. – То, что здесь происходит, не наше дело.
Мао, воспользовавшись этим, тут же скрылся внутри барака, плотно закрыв за собой дверцу, безмолвную свидетельницу ужасных тайн наркопритона.
Инспектор, на которого водные процедуры и свежий воздух произвели благотворное действие, в сопровождении Годли обошел барак и уселся в ожидавший перед входом кеб.
– Итак? – задал он вопрос, привычный для постоянно отчитывавшегося перед ним сержанта. – Что мы имеем?
– Объект под наблюдением, – сухим канцелярским языком принялся излагать Годли, полуобернувшись к инспектору, отчего жесткое сиденье внутри кеба жалобно заскрипело под могучим телом. – Он вернулся из клуба в особняк около восьми вечера, после чего несколько раз был замечен в окне кабинета.
Предварительное наблюдение за объектом позволило Эберлайну бегло ознакомиться с расположением комнат в особняке на Литтл-Райдер-стрит, когда он проник внутрь дома под видом нового газовщика. Кстати, газовый рожок в кабинете лейб-медика королевской семьи Фредерик прочистил просто отвратительно, и последующее наблюдение показало, что недовольный хозяин принужден был вторично вызывать газовщика. Этот казус послужил поводом для не слишком утонченных, но чрезвычайно добродушных шуток со стороны толстяка Годли.
– Прекрасно! – сказал Эберлайн, приказывая кучеру трогаться в путь. – Значит, настала пора для решительных действий. Едем к начальству за разрешением на арест.
Кебмен хлестнул лошадей, и те с гулким цоканьем копыт о булыжную мостовую покатили кеб прочь от барака.
* * *
Когда деревенщина Руфус, вздумавший тягаться со мной в борьбе за председательское кресло, повис на виселице, дергая руками и ногами, я испытал удивительное ощущение. Вид мучающегося от удушья врага, умирающего у меня на глазах, столь сильно возбудил меня, что плоть моя словно взбесилась. Кровь стучала в висках, сердце ходило ходуном, молотом ударяясь о грудную клетку, волосы шевелились на голове и руках, встав дыбом. Так стоял я не в силах пошевелиться и, глядя на задыхающегося Руфуса, едва нашел в себе силы приказать Джорджу не трогать его. И тут же, спустя какое-то мгновение после смерти подростка, мое тело пронзила молния. Мозг отказался повиноваться, находясь в сладостной истоме и воспарив надо мной и окружающим меня реальным миром в некое подобие рая. Боже, я никогда не забуду этого мгновения, длившегося, как мне показалось, вечность!
Оргазм, испытанный мною тем вечером, был настолько силен, что я был вынужден усесться на скамью и еще долгое время сидеть не в силах пошевелиться, тупо глядя на медленно раскачивающегося в петле Руфуса, чье лицо к тому моменту страшно посинело, а язык вывалился изо рта. Нечто подобное я уже испытывал ранее, только ощущения были гораздо слабее. В колледже я часто усаживался близко к стулу учителя алгебры, за которым закрепилась слава большого любителя физических наказаний. За любую провинность учитель нещадно порол учеников перед всем классом, устроив их поперек стула и долго, кропотливо выбирая розгу. Мне до сих пор вспоминается характерное движение, которое он производил, вскидывая руку с лозой и резко опуская ее вниз. Лоза со свистом рассекала воздух, вызывая у класса тихое придыхание и громкий вскрик наказуемого. От лицезрения мучений жертвы, выбранной учителем алгебры, я всегда приходил в легкое возбуждение.
Еще более ранние воспоминания относятся к тому периоду, когда я жил в родительской усадьбе и возил дедулю в деревню. Однажды, проезжая по главной улице, мы принуждены были остановиться, так как навстречу нам показалась большая толпа мужчин и женщин, которые тащили за веревку крепко связанного грязного оборванца. Едва лишь галдящая толпа поравнялась с коляской, в которой сидел сэр Джейкоб, тот громовым голосом крикнул: «Что, черт побери, тут происходит?»
Здоровенный детина, тянущий за веревку несчастного бродягу, радостным голосом объяснил старикану, что они с братьями поймали конокрада и сейчас ведут его к шерифу нашего графства. Пока сэр Джейкоб выслушивал объяснение, я с интересом и нескрываемым удовольствием разглядывал оборванца, которого детина с братьями множество раз обвязал толстой пеньковой веревкой, более подходящей для каната, поперек тела. Видимо, скорее для острастки, нежели с иной целью, веревка была пропущена через рот конокрада, отчего тот вцепился в нее гнилыми зубами, чтобы та не порвала рот.
Оборванец, видя задержку, глубоко вздохнул и что было сил рванул в сторону, пытаясь вырваться из рук детины. Но не тут-то было. Уцепившись обеими руками за веревку, детина сильно дернул, конокрад упал в пыль, а толпа, обступившая его, со злорадством принялась пинать связанное тело. Затем конокрад был поставлен на ноги и поведен далее.
Толпа уже почти совсем скрылась из глаз, а я все стоял, не решаясь тронуться в путь, хотя сэр Джейкоб и понукал меня своим хриплым голосом, говоря, что ему необходимо срочно заехать в таверну «Морской конек» промочить глотку.
Ни одно из тех прошлых ощущений, конечно же приятных и возбуждающих, не шло ни в какое сравнение с тем, что испытал я, лицезрел смерть бедняжки Руфуса. Вот когда я понял, какое удовольствие больше всего подходит хищнику в человеческом обличье, каким был я. Именно с того дня я стал искать подобные удовольствия, возбуждавшие меня лучше всех изысканных эротических возбудителей.
* * *
После окончания колледжа я, как и предполагалось, без особых усилий поступил в Оксфордский университет и тем же летом отправился погостить в родной Суссекс. Там, в глуши поместья, среди природы на берегу Ла-Манша меня ждало новое, ни с чем не сравнимое удовольствие. В этом, как мне тогда казалось, центре ханжества и всего того, что олицетворяло в моих глазах новую, викторианскую эпоху, я научился любить и познал удовольствие быть любимым.
Родители мне ничего не писали о преобразованиях, происшедших в последнее время, поэтому я был весьма удивлен, когда, подъехав к усадьбе, увидел, что против обыкновения меня никто не вышел встречать. С недоуменным выражением лица я вышел из коляски. В доме было тихо.
Как странно, подумал я, направляясь в главный зал. Зал располагался точно посреди усадьбы, занимая чуть ли не пятую часть первого этажа здания. Самым же значительным и большим в зале был камин, спроектированный по проекту моего прадеда. Сэр Джейкоб как-то рассказывал мне, что он, еще будучи мальчишкой, видел, как работники выламывали стены в главном зале, значительно расширяя старый камин. Камин и правда впечатлял своими размерами, поскольку прадедушка задумывал его с той целью, чтобы внутри можно было при желании зажарить быка. Эта истинно джентльменская прихоть и послужила преобразованию, кое заставило впоследствии расширить и сам зал, продлив его еще на четыре примыкавшие комнаты. Едва это произошло, как прабабушка изволила заметить, что стены главного зала оказались голыми, так как великолепная коллекция французских гобеленов служила украшением лишь его части. Гобелены, устроенные по всему залу, только портили картину, да и сами терялись в огромном пространстве. Тогда прадед, который, по мнению дедули, был тряпкой и во всем слушался прабабку, не нашел ничего лучшего, как отправиться в Италию, закупить там за баснословные деньги и привезти домой огромные картины, изображавшие преимущественно фривольные картины из жизни фавнов и нимф. Сии изысканные сцены античной мифологии непременно привели бы к упадку и обнищанию нашего рода, если бы старикан вовремя не женился на моей бабушке, даме чрезвычайно одаренной и к тому же богатой. Бабушка, правда, была вдовицею, к тому же оказалась, согласно записям в приходских книгах, на пару лет старше сэра Джейкоба, что ни в коей мере не помешало дедуле ладить с ней. Я думаю, что, несмотря на все свои порочные склонности, старикан грустил и тосковал по безвременно ушедшей супруге, честно разделившей свое немалое состояние на три равные части.
Все это я описываю лишь затем, чтобы самому разобраться в тех сложных чувствах, которые я всегда испытывал, входя в огромный зал и невольно задирая голову, надеясь увидеть над сводами и поперечными балками потолка звездное небо. Да, так велик и великолепен был главный зал!
Однако же, против своего обыкновения, войдя в зал, я так и не взглянул в тот раз на потолок, надеясь увидеть далекие ночные светила. Напротив, я уставился, пораженный увиденным, на камин. В этом монстре, в котором, как я лично имел возможность убедиться, помещались на вертелах для жарки на открытом огне туша здоровенного быка и два матерых лесных вепря, стояла очаровательная девушка. Она с интересом разглядывала широкую чугунную заслонку, отлитую фламандским мастером Гансом ван дер Брилем. Заслонка, как, впрочем, и решетка, были своего рода произведениями искусства. На заслонке имелся барельеф с очаровательными ангелочками, возносящими к небу цветочные венки. Огромная каминная решетка, в свою очередь, была сплошь облеплена мятущимися телами – душами грешников, мучимых в аду ужасными демонами. Когда в камине горел огонь, то казалось, что грешники жарятся в нем, стараясь вырваться из пламени. Это было сильное зрелище для тех, кто видел камин впервые.
Я же был несказанно удивлен, увидев в главном зале усадьбы красивую девушку.
Незнакомка продолжала разглядывать заслонку, не замечая меня. Ее движения были плавными и грациозными и поражали изяществом. На вид ей было примерно столько же лет, что и мне, она выглядела еще подростком.
Удивительное дело, обычно девушки в этом возрасте нескладны и угловаты. Их руки кажутся слишком длинными, а ноги худыми. Девушки-подростки вечно что-нибудь разбивают, поэтому тетушки никогда не позволяют им приносить чай, боясь, как бы ребенок не уничтожил прекрасный фарфоровый сервиз, который их покойный муж привез еще в китайскую кампанию. Застенчивость девушек в этом прекрасном возрасте также поражает. Чуть что, они тотчас смущаются, и краски проступают на девичьих щеках огромными бутонами нежнейших роз. Их мысли еще не сформированы, их речь трудна для восприятия, чувства же полны такой прелестной новизны, что любое ощущение кажется им открытием. Посему считается, что девушками-подростками лучше всего любоваться издалека, не заводя разговоров и не прося подать что-нибудь, дабы не вводить их в смущение.
Юное создание, представшее передо мной так внезапно в главном зале усадьбы, оказалось совершенно иным, столь же полярным тому образу, который я сейчас описал, как полярны полюсы магнита. Едва лишь я сделал пару шагов в направлении камина, у которого она стояла, как она меня заметила, но нисколько не смутилась, а лучезарно улыбнулась, обнажая большие, детские, ослепительно белые зубы. Вид девушки в окружении прекрасных итальянских полотен с фривольными сценами был настолько пленителен, что я невольно заулыбался ей в ответ. Незнакомка легкими шагами подошла ко мне и, глядя прямо в глаза, заговорила:
– Здравствуй-здравствуй! Так ты и есть Джек, мой кузен? Рада тебя видеть. А мы думали, что ты приедешь не ранее завтрашнего дня. Я – твоя кузина Долорес, дочь Генриха, старшего брата сэра Чарльза.
Только после слов Долорес насчет дяди Генри я догадался, что к нам приехала погостить семья покойного. С тех пор как старший брат отца скончался от лихорадки в далекой Индии, мы ни разу не вспоминали его и не интересовались его семьей.
Кузина Долорес подошла ко мне и, нисколько не смущаясь, чмокнула в щеку. Я ощутил, как ее полные мягкие губы коснулись моей щеки. Ощущение было удивительно приятным. Затем она взяла меня за руку и повела в сад, где был поставлен стол, заставленный чайными чашками, за которым чинно восседало все наше семейство в полном составе. Даже дедуля был удостоен чести сидеть в коляске во главе стола, хотя должен отметить, что на лице Анны читалось явное неудовольствие.
– А вот и Джек! – громко воскликнула Долорес, подводя меня, словно маленького, за руку к столу.
Все повернули головы в нашу сторону. И не успел мой отец сказать свое неизменное «ну» или старикан проскрипеть «мальчик мой», как ко мне стремительно направилась крупная женщина в огромном белоснежном платье с множеством кружев и таким глубоким декольте, каких я никогда в своей жизни не видывал. На женщине была огромная шляпа с перьями, которые колыхались при малейшем движении.
– Джеки, дитя мое! – воскликнула она томным голосом стареющей примадонны. – Как я счастлива тебя видеть! Вот уж сподобил господь! – При этих словах женщина с крупными формами на секунду остановилась в своем стремительном беге и быстро перекрестилась, вызвав на лице Анны новую волну возмущения, ведь никто ранее не старался показать себя более верующим, чем она. – Ну, обними же свою тетю Аделаиду! – призвала женщина, надвинувшись прямо на меня своим огромным колышущимся и соблазнительно декольтированным бюстом.
Не дав мне опомниться, жена дяди Генриха обхватила меня и крепко прижала к себе, дав почувствовать каждый бугорок, каждую линию своего аппетитного тела. Все сидели, остолбенев, ошеломленно взирая на открытое проявление теплых чувств. Первой опомнилась Долорес.
– Я думаю, мама, что Джеку необходимо умыться с дороги, – сказала кузина, легко освобождая меня из жарких объятий.
Так я познакомился с семейством дяди Генриха, чья скоропостижная кончина принесла моему отцу приставку «сэр», которое так завораживало мать.
Уже через час, умывшись и переодевшись с дороги, я имел удовольствие сидеть в саду напротив тети Аделаиды и кузины Долорес, пить чай с печеньем, так как, несмотря на то что я проделал довольно долгий путь, Анна решила не нарушать традиции проведения обеда и не кормить меня до шести вечера. Едва я сел, как тетя Аделаида вновь принялась охать и ахать, восхищаясь моей красотой. Узнав, что я поступил в Оксфордский университет, она принялась превозносить до небес мои умственные способности, убеждая сидевших подле нее за столом родителей, дедулю и пару знакомых матери, что я непременно стану премьер-министром.
– А как вы поживаете? – попытался прервать неиссякаемый поток слов Чарльз, поймав красноречивый взор Анны, раздраженной новой родственницей.
– О, просто чудесно. То есть, я хотела сказать, весьма плачевно, – тут же поправилась тетя Аделаида, с легким смешком подливая чай в чашку. – Знаете, после смерти моего дорогого Генриха я никак не могу найти себе подходящего мужчину.
Услышав это, преподобный отец, которого мать неизменно приглашала на чай, подавился и долго кашлял в кулак, испуганно поглядывая на гостью, словно рядом с ним сидела сама вавилонская блудница.
– Да-да, – закивала головой в сторону преподобного отца тетя Аделаида. – Знаете ли, так трудно быть одной. Тем более в отдаленной колонии, – тут же поправилась она, видимо, получив под столом легкий намек от Долорес. – Индия ведь такой дикий край, совершенно девственный.
И тут тетя Аделаида, у которой мысли скакали, словно лошади в Дерби на королевских скачках, пустилась в описание великолепной южной природы далекой английской колонии. Я тем временем имел возможность лучше рассмотреть мою кузину. Сразу же сознаюсь, я влюбился! Влюбился с первого взгляда и в первый раз в своей жизни. Долорес была моей первой любовью.
* * *
Когда ты влюблен, тем более влюблен в первый раз, все вокруг кажется тебе прекрасным и действительность видится сплошь в розовых тонах Как я уже упоминал, для меня важным было цветовое соотнесение с реальной гаммой. Поэтому я постараюсь быть как можно более объективным, описывая удивительную женскую пару, столь внезапно появившуюся на моем горизонте.
Сначала о тете Аделаиде. Это была довольно крупная женщина, но полнота лишь украшала ее, тем более что она умела искусно подчеркнуть свои прелестные формы, на которые за чайным столом заглядывался не только большой любитель женщин – сэр Джейкоб, но даже Чарли, изредка бросавший в сторону вдовы отнюдь не кроткие взоры. В тете Аделаиде была некая сексуальная притягательность, истинно животная, делавшая ее сходной с сукой в период течки, когда кобели толпами бегают за ней по двору, не давая прохода и бесстыдно взбираясь на спину. Таковы были мои вульгарные мысли, когда я разглядывал вдовую тетушку, имевшую в моем представлении бледный красноватый цвет, переходящий от нежно-розового у головы до слабо-пурпурного в ногах. Шумная, привыкшая еще с гарнизонной службы мужа быть в центре внимания, простоватая и любвеобильная, тетя Аделаида олицетворяла собой поверхностные удовольствия и яркую радость бытия во всех ее проявлениях. Ее наряды, заказанные в Париже, известном центре разврата, были на грани безвкусия, ее жесты казались слишком размашистыми, в ее речах, преимущественно пустых и наивных, частенько проскальзывали словечки, более пригодные для языка жителей Сохо или даже кокни. Сама же тетя Аделаида походила на героиню из дешевого балагана, про которую автор в ремарке указывает: «дама из высшего общества». Такова была эта женщина, бывшая женой моего дяди Генри, не чаявшего в ней души и столь сильно баловавшего свою драгоценную Аделаиду, что та, даже балансируя на грани нищеты, не могла удержаться от потребности раз в неделю лакомиться заморскими фруктами.
В отличие от своей матери, Долорес, или, как я стал позднее называть ее, Долли, казалась более утонченной. Долли обладала врожденной грацией, не характерной для девочек-подростков ее возраста. К тому же, как выяснилось позднее из ее рассказов о своем детстве в колонии, кузина переняла пластику у местных танцовщиц, которыми славится Индия.
Я воспринимал Долорес исключительно в ярко-оранжевом цвете, хотя ее волосы, сильно выгоревшие под южным солнцем, были не рыжие и даже не золотистые, а скорее цвета спелой пшеницы, колосящейся ранней осенью в поле, и столь пышные, что казалось, будто голову кузины всегда окружал некий ореол. Пусть эстеты не прогневаются на меня за тривиальность сравнений, но иных слов, чтобы как можно точнее описать Долли, я не могу найти.
Сочетание выгоревших волос со смуглой кожей производило сильное впечатление и рождало, я бы даже сказал, подсознательное влечение. Ее кожа была того неопределенного цвета, переходного от слегка загорелого к темному, какой можно наблюдать у грумов, привозимых в Англию из североафриканских колоний. В главном зале, всегда полутемном, это сочетание заметно не было, поэтому оно столь сильно бросилось мне в глаза, едва я сел за стол, присоединившись к родителям и гостям.
Долли, как и ее мать, много улыбалась, и ее звонкий, немного грудной смех можно было часто слышать в тот день. В отличие от тети Аделаиды, кузина предпочитала помалкивать, а если и отвечала на вопросы, то в ее речи, слишком правильной, чтобы не вспомнить дорогого английского репетитора, слышался легкий колониальный акцент, ничуть не портивший ее, а, напротив, придававший речи некую пикантность.
Долорес произвела на присутствовавших за столом гораздо лучшее впечатление, чем ее мать. Это стало заметно после того, как Анна предпочла обращаться исключительно к ней, а не к тете Аделаиде, впрочем чрезвычайно внимательно выслушивая болтовню последней.
После чая кузина спросила меня, играю ли я в бетлдор и шатлклок (прототип современного бадминтона) и не хотел бы составить ей компанию. Я с удовольствием согласился, и мы мило провели время до самого обеда, носясь по полю с ракетками в руках за воланом, собранным из гусиных перьев, которые крепились к шарику из пробкового дерева. Во время игры я имел удовольствие любоваться грациозными движениями моей партнерши, ловко отбивавшей подачу сильной рукой и заставлявшей меня бегать за тяжелым воланом больше обычного.
Вечер мы провели, чинно сидя в глубоких креслах напротив камина, разожженного специально по такому случаю, и разглядывая мятущиеся по решетке тела грешников, которые были намного выразительней, нежели ангелочки на задвижке. Чувствовалось, что мастер лучше разбирался в муках, чем в блаженстве. Все это время я искоса наблюдал за Долли, пока не заметил, что и она интересуется моей особой.
Вскоре часы в углу зала пробили полночь. Лишь только все, пожелав друг другу спокойной ночи, отправились спать по комнатам, я в радостном предчувствии быстро разделся, лег на расстеленную горничной холодную постель и, задув свечу, принялся ждать. Дело в том, что кузину поселили в гостевой комнате, располагавшейся напротив моей, что меня взволновало, заставив кровь бегать намного быстрее, стуча в виски и требуя выплеска. Вскоре я услышал звук отворяемой двери в комнате напротив, и легкие шаги возвестили, что Долорес отправилась в ванную. Осторожно поднявшись с кровати, я тихо приоткрыл дверь, которая, к моему счастью, ни разу не скрипнула, и, проследив взглядом за удалявшейся по коридору фигурой в халате со свечой, прошмыгнул в гостевую напротив.
Большая круглая луна, выглянувшая из-за тучи, осветила небольшую спальню, устроенную по-спартански. Посреди комнаты стояла массивная кровать с большим пологом, над которой на стене висело распятие. Подобным ханжеским жестом мать стремилась утвердить за собой титул первой христианки Суссекса. Смею предположить, что это как-то связано с моим рождением, весьма темным, которое явно нанесло Анне душевную травму, отчего она так стремилась к отрицанию плотских утех.
Рядом с кроватью стоял небольшой туалетный столик, на котором были в беспорядке разбросаны заколки, булавки и прочие женские безделушки. Подле стояла вешалка с платьем. В глубине комнаты высился огромный платяной шкаф, оказавшийся, на мое счастье, почти пустым. В него-то я и забрался, услышав негромкие шаги в сторону гостевой. Немного погодя в комнату вошла, держа свечу, освещавшую ей путь, Долорес. Она поставила подсвечник на туалетный столик, слегка сдвинув безделушки к краю небрежным жестом, полным изящества. Через небольшую щель, оставленную незапертой дверцей шкафа, я видел, как кузина, освещенная мягким светом восковой свечи, протянула руку к поясу, развязала его и стянула с себя халат. Она немного помедлила, затем легла на постель и медленными движениями погладила тело, прикрытое лишь ночной рубашкой. Ток пробежал по мне, ладони мгновенно вспотели, а в голове появилась ясная картина: это мои руки ласкают красавицу. Горячая мелкая дрожь пробила меня сверху донизу. Что она делает, пронеслось у меня в голове? Боже, что она делает?








