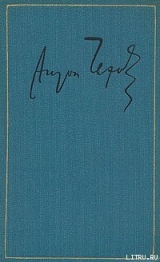
Текст книги "Рассказы. Юморески. 1886—1886"
Автор книги: Антон Чехов
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 38 страниц)
Заказ
Помня обещание, данное редактору одного из еженедельных изданий – написать святочный рассказ «пострашнее и поэффектнее», Павел Сергеич сел за свой письменный стол и в раздумье поднял глаза к потолку. В его голове бродило несколько подходящих тем. Потерев себе лоб и подумав, он остановился на одной из них, а именно на теме об убийстве, имевшем место лет десять тому назад в городе, где он родился и учился. Обмокнув перо, он вздохнул и начал писать.
Рядом с кабинетом, в гостиной, сидели гости: две дамы и студент. Жена Павла Сергеича, Софья Васильевна, громко перелистывала ноты и брала беспорядочно аккорды.
– Господа, кто же будет аккомпанировать? – говорила она плачущим голосом. – Надя, идите хоть вы аккомпанируйте!
– Ах, милая, я уж три месяца за рояль не садилась.
– Боже, какие ломаки! Ну, так я не стану петь! Стыдитесь, аккомпанемент самый легкий!
После долгого спора дамы уселись за рояль: одна ударила по клавишам, другая запела романс «Не говори, что молодость сгубила».[162]162
«Не говори, что молодость сгубила» – цыганский романс в обработке Я. Ф. Пригожева на слова стихотворения Н. А. Некрасова «Тяжелый крест достался ей на долю…» (1856).
[Закрыть] Павел Сергеич поморщился и положил перо. Послушав немного, он еще больше поморщился, вскочил и побежал к двери.
– Софи, ты не так поешь! – закричал он. – Ты слишком высоко взяла, а вы, Надежда Петровна, спешите, точно вас по пальцам бьют. Нужно так: трам-трам… та… та…
Павел Сергеич замахал руками и затопал ногой, показывая, как нужно петь и играть. Минут через пять он, подпевая жене, вернулся к себе в кабинет и продолжал писать:
«Ушаков и Винкель были молоды, почти одних лет, и оба служили в одной и той же канцелярии. Ушаков был женоподобен, нежен, нервен и робок, Винкель же, в противоположность своему другу, пользовался репутацией человека грубого, животного, разнузданного и неутомимого в удовлетворении своих страстей. Это был такой редкий и исключительный эгоист, что я охотно верю тем людям, которые считали его психически ненормальным. Ушаков и Винкель были дружны. Что могло связать эти два противоположных характера, я решительно не понимаю. Общее у них было только одно – богатство. Ушаков был единственным сыном у богатой матери, Винкель же считался наследником своей тетки-генеральши, любившей его, как родного сына. В человеческих отношениях деньги служат прекрасным связующим началом. Возможность сорить деньгами направо и налево, покупать самых красивых женщин, щеголять, летать на тройках, возбуждать всеобщую зависть, быть может, и была тем цементом, который связал двух глупых мальчиков.
Дружба Ушакова и Винкеля продолжалась недолго. Они обратились в непримиримых врагов, когда оба одновременно влюбились в модистку Касаткину, в ничтожную, но очень пикантную женщину, славившуюся своими роскошными волосами. Она охотно отдалась за деньги обоим приятелям. Пикантная женщина была достаточно развращена и практична, чтобы суметь возбудить в обоих мальчиках ревность, а ничто так не обогащает женщин, как ревность любовников. Робкий и застенчивый Ушаков скрепя сердце терпел соперника, животный же и развратный Винкель, как и следовало ожидать, дал полную волю своему чувству».
– Павел Сергеич! – закричали в гостиной. – Подите сюда!
Павел Сергеич вскочил и побежал к дамам.
– Пой с Мишелем дуэт! – сказала жена. – Ты пой первого, а он споет второго.
– Ладно! Давайте тон!
Павел Сергеич взмахнул пером, на котором еще блестели чернила, топнул ногой и, сделав страдальческое лицо, запел со студентом «Ночи безумные».[163]163
«Ночи безумные» – романс П. И. Чайковского (1886) на слова А. Н. Апухтина (стихотворение 1876 г.; получило распространение и как популярный цыганский романс в музыкальной обработке А. А. Спиро, П. А. Веймарна).
[Закрыть]
– Браво! – захохотал он, кончив петь и хватая студента за талию. – Какие мы с вами молодцы! Еще бы что-нибудь спеть, да чёрт его подери, писать нужно!
– Да вы бросьте! Охота вам!
– Ни-ни-ни… Обещал! И не искушайте! Сегодня же рассказ должен быть готов!
Павел Сергеич замахал руками, побежал к себе и продолжал писать:
«Однажды, часов в 10 вечера, когда Ушаков дежурил в канцелярии, Винкель пробрался в дежурную комнату, подкрался сзади к своему сопернику и небольшим топором ударил его по голове. Как он в момент убийства был животен и исступлен, видно из того, что врачи-эксперты нашли на голове Ушакова одиннадцать ран. Преступник не рассуждал ни во время, ни после убийства. Покончив с соперником, он, обрызганный кровью, не выпуская из рук топора, полез для чего-то на чердак, оттуда через слуховое окно пробрался на крышу, и канцелярские сторожа долго слышали, как кто-то шагал и карабкался по железной крыше. С казенного здания Винкель спустился по водосточной трубе на крышу соседнего дома, с этого дома перелез он на другой и таким образом блуждал по крышам до тех пор, пока его не задержали.
Убитого Ушакова хоронил весь город с музыкой и венками. Общественное мнение было возбуждено против убийцы до такой степени, что народ толпами ходил к тюрьме, чтобы поглядеть на стены, за которыми томился Винкель, и уже через два-три дня после похорон на могиле убитого стоял крест с мстительною надписью: „Погиб от руки убийцы“. Но ни на кого так не подействовала смерть Ушакова, как на его мать. Несчастная старуха, узнав о смерти своего единственного сына, едва не сошла с ума…»
Павел Сергеич написал еще одну страничку, выкурил подряд две папиросы, повалялся на кушетке, потом опять сел за стол и продолжал:
«Старуха Ушакова была введена в залу суда под руки и давала показания, сидя в кресле. Показания ее состояли в том, что она затряслась всем телом, обернулась к подсудимому и, грозя на него кулаками, закричала:
– Это ты убил моего сына! Ты!
– Я и не отказываюсь… – угрюмо проворчал Винкель.
– Ты и не смеешь отказываться! – продолжала старуха, не слушая председателя. – Ты убил!
Тетка Винкеля, старая генеральша, отупевшая от горя, перед тем, как давать показания, минуты три бессмысленно глядела на своего племянника и потом спросила тоном, заставившим вздрогнуть весь суд:
– Николай, что ты сделал?
Больше она не могла говорить. Появление обеих старух произвело на публику гнетущее впечатление. Рассказывают, что, встретясь в коридоре суда, они устроили друг другу сцену, возмутившую до слез даже судейских курьеров. Старуха Ушакова, ожесточенная горем, набросилась на генеральшу и осыпала ее ругательствами. Она говорила ты, упрекала, бранилась, грозила богом и проч. Тетка Винкеля сначала слушала ее молча, с покорным смирением, и только говорила:
– Будьте милосердны! Он и я и так уж наказаны!
Потом же не выдержала и на брань стала отвечать бранью.
– Не будь у вас сына, – кричала она, – мой Коля не сидел бы теперь здесь! Ваш сын погубил его! – и т. д.
Старух едва розняли… Вердиктом присяжных Винкель был приговорен в каторжные работы на десять лет».
– У Никонова прекрасный бас! – услышал Павел Сергеич голос своей жены. – Прекрасный, густой, сочный бас… Я не понимаю, милая, отчего он не идет в оперу?
Павел Сергеич сделал большие глаза и вскочил…
– Ты говоришь, у Никонова хороший бас? – спросил он, выглядывая в гостиную. – У Никонова хо-ро-ший бас?
– Да, у Никонова.
– Ну, матушка, значит, ты ничего не понимаешь… – развел руками Павел Сергеич. – Твой Никонов – корова! Ревет, хрипит, точно из него кишки тянут, а голос вибрирует и дрожит, как пробка в пустой бутылке! Не выношу! Слуху у твоего Никонова столько же, сколько у этого дивана!
– Никонов певец! – возмущался он, возвращаясь через пять минут к столу и садясь писать. – Боже мой, что за вкусы! Этому Никонову в уличные певцы идти, а не в оперу!
Продолжая возмущаться, он сердито умокнул перо и стал писать:
«Генеральша Винкель поехала в Петербург хлопотать, чтобы ее племянника не вывозили к позорному столбу. Пока она ездила, Винкель ухитрился бежать из тюрьмы».
– Какая чудная погода! – вздохнул в гостиной студент.
«Его нашли, – продолжал Павел Сергеич, – на вокзале под товарным вагоном, откуда его вытащили с большим трудом. Человеку, очевидно, хотелось еще жить… Несчастный скалил зубы на конвойных и, когда его вели в тюрьму, горько плакал».
– Теперь за городом хорошо! – сказала Софья Васильевна. – Павел, да брось там писать, ей-богу!
Павел Сергеич нервно почесал затылок и продолжал:
«Ходатайство тетки не увенчалось успехом… Винкель перед отъездом из родного города должен был неминуемо пережить позорный столб, но гордая тетка настояла на своем: накануне гражданской казни Винкель отравился. Его похоронили за кладбищем, в том месте, где хоронили самоубийц»…
Павел Сергеич поглядел в окно на звездное небо, крякнул и пошел в гостиную.
– Да, хорошо бы теперь катнуть за город! – сказал он, опускаясь в кресло. – Погода – антик!
– Ну что ж? И поедем! – всполошилась жена. – Поедемте, господа!
– Э, да кой чёрт! Мне рассказ оканчивать нужно! Едва половину написал… А хорошо бы оно позвать парочку троек… ямщиков сейчас к чёрту, сесть на козлы, и – ай, жги говори![164]164
…ай, жги, говори! – Слова припева русской народной плясовой песни «Вдоль по улице молодчик идет» (Д. Кашин. Русские народные песни, ч. III. М., 1883, стр. 59).
[Закрыть] Ах, чёрт меня подери, залетные! Только сначала нужно дома малость за галстух перепустить.
– И отлично! Давайте поедем!
– Ни-ни… ни за что! Не двинусь с места, пока не кончу рассказа! И не просите!
– Так вы идите, поскорей оканчивайте! Пока приедут тройки и принесут вино, вы успеете пять раз кончить…
Дамы обступили Павла Сергеича и затормошили его. Он махнул рукой и согласился. Студент побежал за тройками и вином, дамы засуетились. Прибежав к себе, Павел Сергеич схватил перо, стукнул кулаком по рукописи и продолжал:
«Каждый день старуха Ушакова ездила на могилу сына. Какая бы ни была погода, шел ли дождь, или бушевала злая вьюга, каждое утро часу в десятом ее лошади стояли у ворот кладбища, а она сама сидела у могилы, плакала и с жадностью, точно любуясь, глядела на надпись: „Погиб от руки убийцы“».
Когда вернулся студент, Павел Сергеич выпил залпом стакан вина и писал:
«Пять лет ездила она на кладбище, не пропуская ни одного дня. Кладбище стало ее вторым домом. На шестой год она заболела воспалением легкого и целый месяц не ездила к сыну».
– Да будет вам! – торопили Павла Сергеича. – Бросьте! Нате, выпейте еще!
– Сейчас, сейчас… Дошел до самого интересного места… Погодите, голубчики, не мешайте…
«Приехав после болезни на кладбище, – продолжал Павел Сергеич, – старуха к ужасу своему заметила, что она забыла, где находится могила ее сына. Болезнь отняла у нее память… Она бегала по кладбищу, по пояс вязла в снегу, умоляла сторожей… Сторожа могли указать ей место, где погребен ее сын, только приблизительно, так как на несчастье старухи во время ее долгого отсутствия крест был украден с могилы нищими, занимающимися продажей могильных крестов.
– Где он? – металась старуха. – Где мой сын? У меня во второй раз отняли сына!»
– Да ты кончишь когда-нибудь или нет? – крикнула Софья Васильевна. – Как это бессовестно заставлять пятерых ожидать одного! Брось!
– Сейчас, сейчас, – бормотал Павел Сергеич, выпивая стакан вина и морща лоб. – Сейчас… Эх, ты мне помешала!
Павел Сергеич сильно потер себе лоб, тупо обвел всех глазами, и, нервно стуча каблуком, написал:
«Не найдя дорогой могилы, старуха, бледная, с открытой головой, еле ступая и закрывая в изнеможении глаза, направилась к воротам, чтобы ехать домой. Но прежде, чем сесть в экипаж, ей пришлось пережить еще одну передрягу. У кладбищенских ворот она встретила тетку Винкеля».
– С такими господами только так и можно поступать! – сказала одна из гостей и схватила со стола рукопись. – Едем!
Павел Сергеич начал было протестовать, но потом махнул рукой, изорвал рукопись, выругал для чего-то редактора и, посвистывая, поскакал в переднюю одевать дам.
Произведение искусства
Держа под мышкой что-то, завернутое в 223-й нумер «Биржевых ведомостей»[165]165
…223-й нумер «Биржевых ведомостей»… – Здесь печаталось продолжение фельетона «В мире художников – роман из парижской жизни Эмиля Золя» – о печальной судьбе художника, увлекавшегося изображением обнаженного женского тела.
[Закрыть], Саша Смирнов, единственный сын у матери, сделал кислое лицо и вошел в кабинет доктора Кошелькова.
– А, милый юноша! – встретил его доктор. – Ну, как мы себя чувствуем? Что скажете хорошенького?
Саша заморгал глазами, приложил руку к сердцу и сказал взволнованным голосом:
– Кланялась вам, Иван Николаевич, мамаша и велела благодарить вас… Я единственный сын у матери, и вы спасли мне жизнь… вылечили от опасной болезни, и… мы оба не знаем, как благодарить вас.
– Полно, юноша! – перебил доктор, раскисая от удовольствия. – Я сделал только то, что всякий другой сделал бы на моем месте.
– Я единственный сын у своей матери… Мы люди бедные и, конечно, не можем заплатить вам за ваш труд, и… нам очень совестно, доктор, хотя, впрочем, мамаша и я… единственный сын у матери, убедительно просим вас принять в знак нашей благодарности… вот эту вещь, которая… Вещь очень дорогая, из старинной бронзы… редкое произведение искусства.
– Напрасно! – поморщился доктор. – Ну, к чему это?
– Нет, уж вы, пожалуйста, не отказывайтесь, – продолжал бормотать Саша, развертывая сверток. – Вы обидите отказом и меня и мамашу… Вещь очень хорошая… из старинной бронзы… Досталась она нам от покойного папаши, и мы хранили ее, как дорогую память… Мой папаша скупал старинную бронзу и продавал ее любителям… Теперь мамаша и я этим же занимаемся…
Саша развернул вещь и торжественно поставил ее на стол. Это был невысокий канделябр старой бронзы, художественной работы. Изображал он группу: на пьедестале стояли две женские фигуры в костюмах Евы и в позах, для описания которых у меня не хватает ни смелости, ни подобающего темперамента. Фигуры кокетливо улыбались и вообще имели такой вид, что, кажется, если бы не обязанность поддерживать подсвечник, то они спрыгнули бы с пьедестала и устроили бы в комнате такой дебош, о котором, читатель, даже и думать неприлично.
Поглядев на подарок, доктор медленно почесал за ухом, крякнул и нерешительно высморкался.
– Да, вещь, действительно, прекрасная, – пробормотал он, – но… как бы выразиться, не того… нелитературна слишком… Это уж не декольте, а чёрт знает что…
– То есть почему же?
– Сам змий-искуситель не мог бы придумать ничего сквернее. Ведь поставить на столе такую фантасмагорию значит всю квартиру загадить!
– Как вы странно, доктор, смотрите на искусство! – обиделся Саша. – Ведь это художественная вещь, вы поглядите! Столько красоты и изящества, что душу наполняет благоговейное чувство и к горлу подступают слезы! Когда видишь такую красоту, то забываешь всё земное… Вы поглядите, сколько движения, какая масса воздуху, экспрессии!
– Всё это я отлично понимаю, милый мой, – перебил доктор, – но ведь я человек семейный, у меня тут детишки бегают, дамы бывают.
– Конечно, если смотреть с точки зрения толпы, – сказал Саша, – то, конечно, эта высокохудожественная вещь представляется в ином свете… Но, доктор, будьте выше толпы, тем более, что своим отказом вы глубоко огорчите и меня и мамашу. Я единственный сын у матери… вы спасли мне жизнь… Мы отдаем вам самую дорогую для нас вещь, и… и я жалею только, что у вас нет пары для этого канделябра…
– Спасибо, голубчик, я очень благодарен… Кланяйтесь мамаше, но, ей-богу, сами посудите, у меня тут детишки бегают, дамы бывают… Ну, впрочем, пусть остается! Ведь вам не втолкуешь.
– И толковать нечего, – обрадовался Саша. – Этот канделябр вы тут поставьте, вот около вазы. Эка жалость, что пары нет! Такая жалость! Ну, прощайте, доктор.
По уходе Саши доктор долго глядел на канделябр, чесал у себя за ухом и размышлял.
«Вещь превосходная, спора нет, – думал он, – и бросать ее жалко… Оставить же у себя невозможно… Гм!.. Вот задача! Кому бы ее подарить или пожертвовать?»
После долгого размышления он вспомнил про своего хорошего приятеля, адвоката Ухова, которому был должен за ведение дела.
– И отлично, – решил доктор. – Ему, как приятелю, неловко взять с меня деньги, и будет очень прилично, если я презентую ему вещь. Отвезу-ка я ему эту чертовщину! Кстати же он холост и легкомыслен…
Не откладывая дела в дальний ящик, доктор оделся, взял канделябр и поехал к Ухову.
– Здорово, приятель! – сказал он, застав адвоката дома. – Я к тебе… Пришел благодарить, братец, за твои труды… Денег не хочешь брать, так возьми хоть эту вот вещицу… вот, братец ты мой… Вещица – роскошь!
Увидев вещицу, адвокат пришел в неописанный восторг.
– Вот так штука! – захохотал он. – Ах, чёрт подери его совсем, придумают же, черти, такую штуку! Чудесно! Восхитительно! Где ты достал такую прелесть?
Излив свой восторг, адвокат пугливо поглядел на двери и сказал:
– Только ты, брат, убери свой подарок. Я не возьму…
– Почему? – испугался доктор.
– А потому… У меня бывают тут мать, клиенты… да и от прислуги совестно.
– Ни-ни-ни… Не смеешь отказываться! – замахал руками доктор. – Это свинство с твоей стороны! Вещь художественная… сколько движения… экспрессии… И говорить не хочу! Обидишь!
– Хоть бы замазано было, или фиговые листочки нацепить…
Но доктор еще пуще замахал руками, выскочил из квартиры Ухова и, довольный, что сумел сбыть с рук подарок, поехал домой…
По уходе его адвокат осмотрел канделябр, потрогал его со всех сторон пальцами и, подобно доктору, долго ломал голову над вопросом: что делать с подарком?
«Вещь прекрасная, – рассуждал он, – и бросить жалко, и держать у себя неприлично. Самое лучшее – это подарить кому-нибудь… Вот что, поднесу-ка я этот канделябр сегодня вечером комику Шашкину. Каналья любит подобные штуки, да и кстати же у него сегодня бенефис…»
Сказано – сделано. Вечером тщательно завернутый канделябр был поднесен комику Шашкину. Весь вечер уборную комика брали приступом мужчины, приходившие полюбоваться на подарок; всё время в уборной стоял восторженный гул и смех, похожий на лошадиное ржанье. Если какая-нибудь из актрис подходила к двери и спрашивала: «Можно войти?», то тотчас же слышался хриплый голос комика:
– Нет, нет, матушка! Я не одет!
После спектакля комик пожимал плечами, разводил руками и говорил:
– Ну, куда я эту гадость дену? Ведь я на частной квартире живу! У меня артистки бывают! Это не фотография, в стол не спрячешь!
– А вы, сударь, продайте, – посоветовал парикмахер, разоблачая комика. – Тут в предместье живет старуха, которая покупает старинную бронзу… Поезжайте и спросите Смирнову… Ее всякий знает.
Комик послушался… Дня через два доктор Кошельков сидел у себя в кабинете и, приложив палец ко лбу, думал о желчных кислотах. Вдруг отворилась дверь и в кабинет влетел Саша Смирнов. Он улыбался, сиял и вся его фигура дышала счастьем… В руках он держал что-то завернутое в газету.
– Доктор! – начал он, задыхаясь. – Представьте мою радость! На ваше счастье, нам удалось приобрести пару для вашего канделябра!.. Мамаша так счастлива… Я единственный сын у матери… вы спасли мне жизнь…
И Саша, дрожа от чувства благодарности, поставил перед доктором канделябр. Доктор разинул рот, хотел было что-то сказать, но не сказал ничего: у него отнялся язык.
Юбилей
В гостинице «Карс» происходило скромное торжество: актерская братия давала обед трагику Тигрову в честь его двадцатипятилетнего служения на артистическом поприще. За длинным столом заседал весь персонал за исключением одного только антрепренера, который по скупости в обеденной подписке не участвовал, но обещался приехать к концу обеда. «Уважаемый товарищ», на правах виновника торжества, сидел на самом главном месте, в кресле с высокой прямой спинкой. Он был красен, много потел, крякал, моргал глазами, вообще чувствовал себя не в своей тарелке. Волновался ли он от наплыва юбилейных чувств, или оттого, что явился к обеду, будучи уже на «седьмом взводе», понять было трудно. По правую руку его сидела grande-dame Ликанида Ивановна Свирепеева, «обже»[166]166
от франц. objet (предмет)
[Закрыть] антрепренера, в черепаховом pince-nez и с щедро напудренным носом, по левую – ingйnue Софья Денисовна Унылова. От дам по обе стороны стола тянулось два ряда мужчин с бритыми физиономиями.
Перед супом, когда актеры выпили водки и закусили, поднялся резонер Бабельмандебский и произнес:
– Господа! Предлагаю выпить тост за здоровье юбиляра Василиска Африканыча Тигрова! Уррр… а… а!
Актеры рявкнули ура, поднялись с мест и повалили к юбиляру. После долгого чоканья и поцелуев, когда актеры уселись, поднялся jeune premier[167]167
первый любовник (франц.)
[Закрыть] Виоланский, человек бесталанный, но приобревший репутацию актера образованного только потому, что говорит в нос, держит у себя в номере словарь «30 000 иностранных слов» и мастер говорить длинные речи.
– Уважаемый товарищ! – начал он, закатывая глаза. – Сегодня исполнилось ровно четверть столетия с того момента, когда ты вступил на тернистую стезю искусства. Да! Ты удивленно, с некоторым страхом оглядываешься на пройденный тобою путь, и я вижу, как чело твое покрывается морщинами. Да, то был страшный путь! Вдали мерцала твоя звезда… Окутанный беспросветною тьмою, ты жадно стремился к ней, а на пути твоем лежали пропасти и овраги, полные шипящих змий, амфибий и гадов.
Далее оратор сказал, что ни у кого нет столько врагов, как у актеров. Выбрасывая в воздух мысль за мыслью, он высказал, что даже посредственный актер, скромно подвизающийся где-нибудь в глуши, приносит человечеству гораздо больше пользы, чем Струве, строящий мосты[168]168
…Струве, строящий мосты… – А. Е. Струве (1835—1898), русский инженер-мостостроитель. Им построены мосты: через Москву-реку (1861), через Оку у Щурова (1863), через Днепр у Киева (1867), Александровский литейный – через Неву в Петербурге (1876—1878).
[Закрыть], или Яблочков, выдумывающий электрическое освещение[169]169
…Яблочков, выдумывающий электрическое освещение… – П. Н. Яблочков (1847—1894) – выдающийся русский изобретатель-электротехник, разработавший принцип действия дуговой лампы, бывшей «главным чудом» на Парижской выставке в 1878 г.
[Закрыть], что можно еще поспорить о том, что полезнее: театр или железные дороги? Всё более воспламеняясь, он заявил, что, не будь на земле искусств, земля обратилась бы в пустыню, что мир погибает от материализма и что на обязанности людей искусства лежит «жечь сердца» служителей золотого тельца. Чёрт знает, чего он только не говорил, и кончил тем, что погрозил окну кулаком, отшвырнул от себя салфетку и сказал, что оценить Тигрова может одно только благодарное потомство.
Когда он умолк, актеры опять рявкнули ура и, шумно поднявшись с мест, повалили к юбиляру. Виоланский три раза поцеловался с Тигровым и от лица всех товарищей поднес ему небольшой плюшевый альбом с вышитыми на нем золотою канителью литерами «В. Т.». Растроганный трагик заплакал, обнял всех обедавших, потом в сладостном изнеможении опустился в свое кресло и дрожащими пальцами стал перелистывать альбом. Во всем альбоме было около двадцати фотографий, но не было ни одной мало-мальски приличной, человеческой физиономии. Вместо лиц были какие-то рожи с кривыми ртами, приплюснутыми носами и с слишком прищуренными или неестественно выпученными глазами. Ни один галстух не сидел на месте, все рожи имели зверское выражение, а голова суфлера Пудоедова имела два контура, из которых один был плохо замазан ретушью. (Дело в том, что актеры ходили сниматься в Николин день, побывав на трех именинах, и снимал их «фотограф Дергачов из Варшавы», маленький подслеповатый человечек, занимающийся сразу тремя ремеслами: фотографией, зубодерганьем и ссудой денег под залог.)
Перед жарким говорил простак, беспаспортный актер, называющий себя Григорием Борщовым. Он вытянул шею, приложил руку к сердцу и сказал:
– Послушай, Вася… Честное мое слово… накажи меня господь, у тебя есть талант! Всякий тебе скажет, что есть… И ты далеко бы, брат, пошел, если б не эта штука (оратор щелкнул себя по шее) и если б не твой собачий характер… Чёрт тебя знает, везде ты лезешь в драку и в ссору, суешься со своей честностью куда и не нужно… Ты меня, брат, извини, но я по совести… ей-богу! Такой у тебя сволочной характер, что никакой чёрт с тобой не уживется….Это верно! Ты, брат, извини, я ведь тебя люблю… и всякий тебя любит…
Борщов потянулся и поцеловал юбиляра в щеку.
– Извини, душа моя, – продолжал он. – У тебя есть талант! Только ты не тово… не налегай на портвейн. После водки этот сиволдай – смерть!
После Борщова заговорил сам юбиляр. С вдохновенным, плачущим лицом, моргая глазами и терзая в руках носовой платок, он поднялся и начал дрожащим голосом:
– Милые и дорогие друзья мои! Позвольте мне в сей радостный день высказать перед вами всё, что накопилось тут, в груди, под сводами моего душевного здания… Пред вами старец, убеленный сединами, стоящий одною ногою в могиле… Я… я плачу. Впрочем, что такое слезы человеческие? Одна только малодушная психиатрия и больше ничего! Бодро же, старик! Прочь слезы! Не старейте, нервы! Держите перст возвышенно и прямо! Пред вами, друзья, актеришка Тигров, тот самый, который заставлял дрожать стены тридцати шести театров, тот самый, который воплощал образы Велизария[170]170
Велизарий – византийский полководец при Юстиниане I (VI век), герой одноименной драмы немецкого драматурга Э. Шенка (1788—1841), переведенной для русской сцены П. Г. Ободовским в 1839 г.
[Закрыть], Отелло, Франца Моора![171]171
…Франц Моор – герой драмы Ф. Шиллера «Разбойники» (1781), которая в переводе М. Достоевского была очень популярна в 70—80-е годы в России. В 1874 г. «Разбойников» поставил на таганрогской сцене антрепренер Новиков (см. «Таганрогский вестник», 1874, № 72, 15 сентября).
[Закрыть] Тридцати шести городам известно имя мое… Вот!
Тигров полез в боковой карман, достал оттуда пачку трактирных счетов и потряс ею в воздухе.
– Вот доказательство! – крикнул он, гордо поднимая голову. – Счет московской гостиницы «Гранд-Отель», счет харьковской гостиницы «Бель-Вю», пензенской Варенцова, таганрогской «Европейской», саратовской «Столичной», оренбургской «Европейской», тамбовской «Гранд-Отель», архангельской «Золотой якорь» и так далее! Вот! Тридцать шесть городов! И что же?! Не проходило ни одного дня в моей жизни, чтобы я не падал жертвою гнусной интриги.
Такой переход в речи Тигрова не может показаться странным: существует закон природы, по которому русский актер, говоря даже о погоде, не может умолчать об интригах…
– Всякий, кто мог, расставлял передо мной сети ехидства и иезуитизма! – продолжал трагик, сердито вращая глазами. – Я всё выскажу! Пусть волосы ваши станут дыбом, пусть кровь замерзнет в жилах и дрогнут стены, но истина пусть идет наружу! Ничего не боюсь!
Но истина не успела выйти наружу, так как отворилась дверь и в залу вошел антрепренер Фениксов-Диамантов, высокий, тощий человек с лицом отставного стряпчего и с большими кусками ваты в ушах. Вошел он, как входят вообще все российские антрепренеры: семеня ножками, потирая руки и пугливо озираясь назад, словно только что крал кур или получил хорошую встрепку от жены. Как и все антрепренеры, он имел озябший и виноватый вид, говорил противным, заискивающим тенорком и каждую минуту давал впечатление человека, куда-то спешащего и что-то забывшего.
– Здравствуй, Василиск Африканыч, – быстро заговорил он, подходя к юбиляру. – Поздравляю тебя, голубчик… Ох, замучился! Ну, дай тебе бог, понимаешь… Ведь я тебя пятнадцать лет знаю! Ведь я тебя помню, когда ты еще у Милославского служил! Ох, забегался совсем.
Диамантов пугливо огляделся и, потирая руки, сел за стол.
– Сейчас у городского головы был, – продолжал он, подозрительно оглядывая тарелки. – Приглашал меня к чаю, да я отказался… Просто замучился, бегаючи! В подписке на обед я, кажется, не участвовал, а все-таки я… водки выпью.
– Продолжай, продолжай! – замахали руками актеры, обращаясь к юбиляру.
Тигров еще больше нахмурился и заговорил:
– Ежели, господа, кому-нибудь мои слова не понравились, тот пусть выходит, но я привык правду резать и… и никакого чёрта не боюсь… Никто не смеет мне запретить говорить… Да… Что хочу, то и гово… говорю… Я свободен!
– Ну и говори!
– Я вообще желаю вам сказать, что в последние годы сценическое искусство па… пало… А почему? А потому, что оно попало в руки… (трагик сделал зверское лицо и продолжал шипящим полушёпотом)… попало в руки гнусных кулаков, презренных рррабов, погрязших в копейках, палачей искусства, созданных, чтоб пресмыкаться, а не главенствовать в храме муз! Да-а!
– Постой, постой, – перебил его Диамантов, накладывая себе в тарелку гуся с капустой. – Совсем не то! Искусство, действительно, пало, но почему? Потому что изменились взгляды! Теперь принято требовать для сцены жизненность. Мамочка моя, для сцены не нужна жизненность! Пропади она, жизненность! Ее ты увидишь везде: и в трактире, и дома, и на базаре, но для театра ты давай экспрессию! Тут экспрессия нужна!
– Кой чёрт экспрессия! Нужно, чтоб жуликов да прохвостов поменьше было, а не экспрессия! Чёрт ли в ней, в экспрессии, если актеры по целым месяцам жалованья не получают!
– Вот видишь, какой ты! – вздохнул антрепренер, делая плачущее лицо. – Всегда ты норовишь сказать какую-нибудь колкость! И к чему эти намеки, полуслова? Говорил бы прямо, в глаза… Впрочем, мне некогда, я ведь на минутку забежал… Мне еще в типографию сбегать нужно…
Диамантов вскочил, помялся около стола, тоскливо покосился на гуся и, отдав общий поклон, засеменил к выходу.
– А креслице-то вы из театра взяли! – сказал он, подойдя к двери и указывая на кресло, на котором сидел юбиляр. – Не забудьте назад принести, а то «Гамлета» придется играть, и Клавдию не на чем сидеть будет.[172]172
…а то «Гамлета» придется играть, и Клавдию не на чем сидеть будет. – Клавдий – король, действующее лицо в трагедии Шекспира «Гамлет».
[Закрыть] Доброго здоровья!
По его уходе юбиляр надулся.
– Так порядочные люди не делают, – заворчал он. – Это подло с вашей стороны… Отчего вы меня не поддержали? Я хотел этого собаку вдрызг разбить…
Когда после десерта дамы распрощались и уехали, юбиляр совсем раскис и стал неприлично браниться. Винные бутылки были уже пусты, а потому актеры опять начали с водки. Со всех концов стола посыпались анекдоты, а когда запас анекдотов иссяк, начались воспоминания о пережитом. Эти воспоминания всегда служат лучшим украшением актерских компаний. Русский актер бесконечно симпатичен, когда бывает искренен и вместо того, чтобы говорить вздор об интригах, падении искусства, пристрастии печати и проч., повествует о виденном и слышанном… Иногда достаточно бывает выслушать какого-нибудь захудалого, испитого комика, вспоминающего былое, чтобы в вашем воображении вырос один из привлекательнейших, поэтических образов, образ человека легкомысленного до могилы, взбалмошного, часто порочного, но неутомимого в своих скитаниях, выносливого, как камень, бурного, беспокойного, верующего и всегда несчастного, своею широкою натурой, беззаботностью и небудничным образом жизни напоминающего былых богатырей… Достаточно послушать воспоминаний, чтобы простить рассказчику все его прегрешения, вольные и невольные, увлечься и позавидовать.
В часу десятом обедающие стали расплачиваться за обед, что, конечно, не обошлось без длинных разговоров и вызова хозяина гостиницы. Так как рано еще было спать, из «Карса» все актеры отправились в «Грузию»[173]173
…отправились в «Грузию»… – «Грузия» – московский ресторан 80-х годов на Малой Грузинской улице.
[Закрыть], где играли на биллиарде и пили пиво.
– Господа, шампанского! – разошелся юбиляр. – Сегодня же… желаю пить шампанское! Угощаю всех!
Но шампанского не пришлось пить, так как у трагика в карманах не нашлось ни копейки.
– Грриша! – бормотал он, выходя из «Грузии» с Борщовым и Виоланским. – Нам бы еще в «Пррагу» съездить…[174]174
…Нам бы еще в «Пррагу» съездить… – «Прага» – московский ресторан у Арбатских ворот.
[Закрыть] Рано еще спать! Где бы пять целковых достать?
Актеры остановились и начали думать.
– Знаешь что? – надумал Виоланский. – Снесем-ка Дергачову альбом! На кой чёрт он тебе сдался? Ей-богу! Даст три целковых – и будет с нас!
Юбиляр согласился, и через четверть часа трое путников уже стучались в ворота Дергачова.








