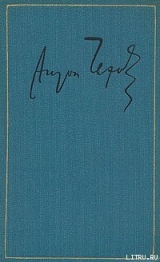
Текст книги "Рассказы. Юморески. 1886—1886"
Автор книги: Антон Чехов
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 38 страниц)
Антон Павлович Чехов
РАССКАЗЫ. ЮМОРЕСКИ.
1886—1886
Отрава
Петр Петрович Лысов идеалист до конца ногтей, хотя и служит в банкирской конторе Кунст и К°. Он поет жиденьким тенором, играет на гитаре, помадится и носит светлые брюки, а всё это составляет признаки, по которым идеалиста можно отличить от материалиста за десять верст. На Любочке, дочери отставного капитана Кадыкина, он женился по самой страстной любви… Верите ли, он так любил свою невесту, что если бы ему предложили выбирать между миллионом и Любочкой, то он, не думая, остановился бы на последней… Чёрту, конечно, такая идеальность не понравилась, и он не преминул вмешаться.
Накануне свадьбы (чёрт зачертил именно с этого времени) капитан Кадыкин позвал к себе в кабинет Лысова и, взяв его любовно за пуговицу, сказал:
– Надо тебе заметить, любезный друг Петя, что я некоторым образом тово… Уговор лучше денег… Чтобы потом, собственно говоря, не было никаких неудовольствий, надо нам заранее уговориться… Ты знаешь, я ведь за Любочкой не тово… ничего я за Любочкой не даю!
– Ах, не всё ли это равно? – вспыхнул идеалист. – И за кого вы меня принимаете? Я женюсь не на деньгах, а на девице!
– То-то… Я ведь это для чего тебе говорю? Для того, чтобы ты все-таки знал… Человек я, конечно, не бедный, имею состояние, но ведь, сам видишь, у меня кроме Любочки еще пятеро… Так-то, друг милый Петя… Охохоххх… (капитан вздохнул). Оно, конечно, и тебе трудно будет, ну, да что делать! Крепись как-нибудь… В случае, ежели что-нибудь этакое… детородность, там, или другое какое событие, то могу помогать… Понемножку могу… Даже сейчас могу…
– Выдумали, ей-богу! – махнул рукой Лысов.
– Сейчас я могу тебе четыреста рублей одолжить… Больше, извини, хотел бы дать, но хоть режь!
Кадыкин полез в стол, достал оттуда какую-то бумагу и подал ее Лысову.
– На, бери! – сказал он. – Ровно четыреста! Я бы и сам получил по этому исполнительному листу, да знаешь, возиться некогда, а ты когда захочешь, тогда и получишь… Прямо без всякого стеснения ступай к доктору Клябову и получай… А ежели он зафордыбачится, то к судебному приставу…
Как ни отнекивался Лысов и как ни доказывал, что женится не на деньгах, а на девице, но кончил тем, что сложил вчетверо исполнительный лист и спрятал его в карман. На другой день, возвращаясь в карете с венчанья, Лысов держал Любочку за талию и говорил ей:
– Третьего дня ты плакала, что у нас в семейном очаге фортепиано не будет… Радуйся, Любубунчик! Я тебе за четыреста рублей пианино куплю…
После свадебного ужина, когда молодые остались одни, Лысов долго ходил из угла в угол, потом вдохновенно мотнул головой и сказал жене:
– Знаешь что, Люба? Не лучше ли нам подождать покупать пианино? А, как ты думаешь? Давай-ка мы сначала мебели купим! За четыреста рублей отличную меблировку можно завести! Так разукрасим комнаты, что чертям тошно будет! В ту комнату мы поставим диван и кресла с шёлковой, знаешь, обивкой… Перед диваном, конечно, круглый стол с какой-нибудь этакой, чёрт ее побери, заковыристой лампой… Здесь вот мы поставим мраморный рукомойник. Ву компрене?[2]2
Вы понимаете? (франц. Vous comprenez?)
[Закрыть] Ха-ха… В этот промежуток мы втиснем гардероб или комод с туалетом… То есть, чёрт знает как хорошо всё это выйдет!
– Нужно будет и занавески к окнам.
– Да, и занавески! Завтра же пойду к этому доктору! Только бы мне застать его, чёрта… Эти доктора народ жадный, имеют привычку чуть свет на практику выезжать… Уж ты извини, Люба, я завтра пораньше встану…
В восемь часов утра Лысов тихонько встал, оделся и отправился пешком к доктору Клябову. Без четверти в девять он уже стоял в докторской передней.
– Доктор дома? – спросил он горничную.
– Дома-с, но они спят и не скоро встанут-с.
От такого ответа лицо Лысова поморщилось и стало таким кислым, что горничная испугалась и сказала:
– Если он вам так нужен, то я могу его разбудить! Пожалуйте в кабинет!
Лысов снял шубу и вошел в кабинет…
«А хорошо живет каналья! – подумал он, садясь в кресло и оглядывая обстановку. – Одна софа, небось, рублей четыреста стоит…»
Минут через десять послышался отдаленный кашель, потом шаги, и в кабинет вошел доктор Клябов, неумытый, заспанный.
– Что у вас? – спросил он, садясь против Лысова.
– Я, г. доктор, собственно говоря, не болен, – начал идеалист, мило улыбаясь, – а пришел к вам по делу… Видите ли, я вчера женился и… мне очень нужны деньги… Вы меня премного обяжете, если сегодня заплатите по этому исполнительному листу…
– По какому исполнительному листу? – вытаращил глаза доктор.
– А вот по этому… Я Лысов и женился на дочери Кадыкина. Я ему зять и он, то есть тесть, передал мне этот лист. То есть Кадыкин!
– Бог знает что! – махнул рукой Клябов, поднимаясь и делая плачущее лицо. – Я думал, что вы больны, а вы с ерундой какой-то… Это даже бессовестно с вашей стороны! Я сегодня в седьмом часу лег, а вы чёрт знает из-за чего будите! Порядочные люди уважают чужой покой… Мне даже совестно за вас!
– Виноват, я думал-с… – сконфузился Лысов, – я не знал-с…
И, видя, что доктор уходит, он поднялся и пробормотал:
– А когда же прикажете за получением приходить?
– Никогда… Я этому Кадыкину уж тысячу раз говорил, чтобы он оставил меня в покое! Надоели!
Тон и обращение доктора сконфузили Лысова, но и озлили.
– В таком случае, – сказал он, – извините, я должен буду обратиться к судебному приставу и… наложить запрещение на ваше имущество!..
– Сколько угодно! Этот ваш Затыкин, или – как его? – Кадыкин знает, что имущество не мое, а женино.
Выйдя от доктора, Лысов был красен и дрожал от злости.
«Невежа! – думал он. – Скотина! Живет так богато, имеет практику и долгов не платит! Ну, постой же…»
Вечером, вместо того, чтобы ложиться спать, Лысов сел писать к доктору письмо… В этом письме он категорически и угрожая судебным приставом просил уведомить его, в какой день и час доктора можно застать дома. Не получив на другой день ответа, он послал еще одно письмо… Наконец, истратив попусту шесть городских марок, он возмутился и пошел к судебному приставу…
Пока он таким образом писал письма и делал визиты судебному приставу, время шло, и натура человеческая работала… Лысову скоро стало казаться, что четыреста рублей ему необходимы крайне, позарез, что удивительно, как это он мог ранее без них обходиться. Не говоря уж о меблировке, которую можно отложить на будущее, этими деньгами нужно уплатить прежние должишки, портному, в лавочку… Когда дней через десять после свадьбы Любочка попросила у Лысова пять рублей для кухарки, то тот сказал:
– Это уж я из докторских ей дам, а сейчас у меня нет… Знаешь что? Схожу-ка я сегодня к доктору! Попрошу его, чтоб он хоть по частям выплачивал. На это он наверное согласится!..
Придя к доктору, он застал у него в приемной много больных. Пришлось ожидать очереди. Прочитав все газеты, лежавшие на столе, и истомившись до сухоты в горле и нытья под ложечкой, он наконец вошел в кабинет доктора.
– Вы опять! – поморщился Клябов.
Лысов сел и чистосердечно объяснил доктору, как Кадыкин подарил ему исполнительный лист и как нужны ему деньги.
– Вы можете мне по десяти рублей выплачивать… – кончил он. – Я и на это согласен!
– Вы, извините, просто психопат… – ухмыльнулся Клябов. – Кто же, скажите пожалуйста, принимает в подарок исполнительные листы?
– Я принял, потому что думал, что вы будете тово… добросовестны!
– Вот как! Не вам-с говорить о добросовестности! Вы знаете, откуда взялся этот долг? Когда я был студентом, то взял у вашего тестя только пятьдесят рублей, остальные же всё проценты! И я не заплачу… По принципу не заплачу! Ни копейки!
Возвратился Лысов домой от доктора утомленный, злой.
– Не понимаю я твоего отца! – сказал он Любочке. – Ведь это низко, подло! Точно у него не нашлось для меня четырехсот рублей! Мне приданого не нужно, но я из принципа! Я теперь с твоим отцом и говорить не хочу… Скряга, грошовник! Назло вот поди и скажи ему, чтобы он взял свой глупый исполнительный лист и вместо него прислал мне четыреста рублей… Слышишь? Поди, так и скажи…
– Как же я ему скажу? Мне неловко, Петя.
– Аа… для тебя он, значит, дороже мужа! По-твоему, он прав? Я не взял с него ничего приданого, и он же еще прав!
Любочка заморгала глазами и заплакала.
– Начинается… – пробормотал Лысов. – Этого еще недоставало! Ну, пожалуйста, матушка, без этих штук! У меня чтоб этого не было! Меня, брат, этим не убедишь… не проймешь! Я этого не люблю! Можешь у папеньки реветь, а здесь тебе не место! Слышишь?
И Лысов постучал по столу корешком книги… Этим стуком и завершился медовый месяц…
Рассказ без конца
(Сценка)
В начале третьего часа одной из давно уже пережитых ночей ко мне в кабинет вдруг, неожиданно вбежала бледная, взволнованная кухарка и объявила, что у нее в кухне сидит владелица соседнего домишки, старуха Милютиха.
– Просит, барин, чтоб вы к ней сходили… – сказала кухарка, тяжело переводя дух. – С ее жильцом нехорошо случилось… Застрелился или завесился…
– Что же я могу сделать? – сказал я. – Пусть идет к доктору или в полицию!
– Куда ей искать доктора! Она еле дышит и от страха под печку забилась… Сходили бы, барин!
Я оделся и пошел в дом Милютихи. Калитка, к которой я направился, была отворена. Постояв около нее в нерешимости и не нащупав дворницкого звонка, я вошел во двор. Крыльцо, темное и похилившееся, было тоже не заперто. Я отворил его и вошел в сени. Тут ни зги света, сплошной мрак и вдобавок еще чувствительный запах ладана. Нащупывая выход из сеней, я ударился локтем о что-то железное и наткнулся в потемках на какую-то доску, которую чуть было не свалил на землю. Наконец дверь, обитая порванным войлоком, была найдена, и я вошел в маленькую переднюю.
Сейчас я пишу не святочный рассказ и далек от намерения пугать читателя, но картина, которую я увидел из сеней, была фантастична и могла быть нарисована одною только смертью. Прямо передо мной была дверь, ведущая в маленький залик. Полинялые, аспидного цвета обои скупо освещались тремя рядом стоявшими восковыми пятикопеечными свечками. Посреди залика на двух столах стоял гроб. Восковые свечки горели для того, чтобы освещать маленькое смугло-желтое лицо с полуоткрытым ртом и острым носом. От лица до кончиков двух башмаков мешались в беспорядке волны марли и кисеи, а из волн глядели две бледные неподвижные руки с восковым крестиком. Темные, мрачные углы залика, образа за гробом, гроб – всё, кроме тихо мерцавших огней, было неподвижно-мертвенно, как сама могила…
«Что за чудеса? – подумал я, ошеломленный неожиданной панорамой смерти. – Откуда такая скоропостижность? Не успел жилец повеситься или застрелиться, как уже и гроб!»
Я огляделся. Налево была дверь со стеклянным верхом, направо хромая вешалка с поношенной шубенкой…
– Воды дайте… – услышал я стон.
Стон шел слева, из-за двери со стеклянным верхом. Я отворил эту дверь и вошел в маленькую комнату, темную, с единственным окном, по которому робко скользил слабый свет от уличного фонаря.
– Здесь есть кто-нибудь? – спросил я.
И, не дожидаясь ответа, я зажег спичку. Пока она горела, я увидел следующее. У самых ног моих, на окрашенном кровью полу сидел человек. Сделай я шаг подлиннее, я наступил бы на него. Протянув вперед ноги и упираясь руками о пол, он силился поднять кверху свое красивое, смертельно бледное лицо с черной, как тушь, окладистой бородой. В больших глазах, которые он поднял на меня, я прочел невыразимый ужас, боль, мольбу. По лицу его большими каплями тек холодный пот. Этот пот, выражение лица, дрожание подпиравшихся рук, тяжелое дыхание и стиснутые зубы говорили, что он страдал невыносимо. Около правой руки его на луже крови валялся револьвер.
– Не уходите… – услышал я слабый голос, когда потухла спичка. – Свеча на столе.
Я зажег свечку и, не зная, с чего начать, остановился посреди комнаты. Я стоял и глядел на человека, сидевшего на полу, и мне казалось, что я ранее уже где-то видел его.
– Боль нестерпимая, – прошептал он, – а нет сил выстрелить в себя еще раз. Непонятная нерешимость!
Я сбросил с себя пальто и занялся больным. Подняв с пола, как ребенка, я положил его на клеенчатый диван и осторожно раздел. Он дрожал и был холоден, когда я снимал с него одежду; рана же, которую я увидел, не соответствовала ни этой дрожи, ни выражению лица больного. Она была ничтожна. Пуля прошла между 5 и 6 ребром левой стороны, разорвав кожу и клетчатку – только. Самую пулю нашел я в складках сюртучной подкладки около заднего кармана. Остановив, как умел, кровь и сделав временную повязку из наволочки, полотенца и двух платков, я дал больному напиться и укрыл его висевшей в передней шубенкой. Во всё время перевязки мы оба не сказали ни слова. Я работал, а он лежал неподвижно и глядел на меня сквозь сильно прищуренные глаза, как бы стыдясь своего неудачного выстрела и тех хлопот, которые он мне причинил.
– Теперь вы потрудитесь лежать покойно, – сказал я, покончив с повязкой, – а я сбегаю в аптеку и возьму там что-нибудь.
– Не нужно! – пробормотал он, хватая меня за рукав и открывая глаза во всю их ширь.
В глазах его я прочел испуг. Он боялся, чтобы я не ушел.
– Не нужно! Посидите еще минут пять… десять… Если вам не противно, то сядьте, прошу вас.
Он просил и дрожал, стуча зубами. Я послушался и сел на край дивана. Десять минут прошло в молчании. Я молчал и обозревал комнату, в которую так неожиданно занесла меня судьба. Какая бедность! У человека, обладавшего красивым, изнеженным лицом и выхоленной окладистой бородой, была обстановка, которой не позавидовал бы простой мастеровой. Диван с облезлой, дырявой клеенкой, простой засаленный стул, стол, заваленный бумажным хламом, да прескверная олеография на стене – вот и всё, что я увидел. Сыро, мрачно и серо.
– Какой ветер! – проговорил больной, не открывая глаз. – Как он ноет!
– Да… – сказал я. – Послушайте, мне кажется, что я вас знаю. Вы не участвовали в прошлом году в любительском спектакле у генерала Лухачева на даче?
– А что? – спросил он, быстро открыв глаза. По лицу его пробежала тучка.
– Точно я видел вас там. Вы не Васильев?
– Хоть бы и так, ну так что же? От этого не легче, что вы меня знаете.
– Не легче, но я спросил вас так… между прочим.
Васильев закрыл глаза и, словно обиженный, повернул свое лицо к спинке дивана.
– Не понимаю я этого любопытства! – проворчал он. – Недостает еще, чтобы вы стали допрашивать, какие причины побудили меня к самоубийству!
Не прошло и минуты, как он опять повернулся ко мне, открыл глаза и заговорил плачущим голосом:
– Вы извините меня за этот тон, но, согласитесь, я прав! Спрашивать у арестанта, за что он сидит в тюрьме, а у самоубийцы, зачем он стрелялся, невеликодушно и… неделикатно. Удовлетворять праздное любопытство на чужих нервах!
– Напрасно вы волнуетесь… Я и не думал спрашивать вас о причинах.
– Так спросили бы… Это в привычке людей. А к чему спрашивать? Скажу я вам, а вы или не поймете, или не поверите… Я и сам, признаться, не понимаю… Есть протокольно-газетные термины вроде «безнадежная любовь» и «безвыходная бедность», но причины неизвестны… Их не знаю ни я, ни вы, ни ваши редакции, в которых дерзают писать «из дневника самоубийцы». Один только бог понимает состояние души человека, отнимающего у себя жизнь, люди же не знают.
– Всё это очень мило, – сказал я, – но вам не следует много говорить…
Но мой самоубийца разошелся. Он подпер голову кулаком и продолжал тоном больного профессора:
– Никогда не понять человеку психологических тонкостей самоубийства! Где причины? Сегодня причина заставляет хвататься за револьвер, а завтра эта же самая причина кажется не стоящей яйца выеденного… Всё зависит, вероятно, от индивидуализации субъекта в данное время… Взять, например, меня. Полчаса тому назад я страстно желал смерти, теперь же, когда горит свеча и возле меня сидите вы, я и не думаю о смертном часе. Объясните-ка вы эту перемену! Стал ли я богаче, или воскресла моя жена? Повлиял ли на меня этот свет, или присутствие постороннего человека?
– Свет, действительно, влияет… – пробормотал я, чтобы сказать что-нибудь. – Влияние света на организм…
– Влияние света… Допустим! Но ведь стреляются и при свечах! И мало чести героям ваших романов, если такой пустяк, как свечка, так резко изменяет ход драмы! Вся эта галиматья, может быть, и объяснима, но не нами. Чего не понимаешь, того и спрашивать и объяснять нечего…
– Простите, – сказал я, – но… судя по выражению вашего лица, мне кажется, что в данную минуту вы… рисуетесь.
– Да? – спохватился Васильев. – Очень может быть! Я по природе ужасно суетен и фатоват. Ну, вот объясните, если вы верите своей физиономике! Полчаса тому назад стрелялся, а сейчас рисуюсь… Объясните-ка!
Последние слова Васильев проговорил слабым, потухающим голосом. Он утомился и умолк. Наступило молчание. Я стал рассматривать его лицо. Оно было бледно, как у мертвеца. Жизнь в нем, казалось, погасла, и только следы страданий, которые пережил «суетный и фатоватый» человек, говорили, что оно еще живо. Жутко было глядеть на это лицо, но каково же было самому Васильеву, у которого хватало еще сил философствовать и, если я не ошибался, рисоваться!
– Вы здесь? – спросил он, вдруг приподнимаясь на локте. – Боже мой! Нужно только прислушаться!
Я стал слушать. За темным окном, ни на минуту не умолкая, сердито стучал дождь. Жалобно и тоскливо гудел ветер.
– «И паче снега убелюся, и слуху моему даси радость и веселие»[3]3
«И паче снега убелюся, и слуху моему даси радость и веселие…» – Неточная цитата из Библии. Псалтырь, псалом 50, ст. 9—10.
[Закрыть], – читала в зале возвратившаяся Милютиха ленивым, утомленным голосом, не повышая и не понижая однообразной, скучной ноты.
– Не правда ли, это весело? – прошептал Васильев, повернув ко мне свое испуганное лицо. – Боже мой, чего только не приходится видеть и слышать человеку! Переложить бы этот хаос на музыку! «Не знающих привел бы он в смятение, – как говорит Гамлет, – исторг бы силу из очей и слуха».[4]4
…«Не знающих привел бы он в смятение, исторг бы силу из очей и слуха». – Слова Гамлета о странствующем актере-трагике («Гамлет. Трагедия В. Шекспира. Перевод А. Кронеберга». Изд. 2-е. М., 1861, стр. 98. В библиотеке Чехова сохранился экземпляр этого издания – см.: Чехов и его среда, стр. 313).
[Закрыть] Как бы я понял тогда эту музыку! Как бы прочувствовал! Который час?
– Без пяти три.
– Далеко еще до утра. А утром похороны. Красивая перспектива! Идешь за гробом по грязи, под дождем. Идешь и не видишь ничего, кроме облачного неба да дрянных пейзажей. Грязные факельщики, кабаки, дровяные склады… брюки мокры до колен. Улицы бесконечно длинны, время тянется, как вечность, народ груб. А на душе камень, камень!
Помолчав немного, он вдруг спросил:
– Давно видали генерала Лухачева?
– С самого лета не видел.
– Любит петушиться, но милый старикашка. А вы всё пописываете?
– Да, немножко.
– Так… А помните, каким фырсиком, восторженным теленком прыгал я на этих любительских спектаклях, когда ухаживал за Зиной? Глупо было, но хорошо, весело… Даже при воспоминании весной пахнет… А теперь! Какая резкая перемена декораций! Вот вам тема! Только вы не вздумайте писать «дневника самоубийцы». Это пошло и шаблонно. Вы хватите что-нибудь юмористическое.
– Вы опять… рисуетесь, – сказал я. – В вашем положении ничего нет юмористического.
– Ничего нет смешного? Вы говорите, ничего нет смешного?
Васильев приподнялся, и на глазах его заблестели слезы. Выражение горькой обиды разлилось по его бледному лицу, задрожал подбородок.
– Вы смеетесь над кассирами и неверными женами, которые надувают, – сказал он, – но ведь ни один кассир, ни одна неверная жена не надували так, как надула меня моя судьба! Я так обманут, как не обманывался еще ни один банковый вкладчик, ни один рогатый муж! Прочувствуйте только, в каких смешных дураках я остался! В прошлом году, на ваших глазах, не знал, куда деваться от счастья, а теперь, на ваших же глазах…
Васильев упал головой на подушку и засмеялся.
– Смешнее и глупее такого перехода и выдумать нельзя. Первая глава: весна, любовь, медовый месяц… мед, одним словом; вторая глава: искание должности, ссуда денег под залог, бедность, аптека и… завтрашнее шлепанье по грязи на кладбище.
Он опять засмеялся. Мне стало жутко, и я порешил уйти.
– Послушайте, – сказал я, – вы лежите, а я схожу в аптеку.
Он не отвечал. Я надел пальто и вышел из его комнаты. Проходя через сени, я взглянул на гроб и читавшую Милютиху. Как я ни напрягал зрения, но не сумел в желто-смуглом лице узнать Зину, бойкую, хорошенькую ingenue лухачевской труппы.
«Sic transit»[5]5
«Sic transit» – начало лат. изречения: Sic transit gloria mundi (Так проходит мирская слава).
[Закрыть], – подумал я.
Затем я вышел, не забыв прихватить с собою револьвер, и отправился в аптеку. Но не следовало мне уходить. Когда я вернулся из аптеки, Васильев лежал у себя на диване в обмороке. Повязка была грубо сорвана, а из растревоженной раны текла кровь. Привести его в чувство мне не удалось до самого утра. Он лихорадочно бредил, дрожал и водил безумными глазами по комнате всё время, пока не наступило утро и не послышался возглас священника, начавшего служить панихиду.
Когда квартира Васильева наполнилась старухами и факельщиками, когда гроб тронули с места и понесли со двора, я посоветовал Васильеву оставаться дома. Но он не послушался, несмотря ни на боль, ни на серое, дождливое утро. До самого кладбища шел он за гробом без шапки, молча, едва волоча ноги и изредка конвульсивно хватаясь за раненый бок. Лицо выражало полнейшую апатию. Раз только, когда я каким-то ничтожным вопросом вывел его из забытья, он обвел глазами мостовую, серый забор, и в глазах его на мгновение сверкнула мрачная злоба.
– «Колѣсное завѣдение», – прочел он вывеску. – Безграмотные невежи, чёрт бы их взял совсем!
С кладбища я повез его к себе.
Прошел еще только год с той ночи, и Васильев еще не успел как следует сносить сапогов, в которых шлепал по грязи за гробом жены.[6]6
…Васильев еще не успел как следует сносить сапогов, в которых шлепал по грязи за гробом жены. – Перефразировка слов Гамлета:
И башмаков еще не износила,В которых шла, в слезах, как Ниобея,За бедным прахом моего отца! (Назв. изд., стр. 26).
[Закрыть]
В настоящее время, когда я оканчиваю этот рассказ, он сидит у меня в гостиной и, играя на пианино, показывает дамам, как провинциальные барышни поют чувствительные романсы. Дамы хохочут, и он сам хохочет. Ему весело.
Я зову его к себе в кабинет. Видимо, недовольный тем, что я лишил его приятного общества, он входит ко мне и останавливается передо мной в позе человека, которому некогда. Я подаю ему этот рассказ и прошу прочесть. Он, всегда снисходительный к моему авторству, заглушает свой вздох, вздох читательской лени, садится в кресло и принимается за чтение.
– Чёрт возьми, какие ужасы, – бормочет он, улыбаясь.
Но чем более он углубляется в чтение, тем серьезнее становится его лицо. Наконец, под напором тяжелых воспоминаний, он страшно бледнеет, поднимается и продолжает чтение стоя. Окончив, он начинает шагать из угла в угол.
– Чем же кончить? – спрашиваю я его.
– Чем кончить? Гм…
Он окидывает взглядом комнату, меня, себя… Он видит свой новый модный костюм, слышит смех дам и… упав на кресло, начинает смеяться, как смеялся он в ту ночь.
– Ну, не прав ли я был, когда говорил тебе, что всё это смешно? Боже мой! Вынес я на своих плечах столько, сколько слону на спине не выдержать, выстрадал чёрт знает сколько, больше уж, кажется, и выстрадать нельзя, а где следы? Удивительное дело! Казалось бы, вечна, неизгладима и неприкосновенна должна быть печать, налагаемая на человека его муками. И что же? Эта печать изнашивается так же легко, как и дешевые подметки. Ничего не осталось, хоть бы тебе что! Словно я тогда не страдал, а мазурку плясал. Превратно всё на свете, и смешна эта превратность! Широкое поле для юмористики!.. Загни-ка, брат, юмористический конец!
– Петр Николаевич, скоро же вы? – зовут моего героя нетерпеливые дамы.
– Сию минуту-с! – говорит «суетный и фатоватый» человек, поправляя галстух. – Смешно, брат, и жаль, жаль и смешно, но что поделаешь? Homo sum…[7]7
Homo sum – Начало лат. изречения: Homo sum, humani nihil a me alienum puto (Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо).
[Закрыть] А все-таки хвалю природу-матушку за ее обмен веществ. Если бы у нас оставалось мучительное воспоминание о зубной боли да о тех страхах, которые приходится каждому из нас переживать, будь всё это вечно, скверно жилось бы тогда на свете нашему брату человеку!
Я смотрю на его улыбающееся лицо, и мне припоминается то отчаяние и тот ужас, которыми полны были его глаза, когда он год тому назад глядел на темное окно. Я вижу, как он, входя в свою обычную роль ученого пустослова, собирается пококетничать передо мною своими праздными теориями вроде обмена веществ, и в это время мне припоминается он, сидящий на полу в луже крови, с больными, умоляющими глазами.
– Чем же кончить? – спрашиваю я себя вслух.
Васильев, посвистывая и поправляя галстух, уходит в гостиную, а я гляжу ему вслед и досадно мне. Жаль мне почему-то его прошлых страданий, – жаль всего того, что я и сам перечувствовал ради этого человека в ту нехорошую ночь. Точно я потерял что-то…








