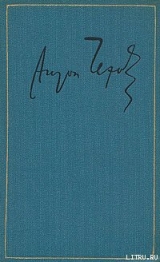
Текст книги "Рассказы. 1887"
Автор книги: Антон Чехов
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 41 страниц)
Из записок вспыльчивого человека
Я человек серьезный, и мой мозг имеет направление философское. По профессии я финансист, изучаю, финансовое право и пишу диссертацию под заглавием: «Прошедшее и будущее собачьего налога». Согласитесь, что мне решительно нет никакого дела до девиц, романсов, луны и прочих глупостей.
Утро. Десять часов. Моя maman наливает мне стакан кофе. Я выпиваю и выхожу на балкончик, чтобы тотчас же приняться за диссертацию. Беру чистый лист бумаги, макаю перо в чернила и вывожу заглавие: «Прошедшее и будущее собачьего налога». Немного подумав, пишу: «Исторический обзор. Судя по некоторым намекам, имеющимся у Геродота и Ксенофонта, собачий налог ведет свое начало от…»
Но тут слышу в высшей степени подозрительные шаги. Гляжу с балкончика вниз и вижу девицу с длинным лицом и с длинной талией. Зовут ее, кажется, Наденька, или Варенька, что, впрочем, решительно всё равно. Она что-то ищет, делает вид, что не замечает меня, и напевает:
Помнишь ли ты тот напев, неги полный…
Я прочитываю то, что написал, хочу продолжать, но тут девица делает вид, что заметила меня, и говорит печальным голосом:
– Здравствуйте, Николай Андреич! Представьте, какое у меня несчастье! Вчера гуляла и потеряла больбошку с браслета!
Перечитываю еще раз начало своей диссертации, поправляю хвостик у буквы «б» и хочу продолжать, но девица не унимается.
– Николай Андреич, – говорит она, – будьте любезны, проводите меня домой. У Карелиных такая громадная собака, что я не решаюсь идти одна.
Делать нечего, кладу перо и схожу вниз. Наденька, или Варенька, берет меня под руку, и мы направляемся к ее даче.
Когда на мою долю выпадает обязанность ходить под руку с дамой или девицей, то почему-то всегда я чувствую себя крючком, на который повесили большую шубу; Наденька же, или Варенька, натура, между нами говоря, страстная (дед ее был армянин), обладает способностью нависать на вашу руку всею тяжестью своего тела и, как пиявка, прижиматься к боку. И так мы идем… Проходя мимо Карелиных, я вижу большую собаку, которая напоминает мне о собачьем налоге. Я с тоской вспоминаю о начатом труде и вздыхаю.
– О чем вы вздыхаете? – спрашивает Наденька, или Варенька, и сама испускает вздох.
Тут я должен сделать оговорку. Наденька, или Варенька (теперь я припоминаю, что ее зовут, кажется, Машенькой), откуда-то вообразила, что я в нее влюблен, а потому считает долгом человеколюбия всегда глядеть на меня с состраданием и лечить словесно мою душевную рану.
– Послушайте, – говорит она, останавливаясь, – я знаю, отчего вы вздыхаете. – Вы любите, да! Но прошу вас именем нашей дружбы, верьте, та девушка, которую вы любите, глубоко уважает вас! За вашу любовь она не может платить вам тем же, но виновата ли она, что сердце ее давно уже принадлежит другому?
Нос Машеньки краснеет и пухнет, глаза наливаются слезами; она, по-видимому, ждет от меня ответа, но, к счастью, мы уже пришли… На террасе сидит Машенькина maman, женщина добрая, но с предрассудками; взглянув на взволнованное лицо дочери, она останавливает на мне долгий взгляд и вздыхает, как бы желая сказать: «Ах, молодежь, даже скрыть не умеете!» Кроме нее на террасе сидят несколько разноцветных девиц и между ними мой сосед по даче, отставной офицер, раненный в последнюю войну в левый висок и в правое бедро. Этот несчастный, подобно мне, задался целью посвятить это лето литературному труду. Он пишет «Мемуары военного человека». Подобно мне, он каждое утро принимается за свою почтенную работу, но едва только успеет написать: «Я родился в…», как под балкончик является какая-нибудь Варенька, или Машенька, и раненый раб божий берется под стражу.
Все сидящие на террасе чистят для варенья какую-то пошлую ягоду. Я раскланиваюсь и хочу уходить, но разноцветные девицы с визгом хватают мою шляпу и требуют, чтобы я остался. Я сажусь. Мне подают тарелку с ягодой и шпильку. Начинаю чистить.
Разноцветные девицы говорят на тему о мужчинах. Такой-то хорошенький, такой-то красив, но не симпатичен, третий некрасив, но симпатичен, четвертый был бы недурен, если бы его нос не походил на наперсток, и т. д.
– А вы, m-r Nicolas, – обращается ко мне Варенькина maman, – некрасивы, но симпатичны… В вашем лице что-то есть… Впрочем, – вздыхает она, – в мужчине главное не красота, а ум…
Девицы вздыхают и потупляют взоры… Они тоже согласны, что в мужчине главное не красота, а ум. Я косо поглядываю на себя в зеркало, чтобы убедиться, насколько я симпатичен. Вижу косматую голову, косматую бороду, усы, брови, волосы на щеках, волосы под глазами – целая роща, из которой на манер каланчи выглядывает мой солидный нос. Хорош, нечего сказать!
– Впрочем, Nicolas, вы возьмете своими душевными качествами, – вздыхает Наденькина maman, как бы подкрепляя какую-то свою тайную мысль.
А Наденька страдает за меня, но в то же время сознание, что против сидит влюбленный в нее человек, доставляет ей, по-видимому, величайшее наслаждение. Покончив с мужчинами, девицы говорят о любви. После длинного разговора о любви одна из девиц встает и уходит. Оставшиеся начинают перемывать косточки ушедшей. Все находят, что она глупа, несносна, безобразна, что у нее лопатка не на месте.
Но вот, слава богу, идет наконец горничная, посланная моею maman, и зовет меня обедать. Теперь я могу оставить неприятное общество и идти продолжать свою диссертацию. Встаю и раскланиваюсь. Варенькина maman, сама Варенька и разноцветные девицы окружают меня и заявляют, что я не имею никакого права уходить, так как дал им вчера честное слово обедать с ними, а после обеда идти в лес за грибами. Кланяюсь и сажусь… В душе моей кипит ненависть, я чувствую, что еще минута и – я за себя не ручаюсь, произойдет взрыв, но деликатность и боязнь нарушить хороший тон заставляют меня повиноваться дамам. И я повинуюсь.
Садимся обедать. Раненый офицер, у которого от раны в висок образовалось сведение челюстей, ест с таким видом, как будто бы он зануздан и имеет во рту удила. Я катаю шарики из хлеба, думаю о собачьем налоге и, зная свой вспыльчивый характер, стараюсь молчать. Наденька глядит на меня с состраданием. Окрошка, язык с горошком, жареная курица и компот. Аппетита нет, но я из деликатности ем. После обеда, когда я один стою на террасе и курю, ко мне подходит Машенькина maman, сжимает мои руки и говорит, задыхаясь:
– Но вы не отчаивайтесь, Nicolas… Это такое сердце… такое сердце!
Идем в лес по грибы… Варенька виснет на моей руке и присасывается к боку. Страдаю невыносимо, но терплю.
Входим в лес.
– Послушайте, m-r Nicolas, – вздыхает Наденька, – отчего вы так грустны? Отчего вы молчите?
Странная девушка: о чем же я могу говорить с ней? Что у нас общего?
– Ну, скажите что-нибудь… – просит она.
Я начинаю придумывать что-нибудь популярное, доступное ее пониманию. Подумав, говорю:
– Лесоистребление приносит громадный вред России…
– Nicolas! – вздыхает Варенька, и нос ее краснеет. – Nicolas, я вижу, вы избегаете откровенного разговора… Вы как будто желаете казнить своим молчанием… Вам не отвечают на ваше чувство, и вы хотите страдать молча, в одиночку… это ужасно, Nicolas! – восклицает она, порывисто хватая меня за руку, и я вижу, как ее нос начинает пухнуть. – Что бы вы сказали, если бы та девушка, которую вы любите, предложила вам вечную дружбу?
Я бормочу что-то несвязное, потому что решительно не знаю, что сказать ей… Помилуйте: во-первых, никакой девушки я не люблю и, во-вторых, для чего бы мне могла понадобиться вечная дружба? В-третьих, я очень вспыльчив. Машенька, или Варенька, закрывает лицо руками и говорит вполголоса, как бы про себя:
– Он молчит… Очевидно, он хочет жертвы с моей стороны. Не могу же я любить его, если я всё еще люблю другого! Впрочем… я подумаю… Хорошо, я подумаю… Я соберу все силы моей души и, быть может, ценою своего счастья спасу этого, человека от страданий!
Ничего не понимаю. Какая-то кабалистика. Идем дальше и собираем грибы. Все время молчим. На лице у Наденьки выражение душевной борьбы. Слышен лай собак: это мне напоминает о моей диссертации, и я громко вздыхаю. Сквозь стволы деревьев я вижу раненого офицера. Бедняга мучительно хромает направо и налево: справа у него раненое бедро, слева висит одна из разноцветных девиц. Лицо выражает покорность судьбе.
Из леса идем обратно на дачу пить чай, затем играем в крокет и слушаем, как одна из разноцветных девиц поет романс: «Нет, не любишь ты! Нет! Нет!..» При слове «нет» она кривит рот до самого уха.
– Charmant![129]129
Прелестно! (франц.)
[Закрыть] – стонут остальные девицы. – Charmant!
Наступает вечер. Из-за кустов выползает отвратительная луна. В воздухе тишина и неприятно пахнет свежим сеном. Беру шляпу и хочу уходить.
– Мне нужно вам сообщить кое-что, – значительно шепчет мне Машенька. – Не уходите.
Предчувствую что-то недоброе, но из деликатности остаюсь. Машенька берет меня под руку и ведет куда-то по аллее. Теперь уж вся фигура ее выражает борьбу. Она бледна, тяжело дышит и, кажется, намерена оторвать у меня правую руку. Что с ней?
– Послушайте… – бормочет она. – Нет, не могу… Нет…
Она хочет что-то сказать, но колеблется. Но вот по лицу ее я вижу, что она решилась. Сверкнув глазами, с опухшим носом, она хватает меня за руку и говорит быстро:
– Nicolas, я ваша! Любить вас не могу, но обещаю вам верность!
Затем она прижимается к моей груди и вдруг отскакивает.
– Кто-то идет… – шепчет она. – Прощай… Завтра в 11 часов буду в беседке… Прощай!
И она исчезает. Ничего не понимая, чувствуя мучительное сердцебиение, я иду к себе домой. Меня ждет «Прошедшее и будущее собачьего налога», но работать я уже не могу. Я взбешен. Можно даже сказать, я ужасен. Чёрт возьми, я не позволю обращаться со мной, как с мальчишкой! Я вспыльчив, и шутить со мной опасно! Когда входит ко мне горничная звать меня к ужину, я кричу ей: «Подите вон!» Такая вспыльчивость обещает мало хорошего.
На другой день утром. Погода дачная, то есть температура ниже нуля, резкий, холодный ветер, дождь, грязь и запах нафталина, потому что моя maman повынимала из сундука свои салопы. Чертовское утро. Это как раз 7-е августа 1887 года, когда было затмение солнца. Надо вам заметить, что во время затмения каждый из нас может принести громадную пользу, не будучи астрономом. Так, каждый из нас может: 1) определить диаметр солнца и луны, 2) нарисовать корону солнца, 3) измерить температуру, 4) наблюдать в момент затмения животных и растения, 5) записать собственные впечатления и т. д. Это так важно, что я пока оставил в стороне «Прошедшее и будущее собачьего налога» и решил наблюдать затмение. Все мы встали очень рано. Весь предстоящий труд я поделил так: я определю диаметр солнца и луны, раненый офицер нарисует корону, всё же остальное возьмут на себя Машенька и разноцветные девицы. Вот все мы собрались и ждем.
– Отчего бывает затмение? – спрашивает Машенька.
Я отвечаю:
– Солнечные затмения происходят в том случае, когда луна, обращаясь в плоскости эклиптики, помещается на линии, соединяющей центры солнца и земли.
– А что значит эклиптика?
Я объясняю. Машенька, внимательно выслушав, спрашивает:
– Можно ли сквозь копченое стекло увидеть линию, соединяющую центры солнца и земли?
Я отвечаю ей, что эта линия проводится умственно.
– Если она умственная, – недоумевает Варенька, – то как же на ней может поместиться луна?
Не отвечаю. Я чувствую, как от этого наивного вопроса начинает увеличиваться моя печень.
– Всё это вздор, – говорит Варенькина maman. – Нельзя знать того, что будет, и к тому же вы ни разу не были на небе, почему же вы знаете, что будет с луной и солнцем? Всё это фантазии.
Но вот черное пятно надвигается на солнце. Всеобщее смятение. Коровы, овцы и лошади, задрав хвосты и ревя, в страхе носились по полю. Собаки выли. Клопы, вообразив, что настала ночь, вылезли из щелей и начали кусать тех, кто спал. Дьякон, который в это время вез к себе из огорода огурцы, ужаснувшись, выскочил из телеги и спрятался под мост, а его лошадь въехала с телегой в чужой двор, где огурцы были съедены свиньями. Акцизный, ночевавший не дома, а у одной дачницы, выскочил в одном нижнем белье и, вбежав в толпу, закричал диким голосом:
– Спасайся, кто может!
Многие дачницы, даже молодые и красивые, разбуженные шумом, выскочили на улицу, не надев башмаков. Произошло еще много такого, чего я не решусь рассказать.
– Ах, как страшно! – визжат разноцветные девицы. – Ах! Это ужасно!
– Mesdames, наблюдайте! – кричу я им. – Время дорого!
А сам я тороплюсь, измеряю диаметр… Вспоминаю о короне я ищу глазами раненого офицера. Он стоит и ничего не делает.
– Что же вы? – кричу я. – А корона?
Он пожимает плечами и беспомощно указывает мне глазами на свои руки. У бедняги на обе руки нависли разноцветные девицы, жмутся к нему от страха и мешают работать. Беру карандаш и записываю время с секундами. Это важно. Записываю географическое положение наблюдательного пункта. Это тоже важно. Хочу определить диаметр, но в это время Машенька берет меня за руку и говорит:
– Не забудьте же, сегодня в одиннадцать часов!
Я отнимаю свою руку и, дорожа каждой секундой, хочу продолжать наблюдения, но Варенька судорожно берет меня под руку и прижимается к моему боку. Карандаш, стекла, чертежи – всё это валится на траву. Чёрт знает что! Пора же, наконец, понять этой девушке, что я вспыльчив, что я, вспылив, становлюсь бешеным и тогда не могу за себя ручаться!
Хочу я продолжать, но затмение уже кончилось!
– Взгляните на меня! – шепчет она нежно.
О, это уже верх издевательства! Согласитесь, что такая игра человеческим терпением может кончиться только худом. Не обвиняйте же меня, если случится что-нибудь ужасное! Я никому не позволю шутить, издеваться надо мною и, чёрт подери, когда я взбешен, никому не советую близко подходить ко мне, чёрт возьми совсем! Я готов на всё!
Одна из девиц, вероятно, заметив по моему лицу, что я взбешен, говорит, очевидно, с той целью, чтобы успокоить меня:
– А я, Николай Андреевич, исполнила ваше поручение. Я наблюдала млекопитающих. Я видела, как перед затмением серая собака погналась за кошкой и потом долго виляла хвостом.
Так из затмения ничего не вышло. Иду домой. Благодаря дождю не выхожу на балкончик работать. Раненый офицер рискнул выйти на свой балкон и даже написал: «Я родился в…», и теперь я вижу в окно, как одна из разноцветных девиц тащит его к себе на дачу. Работать я не могу, потому что всё еще взбешен и чувствую сердцебиение. В беседку я не иду. Это невежливо, но, согласитесь, не могу же я идти по дождю! В 12 часов получаю письмо от Машеньки; в письме упреки, просьба прийти в беседку и обращение на «ты»… В час получаю другое письмо, в два – третье… Надо идти. Но прежде чем идти, я должен подумать, о чем буду говорить с ней. Поступлю, как порядочный человек. Во-первых, я скажу ей, что она напрасно воображает, что я ее люблю. Впрочем, таких вещей не говорят женщинам. Сказать женщине: «я вас не люблю» – так же неделикатно, как сказать писателю: «вы плохо пишете». Лучше всего я выскажу Вареньке свой взгляд на брак. Надеваю теплое пальто, беру зонтик и иду к беседке. Зная свой вспыльчивый характер, боюсь, как бы не сказать чего-нибудь лишнего. Постараюсь сдерживать себя.
В беседке меня ждут. Наденька бледна и заплакана. Увидев меня, она радостно вскрикивает, бросается ко мне на шею и говорит:
– Наконец-то! Ты играешь моим терпением. Послушай, я не спала всю ночь… Я всё думала. Мне кажется, что когда я узнаю тебя поближе, то… полюблю тебя…
Я сажусь и начинаю излагать свой взгляд на брак. Сначала, чтобы не заходить далеко, быть по возможности кратким, я делаю маленький исторический обзор. Говорю о браке индусов и египтян, затем перехожу к позднейшим временам; несколько мыслей из Шопенгауэра. Машенька слушает со вниманием, но вдруг, по странной непоследовательности идей, находит нужным прервать меня.
– Nicolas, поцелуй меня! – говорит она.
Я смущен и не знаю, что сказать ей. Она повторяет свое требование. Делать нечего, я поднимаюсь и прикладываюсь к ее длинному лицу, причем ощущаю то же самое, что чувствовал в детстве, когда меня заставили однажды поцеловать на панихиде мою умершую бабушку. Не довольствуясь моим поцелуем, Варенька вскакивает и порывисто обнимает меня. В это время в дверях беседки показывается Машенькина maman… Она делает испуганное лицо, говорит кому-то «тссс!» и исчезает, как Мефистофель в трюме.
Смущенный и взбешенный, я возвращаюсь к себе на дачу. Дома я застаю Варенькину maman, которая со слезами на глазах обнимает мою maman, а моя maman плачет и говорит:
– Я сама этого желала!
Затем – как вам это нравится? – Наденькина maman подходит ко мне, обнимает меня и говорит:
– Бог вас благословит! Ты же смотри, люби ее… Помни, что для тебя она приносит жертву…
И теперь меня женят. В то время как я пишу эти строки, над моей душой стоят шафера и торопят меня. Эти люди положительно не знают моего характера! Ведь я вспыльчив и не могу за себя ручаться! Чёрт возьми, вы увидите, что будет дальше! Везти под венец вспыльчивого, взбешенного человека – это, по-моему, так же неумно, как просовывать руку в клетку к разъяренному тигру. Увидим, увидим, что будет!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Итак, я женат. Все меня поздравляют, и Варенька всё жмется ко мне и говорит:
– Пойми же, что ты теперь мой, мой! Скажи же, что ты меня любишь! Скажи!
И при этом у нее пухнет нос.
Узнал от шаферов, что раненый офицер ловким манером избежал Гименея. Он представил разноцветной девице медицинское свидетельство, что благодаря ране в висок он умственно ненормален, а потому по закону не имеет права жениться. Идея! Я тоже мог бы представить свидетельство. Мой дядя пил запоем, другой дядя был очень рассеян (однажды вместо шапки надел себе на голову дамскую муфту), тетка много играла на рояли и при встрече с мужчинами показывала им язык. К тому же еще мой в высшей степени вспыльчивый характер – очень подозрительный симптом. Но почему хорошие идеи приходят так поздно? Почему?
Зиночка
Компания охотников ночевала в мужицкой избе на свежем сене. В окна глядела луна, на улице грустно пиликала гармоника, сено издавало приторный, слегка возбуждающий запах. Охотники говорили о собаках, о женщинах, о первой любви, о бекасах. После того как были перебраны косточки всех знакомых барынь и была рассказана сотня анекдотов, самый толстый из охотников, похожий в потемках на копну сена и говоривший густым штаб-офицерским басом, громко зевнул и сказал:
– Не велика штука быть любимым: барыни на то и созданы, чтоб любить нашего брата. А вот, господа, был ли кто-нибудь из вас ненавидим, ненавидим страстно, бешено? Не наблюдал ли кто-нибудь из вас восторгов ненависти? А?
Ответа не последовало.
– Никто, господа? – спросил штаб-офицерский бас. – А вот я был ненавидим, ненавидим хорошенькой девушкой и на себе самом мог изучить симптомы первой ненависти. Первой, господа, потому что то было нечто как раз противоположное первой любви. Впрочем, то, что я сейчас расскажу, происходило, когда я еще ничего не смыслил ни в любви, ни в ненависти. Мне было тогда лет восемь, но это не беда: тут, господа, важен не он, а она. Ну-с, прошу внимания. В один прекрасный летний вечер, перед заходом солнца, я и моя гувернантка Зиночка, очень милое и поэтическое созданье, незадолго перед тем выпущенное из института, сидели в детской и занимались. Зиночка рассеянно глядела в окно и говорила:
– Так. Мы вдыхаем кислород. Теперь скажите мне, Петя, что мы выдыхаем?
– Углекислоту, – отвечал я, глядя в то же окно.
– Так, – соглашалась Зиночка. – Растения же наоборот: вдыхают углекислоту и выдыхают кислород. Углекислота содержится в сельтерской воде и в самоварном угаре… Это очень вредный газ. Близ Неаполя есть так называемая Собачья пещера, содержащая в себе углекислоту; пущенная в нее собака задыхается и умирает.
Эта несчастная Собачья пещера близ Неаполя составляет химическую мудрость, дальше которой не решится шагнуть ни одна гувернантка. Зиночка всегда горячо отстаивала пользу естественных наук, но едва ли знала по химии еще что-нибудь, кроме этой пещеры.
Ну-с, она приказала повторить. Я повторил. Она спросила, что такое горизонт. Я ответил. А на дворе в это время, пока мы жевали горизонт да пещеру, мой отец собирался на охоту. Собаки выли, пристяжные нетерпеливо переминались с ноги на ногу и кокетничали с кучерами, лакеи начиняли тарантас кульками и всякой всячиной. Возле тарантаса стояла линейка, в которую садились мать и сестры, чтобы ехать к Иваницким на именины. Дома оставались только я, Зиночка да мой старший брат – студент, у которого болели зубы. Можете представить мою зависть и скуку!
– Так что же мы вдыхаем? – спросила Зиночка, глядя в окно.
– Кислород…
– Да, а горизонтом называется место, где, как нам кажется, земля сходится с небом…
Но вот тронулся тарантас, за ним линейка… Я видел, как Зиночка вытащила из кармана какую-то записочку, судорожно скомкала ее и прижала к виску, потом вспыхнула и поглядела на часы.
– Так помните же, – сказала она, – близ Неаполя есть так называемая Собачья пещера… – она опять взглянула на часы и продолжала: – где, как нам кажется, небо сходится с землею…
Бедняжка в сильном волнении прошлась по комнате и еще раз взглянула на часы. До конца нашего урока оставалось еще более получаса.
– Теперь арифметика, – сказала она, тяжело дыша и перелистывая дрожащей рукой задачник. – Вот решите задачу № 325, а я… сейчас приду…
Она вышла. Я слышал, как она спорхнула вниз по лестнице, и затем видел в окно, как ее голубое платье, промелькнув через двор, исчезло в садовой калитке. Быстрота ее движений, краска ланит и волнение заинтриговали меня. Куда она побежала и зачем? Будучи умен не по летам, я скоро сообразил и понял всё: она побежала в сад затем, чтобы, пользуясь отсутствием моих строгих родителей, забраться в малинник или же нарвать себе черешень! Когда так, и я же, чёрт возьми, пойду есть черешни! Бросил я задачник и побежал в сад. Подбегаю к черешням, но ее уже там нет. Миновав малинник, крыжовник, шалаш сторожа, она через огород идет к пруду, бледная, вздрагивающая от малейшего шума. Я крадусь за ней и вижу, господа, следующее. На берегу пруда, между толстыми стволами двух старых верб, стоит мой старший брат Саша; по его лицу незаметно, чтобы у него болели зубы. Он глядит навстречу Зиночке, и вся его фигура, как солнцем, озарена выражением счастья. А Зиночка, точно ее гонят в Собачью пещеру и заставляют дышать углекислотой, идет к нему, едва двигая ногами, тяжело дыша и закинув назад голову… По всему видно, что на рандеву она идет первый раз в жизни. Но вот она подходит… Полминуты они молча глядят друг на друга и как будто не верят своим глазам. Засим какая-то сила толкает Зиночку в спину, она кладет руки на плечи Саши и склоняет свою головку на его жилетку. Саша смеется, бормочет что-то несвязное и с неуклюжестью очень влюбленного человека кладет обе свои ладони на Зиночкину физиомордию. А погода, господа, чудесная… Бугор, за которым прячется солнце, две вербы, зеленые берега, небо – всё это вместе с Сашей и с Зиночкой отражается в пруде. Тишина, можете себе представить. Над осокой золотятся миллионы мотыльков с длинными усиками, за садом гонят стадо. Одним словом, хоть картину рисуй.
Из всего виденного я понял только то, что Саша целовался с Зиночкой. Это неприлично. Если узнает maman, то обоим достанется. Чувствуя, что мне почему-то стыдно, я ушел к себе в детскую, не дожидаясь конца рандеву. Потом я сидел над задачником, думал и соображал. По моей роже плавала победоносная улыбка. С одной стороны, приятно быть владельцем чужой тайны, с другой – тоже весьма приятно сознавать, что такие авторитеты, как Саша и Зиночка, во всякую минуту могут быть уличены мною в незнании светских приличий. Теперь они в моей власти и их спокойствие находится в полной зависимости от моего великодушия. Я же им покажу!
Когда я ложился спать, Зиночка, по обыкновению, зашла в детскую узнать, не уснул ли я в одежде и молился ли богу. Я посмотрел на ее хорошенькое, счастливое лицо и ухмыльнулся. Тайна распирала меня и просилась наружу. Нужно было намекнуть и насладиться эффектом.
– А я знаю! – сказал я ухмыляясь. – Гы-ы!
– Что вы знаете?
– Гы-ы! Я видел, как около верб вы целовались с Сашей. Я пошел за вами и всё видел…
Зиночка вздрогнула, вся покраснела и, пораженная моим намеком, опустилась на стул, на котором стояли стакан с водой и подсвечник.
– Я видел, как вы… целовались… – повторил я, хихикая и наслаждаясь ее смущением. – Ага! Вот я скажу маме!
Малодушная Зиночка пристально посмотрела на меня и, убедившись, что я действительно всё знаю, в отчаянии схватила меня за руку и забормотала дрожащим шёпотом:
– Петя, это низко… Я вас умоляю, ради бога… Будьте мужчиной… не говорите никому… Порядочные люди не шпионят… Это низко… умоляю вас…
Бедняжка как огня боялась моей матери, дамы добродетельной и строгой, – это раз; во-вторых, мое ухмыляющееся рыло не могло не осквернять ее первой, чистенькой и поэтической любви, а потому можете себе представить состояние ее духа. По моей милости, она не спала всю ночь и наутро явилась к чаю с синими кругами под глазами… Встретясь после чая с Сашей, я не вытерпел, чтоб не ухмыльнуться и не похвастать:
– А я знаю! Я видел, как ты вчера целовался с m-lle Зиной!
Саша посмотрел на меня и сказал:
– Ты глуп.
Он не был так малодушен, как Зиночка, а потому эффект не удался. Это меня еще больше подзадорило. Если Саша не испугался, то, очевидно, он не верил, что я всё видел и знаю; так постой же, я тебе докажу!
Занимаясь со мной до обеда, Зиночка не глядела на меня и заикалась. Вместо того чтобы припугнуть, она всячески заискивала у меня, ставя мне пятерки и не жалуясь отцу на мои шалости. Будучи умен не по летам, я эксплоатировал ее тайну, как хотел: не учил уроков, ходил в классной вверх ногами и говорил дерзости. Одним словом, продолжай я в таком духе до сегодня, из меня выработался бы прекрасный шантажист. Ну-с, прошла неделя. Чужая тайна подзадоривала и мучила меня, как заноза в душе. Мне во что бы то ни стало хотелось выболтать ее и полюбоваться эффектом. И вот однажды за обедом, когда у нас было много гостей, я преглупо ухмыльнулся, ехидно поглядел на Зиночку и сказал:
– А я знаю… Гы-ы! Я видел…
– Что ты знаешь? – спросила мать.
Я еще ехиднее поглядел на Зиночку и Сашу. Надо было видеть, как вспыхнула девушка и какие злые глаза сделал Саша! Я прикусил язык и не продолжал. Зиночка постепенно побледнела, стиснула зубы и уж ничего не ела. В тот же день во время вечерних занятий я в лице Зиночки заметил резкую перемену. Оно казалось строже, холоднее, как будто мраморнее, а глаза глядели странно, прямо мне в лицо, и, я вам даю честное слово, даже у гончих, когда они догоняют волка, я никогда не видел таких поражающих, уничтожающих глаз! Выражение их я отлично понял, когда она среди урока вдруг стиснула зубы и процедила:
– Ненавижу! О, если б вы, гадкий, отвратительный, знали, как я вас ненавижу, как мне противна ваша стриженая голова, ваши пошлые, оттопыренные уши!
Но тотчас же она испугалась и сказала:
– Это я не вам говорю, а повторяю роль…
Потом, господа, ночью я видел, как она подходила к моей постели и долго глядела мне в лицо. Она ненавидела страстно и уж не могла жить без меня. Созерцание моей ненавистной рожи стало для нее необходимостью. А то, помню, был прелестный летний вечер… Пахло сеном, была тишина и прочее. Светила луна. Я ходил по аллее и думал о вишневом варенье. Вдруг подходит ко мне бледная, прекрасная Зиночка, хватает меня за руку и, задыхаясь, начинает объясняться:
– О, как я тебя ненавижу! Никому я не желала столько зла, как тебе! Пойми это! Мне хочется, чтобы ты понял это!
Понимаете ли, луна, бледное лицо, дышащее страстью, тишина… даже мне, свиненку, стало приятно. Слушал я ее, глядел на ее глаза… Сначала мне было приятно и ново, но потом пробрал страх, я вскрикнул и сломя голову побежал в дом.
Я решил, что самое лучшее – это пожаловаться maman. И я пожаловался, рассказав кстати и о том, как Саша целовался с Зиночкой. Я был глуп и не знал последствий, иначе бы я оставил тайну при себе… Maman, выслушав меня, вспыхнула негодованием и сказала:
– Не твое дело говорить об этом, ты еще очень молод… Но, однако, какой пример для детей!
Моя maman была не только добродетельна, но и тактична. Она, чтобы не поднимать скандала, выжила Зиночку не сразу, а постепенно, систематически, как вообще выживают порядочных, но нетерпимых людей. Помню, когда уезжала от нас Зиночка, то последний ее взгляд, который она бросила на дом, был направлен к окну, где я сидел, и, уверяю вас, я до сих пор помню этот взгляд.
Зиночка скоро стала женою брата. Это Зинаида Николаевна, которую вы знаете. Потом я встретился с нею, когда уже был юнкером. При всем ее старании она никак не могла узнать в усатом юнкере ненавистного Петю, но всё же обошлась со мной не совсем по-родственному… И теперь даже, несмотря на мою добродушную плешь, смиренное брюшко и покорный вид, она всё еще косо глядит на меня и чувствует себя не в своей тарелке, когда я заезжаю к брату. Очевидно, ненависть так же не забывается, как и любовь… Чу! Я слышу, поет петух. Спокойной ночи! Милорд, на место!








