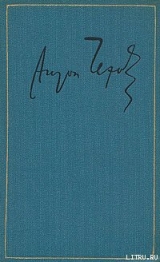
Текст книги "Рассказы. 1887"
Автор книги: Антон Чехов
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 41 страниц)
Происшествие
(Рассказ ямщика)
Вот в этом лесочке, что за балкой, случилась, сударь, история. Мой покойный батенька, царство им небесное, везли к барину пятьсот целковых денег; тогда наши и шепелевские мужики снимали у барина землю в аренду, так батенька везли деньги за полгода. Человек они были богобоязненный, писание читали, и чтобы обсчитать кого, или обидеть, или, скажем, не ровен час, обжулить – это не дай бог, и мужики их очень обожали, и когда нужно было кого в город послать – по начальству, или с деньгами, то их посылали. Были они выделяющее из обыкновенного, но, не в обиду будь сказано, сидела в них малодушная фантазия. Любили они муху зашибить. Бывало, мимо кабака проехать нет возможности: зайдут, выпьют стаканчик – и унеси ты мое горе! Знали они за собой эту слабость и, когда общественные деньги возили, то, чтоб не заснуть или случаем не обронить, завсегда брали с собой меня или сестрицу Анютку.
По совести сказать, всё наше семейство до водки очень охотники. Я грамотный, в городе в табачном магазине служил шесть лет и могу поговорить со всяким образованным господином, и разные хорошие слова могу говорить, но как я читал в одной книжке, что водка есть кровь сатаны, так это доподлинно верно, сударь. От водки я потемнел с лица, и нет во мне никакой сообразности, и вот, изволите видеть, служу в ямщиках, как неграмотный мужик, как невежа.
Так вот, рассказываю я вам, везли батенька деньги к барину, с ними Анютка ехала, а в те поры Анютке было семь годочков, не то восемь – дура дурой, от земли не видать. До Каланчика проехали благополучно, тверезы были, а как доехали до Каланчика да зашли к Мойсейке в кабак, началась у них фантазия эта самая. Выпили они три стаканчика и давай похваляться при народе:
– Человек, говорят, я небольшой, простой, а в кармане пятьсот целковых; захочу, говорят, так и кабак, и всю посуду, и Мойсейку с его жидовкой и жиденятами куплю. Всё, говорят, могу купить и выкупить.
Этаким, значит, манером пошутили, а потом этого стали жаловаться:
– Беда, говорят, православные, быть богатым человеком, купцом или вроде. Нет денег – нет и заботы, есть деньги – держись всё время за карман, чтоб злые люди не украли. Страшно жить на свете, у которого денег много.
Пьяный народ, конечно, слушал, смекал и на ус себе мотал. А тогда тут на Каланчике чугунку строили и всякой швали и босоногой команды было видимо-невидимо, словно саранчи. Батенька потом спохватились, да уж поздно было. Слово не воробей, вылетит – не поймаешь. Едут они, сударь, лесочком, и вдруг это самое, кто-то сзади верхом скачет. Батенька были не робкого десятка, – этого нельзя сказать, но усумнились; там, в лесочке, дорога непроезжая, только сено да дрова возят, и скакать там некому и незачем, особливо в рабочую пору. За хорошим делом не поскачешь.
– Как будто погоня, – говорят батенька Анютке, – уж больно шибко скачут. В кабаке-то надо было мне молчать, типун мне на язык. Ой, дочка, чует мое сердце, тут что-то недоброе!
Пораздумались они малое время насчет своего опасного положения и говорят сестрице моей Анютке:
– Дело выходит неосновательное, может, и в самом деле погоня. Как-никак, милая Аннушка, возьми-ка ты, брат, деньги, схорони их себе в подол и поди за куст, спрячься. Не ровен час, если нападут, проклятые, так ты беги к матери и отдай ей деньги, пускай она их старшине снесет. Только ты, гляди, никому на глаза не попадайся, беги где лесом, где балочкой, чтоб тебя никто не увидел. Беги себе, да бога милосердного призывай. Христос с тобой!
Батенька сунули Анютке узелок с деньгами, а она выглядела куст, какой погуще, и спряталась. Погодя немного подскочили к батеньке трое верховых; один здоровый, мордастый, в кумачовой рубахе и больших сапогах, и другие два оборванные, ошарпанные, знать, с чугунки. Как батенька сумневались, так и вышло, сударь, действительно. Тот, что в кумачовой рубахе, мужик здоровый, сильный, выделяющее из обыкновенного, лошадь остановил, и все трое принялись за батеньку.
– Стой, такой-сякой! Где деньги?
– Какие такие деньги? Пошел к лешему!
– А те деньги, что барину везешь, за аренду! Давай, такой-сякой, чёрт лысый, а то душу загубим, пропадешь без покаяния!
И начали они над батенькой свою подлость показывать, а батенька заместо того, чтоб просить их, плакать или что, рассердились и начали их отделывать, по всей, значит, строгости.
– Что вы, говорят, окаянные, пристали? Сволочной вы народ, бога в вас нет, нет на вас холеры! Не денег вам надо, а розог, чтоб потом года три спина чесалась. Уходите, болваны, а то обороняться стану! У меня пистолет шестистволка за пазухой есть!
А разбойники от таких слов еще пуще, и стали бить батеньку чем попадя.
Обыскали они всю повозку, обшарили всего батеньку и даже сапоги с него сняли; когда увидели, что от битья батенька только пуще ругаются, стали они его на разные манеры мучить. Анютка тем временем сидела за кустом и, сердечная, всё видела. Когда уж увидела, что батенька лежат на земле и храпят, схватилась она с места и что есть духу побежала где кустиком, где балочкой, назад к дому. Девчонка она была малая, без всякого понятия, дороги не знала и бежала так, куда глаза глядят. До дому было верст девять. Другой бы в один час добежал, а малое дитя, известно, шаг вперед, два в сторону, да и не всякое тебе может босыми ногами по лесным колючкам; тоже надо привычку иметь, а наши девчонки всё, бывало, на печке гомозятся или на дворе, а в лес боялись бегать.
К вечеру Анютка кое-как добежала до жилья, глядит – чья-то изба. А то была изба лесничего, за Сухоруковым, в казенном лесу – купцы тогда арендовали, уголь жгли. Постучалась. Выходит к ней баба, жена лесника. Анютка сейчас, первое дело, в слезы и объяснила ей всё, как есть, всё начистоту, и даже про деньги объяснила. Лесничиха разжалобилась.
– Сердечная ты моя! Ягодка! Это тебя, такую махонькую, бог сохранил! Деточка моя родная! Пойдем в избу, я тебе хоть поесть дам!
Значит, стала подъезжать к Анютке, покормила ее, напоила и даже поплакала с ей вместе и так ее разуважила, что девчонка даже, подумай, узелок ей с деньгами отдала.
– Я, ясочка, спрячу, а завтра, – говорит, – поутру отдам и до дому тебя провожу, касатка.
Взяла баба деньги, а Анютку уложила спать на печке, где о ту пору сушились веники. И на этой самой печке, на вениках, спала дочка лесника, такая же махонькая, как и наша Анютка. И потом Анютка нам рассказывала: дух такой от веников был, медом пахло! Легла Анютка, а спать не может, потихоньку плачет: батеньку жалко и страшно. Только, сударь, проходит час-другой, и видит она, в избу входят те три разбойника, что батеньку мучили. Вот тот, что мордастый в кумачовой рубахе, атаман ихний, подходит к бабе и говорит:
– Ну, жена, только даром душу загубили. Нынче, – говорит, – в обед мы человека убили. Убить-то убили, а денег ни гроша не нашли.
Стало быть, этот-то, в кумачовой рубахе, лесничихин муж выходит.
– Пропал задаром человек, – говорят его товарищи, оборванные, – понапрасну мы грех на душу приняли.
Лесничиха поглядела на всех трех и усмехается.
– Чего, дура, смеешься?
– А то смеюсь, что вот я и души не сгубила, и греха на душеньку свою не принимала, а деньги нашла.
– Какие деньги? Что брешешь?
– А вот погляди, как я брешу.
Лесничиха развязала узелок и показала им, окаянная, деньги, потом рассказала всё, как пришла к ей Анютка, как говорила Анютка, и прочее. Душегубы обрадовались, стали делиться промеж себя, чуть не подрались, потом, значит, сели за стол трескать. А Анютка лежит, бедная, слышит все ихние слова и трясется, как жид на сковороде. Что тут делать? И из ихних слов она узнала, что батенька померли и лежат поперек дороги, и мерещится ей, глупенькой, будто бедного батеньку едят волки и собаки, будто лошадь наша ушла далеко в лес и ее тоже волки съели, и будто саму Анютку за то, что денег не уберегла, в острог посадят, бить будут.
А разбойники налопались и послали бабу за водкой. Пять рублей ей дали, чтобы и водки купила и сладкого вина. Пошло у них на чужие деньги и пьянство и песни. Пили, пили, собаки, и опять бабу послали, чтоб, значит, пить без конца краю.
– Будем до утра гулять! – кричат. – Денег у нас теперь много, жалеть нечего! Пей, да ума не пропивай!
Этак к полночи, когда все были здорово урезавши, баба побежала за водкой третий раз, а лесник прошелся раза два по избе, а сам шатается.
– А что, – говорит, – братцы, ведь девчонку прибрать надо! Ежели мы ее так оставим, так она на нас будет первая доказчица.
Посудили, порядили и так решили: не быть Анютке живой – зарезать. Известно, зарезать невинного младенца страшно, за такое дело нешто пьяный возьмется или угорелый. Может, с час спорили, кому убивать, друг дружку нанимали, чуть не подрались опять и – никто не согласен; тогда и бросили жребий. Леснику досталось. Выпил он еще полный стакан, крякнул и пошел в сени за топором.
А Анютка девка не промах. Даром что дура, а надумала, скажи на милость, такое, что не всякому и грамотному на ум вскочит. Может, господь над ней сжалился и на это время рассудок ей послал, а может, поумнела от страха, а только на поверку вышло, что она хитрей всех. Встала потихоньку, богу помолилась, взяла тулупчик тот самый, что ее лесничиха укрыла; и, понимаешь, с ней на печке лесникова девочка лежала, одних годочков с ней, – она эту девочку укрыла тулупчиком, а с нее взяла бабью кофту и накинула на себя. Поменялась, значит. Накинула себе на голову и так прошла через избу мимо пьяниц, а те думали, что это лесникова дочка, и даже не взглянули. На ее счастье бабы в избе не было, за водкой пошла, а то бы, пожалуй, не миновать ей топора, потому бабий глаз видючий, как у кобца. У бабы глаз острый.
Вышла Анютка из избы и давай бог ноги куда глаза глядят. Всю ночь по лесу путалась, а утром выбралась на опушку и побежала по дороге. Дал бог, повстречался ей писарь Егор Данилыч, царство небесное. Шел он с удочками рыбу ловить. Рассказала ему Анютка всё дочиста. Он скорей назад – до рыбы ли тут? – в деревню, собрал мужиков и – айда к леснику!
Пришли туда, а душегубы все вповалку, натрескавшись, лежат, где кто упал. С ними и пьяная баба. Обыскали их первым делом, забрали деньги, а когда поглядели на печку, то – с нами крестная сила! Лежит лесникова девочка на вениках, под тулупчиком, а голова вся в крови, топором зарублена. Побудили мужиков и бабу, связали руки назад и повели в волость. Баба воет, а лесник только мотает головой и просит:
– Опохмелиться бы, братцы! Голова болит.
Потом своим порядком суд был в городе, наказывали по всей строгости законов.
Так вот какая история случилась, сударь, за тем лесом, что за балкой. Уже еле видать его, садится за ним солнышко красное. Разговорился я с вами, а лошади встали, словно и они слушают. Эй вы, милые, хорошие! Бегите веселей, барин, господин хороший, на чай пожалует! Эй вы, голуби!
Следователь
Уездный врач и судебный следователь ехали в один хороший весенний полдень на вскрытие. Следователь, мужчина лет тридцати пяти, задумчиво глядел на лошадей и говорил:
– В природе есть очень много загадочного и темного, но и в обыденной жизни, доктор, часто приходится наталкиваться на явления, которые решительно не поддаются объяснению. Так, я знаю несколько загадочных, странных смертей, причину которых возьмутся объяснить только спириты и мистики, человек же со свежей головой в недоумении разведет руками и только. Например, я знаю одну очень интеллигентную даму, которая предсказала себе смерть и умерла без всякой видимой причины именно в назначенный ею день. Сказала, что умрет тогда-то, и умерла.
– Нет действия без причины, – сказал доктор. – Есть смерть, значит, есть и причина. А что касается предсказания, то ведь тут мало диковинного. Все наши дамы и бабы обладают даром пророчества и предчувствия.
– Так-то так, но моя дама, доктор, совсем особенная. В ее предсказании и смерти не было ничего ни бабьего, ни дамского. Молодая женщина, здоровая, умница, без всяких предрассудков. У нее были такие умные, ясные, честные глаза; лицо открытое, разумное, с легкой, чисто русской усмешечкой во взгляде и на губах. Дамского, или бабьего, если хотите, в ней было только одно – красота. Вся стройная, грациозная, как вот эта береза, волоса удивительные! Чтобы она не оставалась для вас непонятной, прибавлю еще, что это был человек, полный самой заразительной веселости, беспечности и того умного, хорошего легкомыслия, которое бывает только у мыслящих, простодушных, веселых людей. Может ли тут быть речь о мистицизме, спиритизме, даре предчувствия или о чем-нибудь подобном? Над всем этим она смеялась.
Докторская бричка остановилась около колодца. Следователь и доктор напились воды, потянулись и стали ждать, когда кучер кончит поить лошадей.
– Ну-с, отчего же умерла та дама? – спросил доктор, когда бричка опять покатила по дороге.
– Умерла она странно. В один прекрасный день входит к ней муж и говорит, что недурно бы к весне продать старую коляску, а вместо нее купить что-нибудь поновее и легче, и что не мешало бы переменить левую пристяжную, а Бобчинского (была у мужа такая лошадь) пустить в корень.
Жена выслушала его и говорит:
– Делай, как знаешь, мне теперь всё равно. К лету я буду уже на кладбище.
Муж, конечно, пожимает плечами и улыбается.
– Я нисколько не шучу, – говорит она. – Объявляю тебе серьезно, что я скоро умру.
– То есть как скоро?
– Сейчас же после родов. Рожу и умру.
Словам этим муж не придал никакого значения. Он не верит ни в какие предчувствия и к тому же отлично знает, что женщины в интересном положении любят капризничать и вообще предаваться мрачным мыслям. Прошел день, и жена опять ему о том, что умрет тотчас же после родов, и потом каждый день всё о том же, а он смеялся и обзывал ее бабой, гадалкой, кликушей. Близкая смерть стала idйe fixe жены. Когда муж не слушал ее, она шла в кухню и говорила там о своей смерти с няней и кухаркой:
– Не много еще мне осталось жить, нянюшка. Как только рожу, сейчас же и умру. Не хотелось бы умирать так рано, да уж знать судьба моя такая.
Нянька и кухарка, конечно, в слезы. Бывало, приедет к ней попадья или помещица, а она отведет ее в угол и давай душу отводить – всё о том же, о близкой смерти. Говорила она серьезно, с неприятной улыбкой, даже со злым лицом, не допуская возражений. Была она модницей, щеголихой, но тут в виду скорой смерти всё бросила и стала ходить неряхой; уже не читала, не смеялась, не мечтала вслух… Мало того, поехала с теткой на кладбище и облюбовала там место для своей могилки, а дней за пять до родов написала завещание. И имейте в виду, всё это творилось при отличном здоровье, без малейших намеков на болезнь или какую-нибудь опасность. Роды – трудная штука, иногда смертельная, но у той, про которую я вам говорю, всё обстояло благополучно и бояться было решительно нечего. Мужу в конце концов вся эта история надоела. Как-то за обедом он рассердился и спросил:
– Послушай, Наташа, когда же будет конец этим глупостям?
– Это не глупости. Я говорю серьезно.
– Вздор! Я бы тебе советовал перестать глупить, чтобы потом самой не было совестно.
Но вот наступили и роды. Муж привез из города самую лучшую акушерку. Роды были у жены первые, но сошли как нельзя лучше. Когда всё кончилось, роженица пожелала взглянуть на младенца. Поглядела и сказала:
– Ну, а теперь и умереть можно.
Простилась, закрыла глаза и через полчаса отдала богу душу. До самой последней минуты она была в сознании. По крайней мере, когда ей вместо воды подали молока, то она тихо прошептала:
– Зачем же вы мне вместо воды молока даете?
Так вот какая история. Как предсказала, так и умерла.
Следователь помолчал, вздохнул и сказал:
– Вот и объясните, отчего она умерла? Уверяю вас честным словом, это не выдумка, а факт.
Размышляя, доктор поглядел на небо.
– Надо было бы вскрыть ее, – сказал он.
– Зачем?
– А затем, чтобы узнать причину смерти. Не от предсказания же своего она умерла. Отравилась, по всей вероятности.
Следователь быстро повернулся лицом к доктору и, прищурив глаза, спросил:
– Из чего же вы заключаете, что она отравилась?
– Я не заключаю, а предполагаю. Она хорошо жила с мужем?
– Гм… не совсем. Недоразумения начались вскоре же после свадьбы. Было такое несчастное стечение обстоятельств. Покойница однажды застала мужа с одной дамой… Впрочем, она скоро простила ему.
– А что раньше было, измена мужа или появление идеи о смерти?
Следователь пристально поглядел на доктора, как бы желая разгадать, зачем он задает такой вопрос.
– Позвольте, – ответил он не сразу. – Позвольте, дайте припомнить. – Следователь снял шляпу и потер себе лоб. – Да, да… она стала говорить о смерти именно вскорости после того случая. Да, да.
– Ну, вот видите ли… По всей вероятности, она тогда же решила отравиться, но так как ей, вероятно, вместе с собой не хотелось убивать и ребенка, то она отложила самоубийство до родов.
– Едва ли, едва ли… Это невозможно. Она тогда же простила.
– Скоро простила, значит, думала что-нибудь недоброе. Молодые жены прощают нескоро.
Следователь насильно улыбнулся и, чтобы скрыть свое слишком заметное волнение, стал закуривать папиросу.
– Едва ли, едва ли… – продолжал он. – Мне и в голову не приходила мысль о такой возможности… Да и к тому же… он не так уж виноват, как кажется… Изменил как-то странно, сам того не желая: пришел домой ночью навеселе, хочется приласкать кого-нибудь, а жена в интересном положении… а тут, чёрт ее побери, навстречу попадается дама, приехавшая погостить на три дня, бабенка пустая, глупая, некрасивая. Это даже и изменой считать нельзя. Жена и сама так взглянула на это и скоро… простила; потом об этом и разговора не было…
– Люди без причины не умирают, – сказал доктор.
– Это так, конечно, но все-таки… не могу допустить, чтобы она отравилась. Но странно, как это до сих пор мне в голову не приходило о возможности такой смерти!.. И никто не думал об этом! Все были удивлены, что ее предсказание сбылось, и мысль о возможности… такой смерти была далекой… Да и не может быть, чтоб она отравилась! Нет!
Следователь задумался. Мысль о странно умершей женщине не оставляла его и во время вскрытия. Записывая то, что диктовал ему доктор, он мрачно двигал бровями и тер себе лоб.
– А разве есть такие яды, которые убивают в четверть часа, мало-помалу и без всякой боли? – спросил он у доктора, когда тот вскрывал череп.
– Да, есть. Морфий, например.
– Гм… Странно… Помню, она держала у себя что-то подобное… Но едва ли!
На обратном пути следователь имел утомленный вид, нервно покусывал усы и говорил неохотно.
– Давайте немного пешком пройдемся, – попросил он доктора. – Надоело сидеть.
Пройдя шагов сто, следователь, как показалось доктору, совсем ослабел, как будто взбирался на высокую гору. Он остановился и, глядя на доктора странными, точно пьяными глазами, сказал:
– Боже мой, если ваше предположение справедливо, то ведь это… это жестоко, бесчеловечно! Отравила себя, чтобы казнить этим другого! Да разве грех так велик! Ах, боже мой! И к чему вы мне подарили эту проклятую мысль, доктор!
Следователь в отчаянии схватил себя за голову и продолжал:
– Это я рассказывал вам про свою жену, про себя. О, боже мой! Ну, я виноват, я оскорбил, но неужели умереть легче, чем простить! Вот уж именно бабья логика, жестокая, немилосердная логика. О, она и тогда при жизни была жестокой! Теперь я припоминаю! Теперь для меня всё ясно!
Следователь говорил и – то пожимал плечами, то хватал себя за голову. Он то садился в экипаж, то шел пешком. Новая мысль, сообщенная ему доктором, казалось, ошеломила его, отравила; он растерялся, ослабел душой и телом, и когда вернулись в город, простился с доктором, отказавшись от обеда, хотя еще накануне дал слово доктору пообедать с ним вместе.
Обыватели
Десятый час утра. Иван Казимирович Ляшкевский, поручик из поляков, раненный когда-то в голову и теперь живущий пенсией в одном из южных губернских городов, сидит в своей квартире у настежь открытого окна и беседует с зашедшим к нему на минутку городовым архитектором Францем Степанычем Финкс. Оба высунули свои головы из окна и глядят в сторону на ворота, около которых на лавочке сидит домохозяин Ляшкевского, пухленький обыватель в расстегнутой жилетке, в широких синих панталонах и с отвислыми потными щечками. Обыватель о чем-то глубоко задумался и рассеянно ковыряет палочкой носок своего сапога.
– Удивительный, я вам скажу, народ! – ворчит Ляшкевский, со злобой глядя на обывателя. – Вот как сел на лавочку, так и будет, проклятый, сидеть сложа руки до самого вечера. Решительно ничего не делают, дармоеды и тунеядцы! Добро бы, у тебя, подлеца этакого, в банке деньги лежали или был свой хутор, где бы за тебя другие работали, а то ведь ни шиша за душой нет, ешь чужое, задолжал кругом, семью голодом моришь, шут бы тебя взял! Просто, вы не поверите, Франц Степаныч, иной раз такая злость берет, что выскочил бы из окна и отхлестал бы его, каналью, плетью. Ну, отчего ты не работаешь? Зачем сидишь?
Обыватель равнодушно взглядывает на Ляшкевского, хочет что-то ответить, но не может; зной и лень парализовали его разговорную способность… Лениво зевнув, он крестит рот и поднимает глаза к небу, где, купаясь в горячем воздухе, летают голуби.
– Нельзя строго судить, мой почтеннейший, – вздыхает Финкс, вытирая платком свою большую лысую голову. – Войдите тоже в их положение: дела теперь тихие, всюду безработица, неурожаи, в торговле застой.
– А, боже мой, как вы рассуждаете! – возмущается Ляшкевский, сердито запахивая полы халата. – Допустим, что служить и торговать негде, но отчего он у себя дома не работает, чёрт бы его подрал! Послушай, разве у тебя дома нет работы? Погляди, скот! Крыльцо у тебя развалилось, тротуар ползет в канаву, забор подгнил. Взял бы да и починил всё это, а если не умеешь, то ступай на кухню жене помогать. Жена каждую минуту бегает то за водой, то помои выносит. Отчего бы тебе, подлецу, вместо нее не сбегать? Да вы имейте еще в виду, Франц Степаныч, что у него десятины три сада и огород при доме, у него есть помещение для свиней и птицы, но всё это пропадает даром, без всякой пользы. Сад бурьяном зарос и почти высох, а на огороде мальчишки в мячики играют. Ну, не скот ли? Я вам скажу, у меня при квартире только полдесятины, но у меня вы всегда найдете и редиску, и салат, и укроп, и лук, а этот мерзавец покупает всё это на базаре.
– Русский человек, ничего не поделаешь! – говорит Финкс, снисходительно улыбаясь. – У русского кровь такая… Очень, очень ленивые люди! Если б всё это добро отдать немцам или полякам, то вы через год не узнали бы города.
Обыватель в синих панталонах подзывает к себе девчонку с решетом, покупает у нее на копейку подсолнухов и начинает «лускать».
– Пся крев! – злится Ляшкевский. – Вот только этим и занимаются! Подсолнухи лускают да о политике говорят! О, чёрт подери!
Злобно оглядывая синие панталоны, Ляшкевский постепенно вдохновляется и входит в такой азарт, что на губах его выступает пена. Говорит он с польским акцентом, ядовито отчеканивая каждый слог; под конец мешочки под его глазами надуваются, он оставляет русских подлецов, мерзавцев и каналий в покое и, тараща глаза, кашляя от напряжения, начинает сыпать польскими ругательствами:
– Лайдаки, пся крев! Цоб их дьябли везли!
Обыватель отлично слышит эту брань, но, судя по выражению его помятой фигурки, она не трогает его. По-видимому, он давно уже привык к ней, как к жужжанью мух, и находит излишним протестовать. Финксу в каждый визит приходится слушать на тему о ленивых, никуда не годных обывателях и каждый раз аккуратно одно и то же.
– Однако… мне пора! – говорит он, вспомнив, что ему некогда. – Прощайте!
– Куда же вы?
– Я ведь к вам только на минутку зашел. В женской гимназии в подвале стена треснула, так меня просили прийти поскорее посмотреть. Надо сходить.
– Гм… А я велел Варваре самовар поставить! – удивляется Ляшкевский. – Погодите, напьемся чаю, тогда и пойдете.
Финкс послушно кладет шляпу на стол и остается пить чай. За чаем Ляшкевский доказывает, что обыватели погибли уже безвозвратно, что есть только один выход – забрать их всех огулом и под строгим конвоем отправить на казенные работы.
– Да помилуйте! – горячится он. – Вы спросите, чем живет вот этот гусь, что сидит! Он отдает мне свой дом под квартиру за семь рублей в месяц да на именины ходит – только этим и сыт, прохвост, цоб его дьябли везли! Нет ни заработков, ни доходов. Мало того, что они лентяи и дармоеды, но еще и мошенники. То и дело берут из городского банка деньги, а куда девают их? Пустятся в какую-нибудь аферу вроде отправки быков в Москву или устройства маслобойни по новому способу, а чтобы быков в Москву гнать или масло бить, надо иметь голову на плечах, ну, а у этих каналий на плечах тыквы. Конечно, всякая афера к чёрту… Потратят зря деньги, запутаются и показывают потом банку кукиши. Что с них возьмешь? Дома заложены и перезаложены, другого имущества никакого – давно уже всё съедено и пропито. Девять десятых измошенничались, подлецы! Задолжать и не отдать – это у них правило. Городской банк трещит по их милости!
– А я вчера у Егорова был, – перебивает Финкс поляка, желая переменить разговор. – Представьте, выиграл у него в пикет шесть с полтиной.
– Я за пикет остался, кажется, вам что-то должен, – вспоминает Ляшкевский. – Надо бы отыграться. Не хотите ли одну партийку?
– Разве только одну, – мнется Финкс. – Мне ведь в гимназию спешить нужно.
Ляшкевский и Финкс садятся у открытого окна и начинают партию в пикет. Обыватель в синих панталонах аппетитно потягивается, и со всего его тела сыплется на землю скорлупа подсолнухов. В это время из ворот vis-a-vis показывается другой обыватель, в желто-серой помятой коломенке и с длинной бородой. Он ласково щурит глаза на синие панталоны и кричит:
– С добрым утром, Семен Николаич! Имею честь вас с четвергом поздравить!
– И вас также, Капитон Петрович!
– Пожалуйте ко мне на лавочку! У меня холодок!
Синие панталоны кряхтя поднимаются и, переваливаясь с боку на бок, как утка, идут через улицу.
– Терц-мажор… – бормочет Ляшкевский, – Карты от дамы… пять и пятнадцать… О политике, подлецы, говорят… Слышите? Про Англию начали… У меня шесть червей.
– У меня семь пик. Карты мои.
– Да, карты ваши. Слышите? Биконсфильда ругают. Того не знают, свиньи, что Биконсфильд давно уже умер.[100]100
Биконсфильда ругают. Того не знают, свиньи, что Биконсфильд давно уже умер. – Бенджамин Дизраэли Биконсфилд (1804—1881) – лорд, в 1868 и 1874—1880 годах премьер-министр Англии, консерватор, вдохновитель английской колонизаторской политики. Видел в России главное препятствие к осуществлению захватнических планов Англии на Востоке, вел враждебную России политику, поддерживал Турцию, выступал против освободительного движения славянских народов.
[Закрыть] Значит, у меня двадцать девять… Вам ходить…
– Восемь… девять… десять… Да, удивительный народ эти русские! Одиннадцать… двенадцать. Русская инертность – единственная на всем земном шаре.
– Тридцать… тридцать один. Взять бы, знаете, хорошую плетку, выйти да и показать им Биконсфильда. Ишь ведь как языками брешут! Брехать легче, чем работать. Стало быть, вы даму треф сбросили, а я-то и не сообразил.
– Тринадцать… четырнадцать… Невыносимо жарко! Каким надо быть чугуном, чтобы сидеть в такую жару на лавочке на припеке! Пятнадцать.
За первой партией следует вторая, за второй третья… Финкс проигрывает, мало-помалу входит в картежный азарт и забывает про треснувшие стены гимназического подвала. Ляшкевский играет и то и дело поглядывает на обывателей. Ему видно, как те, усладивши друг друга беседой, идут в открытые ворота, проходят через грязный двор и садятся в жидкой тени под осиной. В первом часу жирная кухарка с бурыми икрами расстилает перед ними что-то вроде детской простыни с коричневыми пятнами и подает обед. Они едят деревянными ложками, отмахиваются от мух и продолжают о чем-то говорить.
– Это чёрт знает что такое! – возмущается Ляшкевский. – Я очень рад, что у меня нет ружья или револьвера, иначе бы я стрелял в этих кляч. У меня четыре валета – четырнадцать… Карты ваши… Ей-богу, у меня даже судороги в икрах делаются. Не могу равнодушно видеть этих архаровцев!
– Вы не волнуйтесь, вам вредно.
– Да помилуйте, тут камень выйдет из терпения!
Накушавшись, обыватель в синих панталонах, изнеможенный, изнуренный, спотыкаясь от лени и излишней сытости, идет через улицу к себе и в бессилии опускается на свою лавочку. Он борется с дремотой и комарами и поглядывает вокруг себя с таким унынием, точно с минуты на минуту ожидает своей кончины. Его беспомощный вид окончательно выводит Ляшкевского из терпения. Поляк высовывается из окна и, брызжа пеной, кричит ему:
– Натрескался? А, мамочка! Прелесть! Налопался и теперь не знает, куда девать свой животик! Уйди ты, проклятый, с моих глаз! Провались!
Обыватель кисло взглядывает на него и вместо ответа шевелит только пальцами. Мимо него проходит знакомый гимназист с ранцем на спине. Остановив его, обыватель долго думает, о чем бы спросить, и спрашивает: – Ну, ну что?
– Ничего.
– Как же так ничего?
– Да так-таки и ничего.
– Гм… А какая наука самая трудная?
– Смотря для кого, – пожимает плечами гимназист.
– Так… А… как будет по-латынски дерево?
– Арбор.
– Ага… И всё ведь это надо знать! – вздыхают синие панталоны. – Во всё вникать нужно… Дела, дела! Мамашенька здоровы?
– Ничего, благодарю вас.
– Так… Ну, ступай.
Проиграв два рубля, Финкс вспоминает про гимназию и приходит в ужас.
– Батюшки, уже три часа! – восклицает он. – Как, однако, я у вас засиделся! Прощайте, побегу!
– Пообедайте уж заодно у меня, тогда идите, – говорит Ляшкевский. – Успеете.
Финкс остается, но с условием, что обед будет продолжаться не долее десяти минут. Пообедав же, он минут пять сидит на диване и думает о треснувшей стене, потом решительно кладет голову на подушку и оглашает комнату пронзительным носовым свистом. Пока он спит, Ляшкевский, не признающий послеобеденного сна, сидит у окошка, смотрит на дремлющего обывателя и брюзжит:
– У, пся крев! И как это ты не околеешь от лени! Ни труда, ни нравственных и умственных интересов, а одни только растительные процессы… Гадость! Тьфу!
В шесть часов просыпается Финкс.
– Поздно уж в гимназию, – говорит он, потягиваясь. – Придется завтра сходить, а теперь… отыграться, что ли? Давайте еще одну партию…
Проводив в десятом часу вечера гостя, Ляшкевский долго глядит ему вслед и говорит:
– Прроклятый, целый день просидел без всякого дела… Только жалованье даром получают, чёрт бы их побрал… Немецкая свинья…
Он выглядывает в окно, но обывателя уже нет: ушел спать. Ворчать не на кого, и он впервые за весь день закрывает свой рот, но проходит минут десять, он не выдерживает охватывающей его тоски и начинает ворчать, толкая старое, ошарпанное кресло:
– Только место занимаешь, старая дрянь! Давно бы пора тебя сжечь, да всё забываю приказать порубить. Безобразие!








